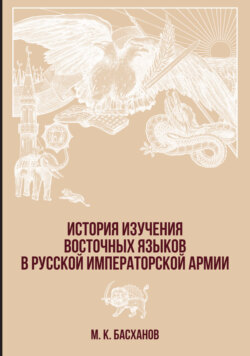Читать книгу История изучения восточных языков в русской императорской армии - М. К. Басханов - Страница 8
Глава I
Становление системы подготовки военно-востоковедных кадров русской императорской армии (1789–1874)
Неплюевское военное училище
ОглавлениеК периоду царствования императора Александра I относится создание в Оренбурге Неплюевского военного училища[20], которое в течение продолжительного периода времени готовило военно-востоковедные кадры для нужд Отдельного Оренбургского корпуса, а затем и для Оренбургского и Туркестанского военных округов. Училище открыто по Указу императора Александра I от 9 февраля 1824 г. и получило имя бывшего начальника Оренбургской экспедиции[21] Ивана Ивановича Неплюева (1693–1773), много сделавшего для развития Оренбургского края, в то время лишенного «самых примитивных условий общественного благоустройства» и находившегося в состоянии, которое вызывало «постоянную тревогу у русского правительства за безопасность разбросанных там поселений»[22]. Наследники Неплюева также пожертвовали крупные денежные средства (11 000 руб.) на создание первого в Оренбургском крае учебного заведения. 24 февраля 1824 г. первым директором училища был назначен подполковник Г. Ф. Генс.
2 февраля 1825 г. военный губернатор Оренбургского края генерал от инфантерии граф П. К. Эссен торжественно открыл училище. Новое учебное заведение существенно отличалось от прочих учебных заведений военного ведомства как по своим задачам, организации и финансированию, так и по учебной программе и составу учащихся. Цель нового учебного заведения заключалась в том, чтобы «способствовать сближению азиатцев с русскими, внушать первым любовь и доверие к русскому правительству и доставлять этому отдаленному краю просвещенных чиновников по разным частям военной и гражданской службы»[23]. В училище принимались не только дети русских офицеров и чиновников, служивших в Оренбургском крае, но и «дети киргизов, казаков, башкир, мещеряков и разного звания татар». Одной из главных задач училища была подготовка военно-востоковедных кадров для нужд Отдельного Оренбургского корпуса и администрации края. «Училище сие, – отмечалось во время официальной церемонии открытия училища, – есть первое в своем роде. Преподавание восточных языков составляет один из главных предметов обучения. Образование переводчиков, офицеров для иррегулярных войск[24] здешнего корпуса и распространение просвещения между азиатцами есть цель сего заведения»[25].
При открытии училище было рассчитано на 80 учеников, но в первый год своего существования имело лишь 20 воспитанников, половина которых была из числа мусульман. Для последних в учебную программу дополнительно вводилось изучение Корана и правил мусульманского вероисповедания. Училище состояло из трех классов: нижнего, среднего и верхнего; продолжительность обучения в каждом классе составляла два года. Из восточных языков преподавались арабский, персидский и татарский[26]. В нижнем классе преподавали грамматику восточных языков, в среднем – синтаксис и написание сочинений по грамматическим правилам, в верхнем – чтение литературных произведений восточных авторов на языке оригинала[27]. Учебное время распределялось следующим образом: в нижнем классе на татарский язык отводилось шесть часов в неделю, на арабский и персидский – по три часа[28].
В качестве учителей восточных языков были приглашены носители языка, предварительно прошедшие аттестационный экзамен. Учителем татарского языка был назначен сотник 9-го Башкирского кантона[29] Хусейн Абдусалямов (преподавал в училище до самой своей смерти в 1828 г.). Преподавание персидского языка было доверено «находящемуся при мечети Менового двора» имаму Абдул-Гасан Сардакову[30].
Среди воспитанников Неплюевского военного училища и Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса особо следует отметить тех генералов и офицеров, которые оставили заметный след в истории русского военного востоковедения – генералы от инфантерии В. Д. Дандевиль и Н. Г. Залесов, генерал-лейтенант В. А. Карликов, генерал-майоры Д. А. Мельников, Р. Ш.-А. Сыртланов, А. К. Разгонов, полковник Д. И. Ливкин, подполковники М. А. Полумордвинов, Г. А. Панкратьев, Н. Н. Стромилов и др.
Среди выпускников Неплюевского военного училища были Мир-Салих Мирсалимович Бекчурин, Салих-Джан Кукляшев и Искандер Батыршин, которые затем преподавали в училище восточные языки. Бекчурин составил несколько учебников, среди которых наиболее известно «Начальное руководство к изучению арабского, персидского и татарского языков с наречиями бухарцев, башкир, киргизов и жителей Туркестана»[31]. Бекчурин также явился автором «Нового самоучителя татарского языка»[32] и казахского букваря. Батыршин служил драгоманом в Оренбургской пограничной комиссии, в 1858 г. в качестве переводчика участвовал в составе военно-дипломатической миссии Генерального штаба полковника Н. П. Игнатьева в Хиву и Бухару. Кукляшев по окончании филологического факультета (разряд восточной словесности) Казанского университета был назначен в 1836 г. в Оренбургское Неплюевское военное училище преподавателем арабского и персидского языков. Продолжительное время служил в составе Оренбургской пограничной комиссии переводчиком восточных языков. Известен как составитель татарской хрестоматии и словаря[33].
Подготовка переводчиков и толмачей в Неплюевском военном училище продолжалась без особых изменений до преобразований, внесенных в деятельность училища Оренбургским военным губернатором П. П. Сухтеленом. В сентябре 1831 г. он поднял вопрос об изменениях как самого Положения об училище, так и его организации. В основу реорганизации были положены соображения, изложенные Г. Ф. Генсом в рапорте к П. П. Сухтелену (21 августа 1830 г.), в котором он считал программу училища несколько перегруженной и предлагал точнее сформулировать ее цели. Генс, назначенный 1 января 1825 г. председателем Оренбургской Пограничной комиссии (с оставлением в должности директора училища), высказался за расширение программы подготовки переводческих кадров для нужд Оренбургского края. Генс отмечал в этой связи: «Пограничная комиссия, имея их весьма ограниченное число, должна употреблять в сей должности людей разного сословия, недостаточного образования и, кроме всего, за редким исключением, магометан, на которых не всегда можно положиться, особенно в делах тайных»[34].
Основываясь на предложениях, высказанных Г. Ф. Генсом, П. П. Сухтелен в конце декабря 1831 г. направил в Совет о военно-учебных заведениях предложения по усовершенствованию учебной программы училища. Сухтелен предлагал сделать подготовку кадров более специализированной, в связи с чем считал необходимым разделить училище на два отделения – восточное и европейских наук. В первом отделении должны были обучаться «дети азиатцев и иноверцев», во втором – «русские, которые желают обучаться восточным языкам».
Новый проект училища и штаты были Высочайше утверждены 6 декабря 1840 г. По новому проекту, училище было выведено из подчинения Оренбургского генерал-губернатора и переподчинено Главному управлению военно-учебных заведений. Основные изменения затронули порядок преподавания европейских и восточных языков: было образовано два отделения – восточных и европейских языков. На восточном отделении при сохранении прежнего набора изучаемых языков произошло увеличение учебного времени, выделяемого для их изучения. В нижнем классе на изучение татарского языка отводилось в неделю двенадцать часов, в среднем классе – восемь и в верхнем (офицерском) классе – десять часов. Количество часов, отводимых на арабский и персидский языки, для всех трех классов было одинаковым – по пять часов в неделю. На отделении европейских языков вводилось преподавание французского и немецкого языков. На обоих отделениях преподавался русский язык, но на восточном отделении на него выделялось в два раза больше учебного времени. Кроме того, в программе восточного отделения отсутствовали такие предметы, как фортификация и артиллерия. Других существенных изменений учебная программа Неплюевского военного училища не претерпела и продолжала действовать вплоть до 1854 г., когда была введена новая программа. Окончившие восточное отделение прикомандировывались по линии пограничного управления в Оренбургском крае для занятия должностей, на которых было необходимо знание восточных языков.
С 1832 г. в училище татарский язык преподавал Мартиниан Иванович Иванов[35], который успешно совмещал преподавательскую деятельность с исполнением обязанностей переводчика при канцелярии военного губернатора. Иванов в качестве переводчика участвовал в Хивинском походе 1839–1840 гг., за свою деятельность во время похода был пожалован орденом Св. Станислава 3-й ст. В 1841–1842 гг. Иванов сопровождал в Петербург послов среднеазиатских ханов. Им были составлены «Татарская грамматика»[36] с «Татарской хрестоматией»[37] – лингвистические работы, способствовавшие распространению татарского литературного языка.
В апреле 1831 г. учитель арабского и персидского языков А. Сардаков вышел в отставку, и на его место был приглашен преподаватель Казанского университета П. И. Демезон (старший учитель в 1831–1836 гг.), впоследствии известный востоковед и исследователь Средней Азии. В 1836 г. Демезона, переведенного в Азиатский департамент МИД, сменил Салих-Джан Кукляшев.
В 1841 г. по инициативе директора училища Генерального штаба подполковника И. М. Маркова (вступил в должность в мае 1837 г.) в училище введены должности младших преподавателей восточных языков. Тем самым произошло подразделение преподавателей восточных языков на две категории – старших и младших. На должность последних были приглашены бывшие воспитанники училища, служащие Оренбургской Пограничной комиссии коллежские регистраторы Искандер Батыршин (татарский язык) и Василий Костромитинов (арабский и персидский языки). Костромитинов перед назначением на должность выдержал экзамен по восточным языкам в Санкт-Петербургском университете и был признан «способным к их преподаванию». В 1842 г. М. И. Иванов ушел в отставку по расстроенному здоровью, и место старшего преподавателя татарского языка занял В. Костромитинов. На должность младшего преподавателя арабского и персидского языков поступил М. Бекчурин.
В 1844 г. училище было преобразовано в Неплюевский кадетский корпус. В 1848 г. в России программы кадетских корпусов подверглись существенному изменению. В соответствии с ними, Неплюевский кадетский корпус был разделен на два эскадрона – первый и второй, с разными программами обучения. Для первого эскадрона была установлена программа, существовавшая в «европейском» отделении, а для второго – программа «азиатского» отделеления с изучением арабского, персидского и татарского языков[38]. В самостоятельные предметы были выделены физика, химия, механика, математическая и физическая география. Изменения коснулись и программ преподавания русской словесности и истории[39]. Однако каких-либо изменений в программе преподавания восточных языков не произошло. В 1854 г. было введено новое Положение о Неплюевском кадетском корпусе, по которому кроме трех ранее существовавших классов вводился «приготовительный» класс с двухгодичным обучением. В целях «ближайшего применения курса Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса к мирным потребностям Оренбургского края и к специальному кругу службы кадет» преподавание европейских языков в первом «европейском» отделении было прекращено, а взамен введено преподавание арабского, персидского и татарского языков[40]. Одновременно были увеличены штаты преподавателей восточных языков.
Летом 1857 г. в Неплюевский кадетский корпус был командирован из Петербурга чиновник штаба Е. И. В. главного начальника военно-учебных заведений статский советник В. Н. Семенов, в задачу которого входило изучение учебного процесса в корпусе и выработка необходимых рекомендаций по его совершенствованию. Необходимость улучшения учебной программы корпуса признавал и новый оренбургский и самарский губернатор генерал-адъютант А. А. Катенин, считавший необходимым приблизить ее к программам других военно-учебных заведений империи. При этом учитывалось и недовольство дворянства Оренбургской и особенно Самарской губерний действовавшей программой, тем, что обязательное изучение в 1-м эскадроне трех восточных языков – арабского, персидского и татарского, лишало их детей прав, которыми пользовались выпускники других подобных военно-учебных заведений, и они были вынуждены служить на пограничной линии и в башкирских кантонах, «где в удалении от общества, не находя для себя никакого умственного занятия, забывая все, чему учились, они поневоле коснеют в праздности»[41].
В. Н. Семенов по возвращении в Петербург представил проект (официально утвержден 30 января 1858 г.), согласно которому в Неплюевском кадетском корпусе сохранялась прежняя эскадронная организация, но было предложено, что в 1-й эскадрон будут приниматься только дети потомственных дворян, а во 2-й эскадрон – дети личных дворян, чиновников, духовенства, почетных граждан, купцов и «азиатцев». При этом детям потомственных дворян, желавшим изучать восточные языки, разрешалось поступать на учебу и во 2-й эскадрон. В виде поощрения для слушателей 2-го эскадрона было оставлено право для наиболее успешных в науках и поведении переводиться в 1-й эскадрон (с разрешения начальника края). Ввиду перегруженности предметами учебной программы 1-го эскадрона из нее были изъяты арабский и персидский языки и оставлены французский и татарский языки, один из которых являлся необязательным. Из учебной программы 2-го эскадрона изъят арабский язык, как «крайне трудный к изучению и малопригодный воспитанникам в будущем назначении их». Нетрудно заметить, что при такой организации корпуса и постановке учебной программы сословные ограничения выходили на первый план и ставили кадет, изучающих восточные языки, в положение изгоев. Это, безусловно, негативно отразилось на качестве подготовки военно-востоковедных кадров.
В связи с изменением учебной программы и упразднением преподавания арабского и персидского языков в 1-м эскадроне преподаватели этих языков С.-Д. Кукляшев и М. Бекчурин остались за штатом. С целью дать им возможность дослужить определенный для пенсии срок, по распоряжению А. А. Катенина, их оставили в корпусе еще на два с половиной года «для практических занятий с кадетами восточными языками».
20
В 1844–1866 гг. и 1882–1917 гг. училище носило название Оренбургский Неплюевский кадетский корпус, в период между указанными датами – Оренбургская военная гимназия.
21
Оренбургская экспедиция (с 1737 г. – Оренбургская комиссия, 1734–1744) – государственное учреждение, ведавшее административным управлением коренных народов Оренбургского края, вопросами обороны российских приграничных районов и организацией торговли с народами Средней Азии.
22
Краткий очерк истории Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса. Оренбург: Тип. А. Н. Гаврилова, 1913. С. 3. О деятельности И. И. Неплюева см.: Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 г.: Ист. моногр. В. Н. Витевского [в 5 т.] / В. Н. Витевский. Казань: Типо-лит. В. М. Ключникова, 1889–1897.
23
Краткий очерк истории Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса. Оренбург: Тип. А. Н. Гаврилова, 1913. С. 5.
24
Иррегулярные войска – войска, не имевшие правильной организации или по комплектованию, организации и обучению значительно отличавшиеся от регулярных войск. В русской императорской армии к иррегулярным войскам относились казачьи войска (до 1874 г.) и инородческие части.
25
РГВИА. Ф. 1754. Оп. 1. Д. 1. Л. 35 об. Описание торжественного акта открытия в Оренбурге Неплюевского военного училища.
26
Встречающиеся в литературе сведения, что Неплюевское военное училище явилось первым военно-учебным заведением, где в обязательном порядке изучались восточные языки (см.: Матвиевская Г. П. Оренбургский Неплюевский кадетский корпус. Очерк истории. М.: Изд. дом Академии Естествознания, 2016. С. 13), нельзя считать обоснованными. Как уже было отмечено выше, первым подобным заведением в России явилась Омская Азиатская школа.
27
Кононов А. Н. История изучения тюркских языков в России: Дооктябрьский период / АН СССР. Ин-т востоковедения. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1972. С. 189.
28
РГВИА. Ф. 1754. Оп. 1. Д. 1. Л. 13. Описание торжественного акта открытия в Оренбурге Неплюевского военного училища.
29
Кантон – военно-административная единица на территории Башкортостана (17981865 гг.). 9-й кантон находился на территории Оренбургского уезда Оренбургской губернии.
30
Матвиевская Г. П. Оренбургский Неплюевский кадетский корпус. Очерк истории. М.: Изд. дом Академии Естествознания, 2016. С. 16.
31
Учебник издан в Оренбурге в 1859 г. и переиздан в Казани в 1869 г.
32
Самоучитель издан в Казани в 1885 г. с последующим переизданием в 1893 г.
33
Кукляшев С.-Д. Татарская хрестоматия, составленная Салих-Джаном Кукляшевым, коллежским советником, старшим учителем арабского и персидского языков при Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе. Казань: Унив. тип., 1859. [2], IV, 126 с.
34
Цит. по: Матвиевская Г. П. Оренбургский Неплюевский кадетский корпус. Очерк истории. М.: Изд. дом Академии Естествознания, 2016. С. 28.
35
Кононов А. Н. История изучения тюркских языков в России: Дооктябрьский период / АН СССР. Ин-т востоковедения. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1972. С. 189.
36
Иванов М. И. Татарская грамматика, составленная Мартинианом Ивановым. Казань: Тип. Имп. Казан. ун-та, 1842. [12], IV, 341 с.
37
Иванов М. И. Татарская хрестоматия, составленная Мартинианом Ивановым. Казань: Тип. Имп. Казан. ун-та, 1842. 8, VII с., 192, 174 с.
38
Записка Симонова. Л. 1 об.
39
Аурова Н. Н. Система военного образования в России: кадетские корпуса во второй половине XVIII – первой половине XIX века / / Аурова Н. Н.; Ин-т рос. истории. Рос. акад. наук. М.: [Ин-т рос. истории РАН], 2003. С. 85.
40
Записка Симонова. Л. 2.
41
Цит. по: Матвиевская Г. П. Оренбургский Неплюевский кадетский корпус. Очерк истории. М.: Изд. дом Академии Естествознания, 2016. С. 93.