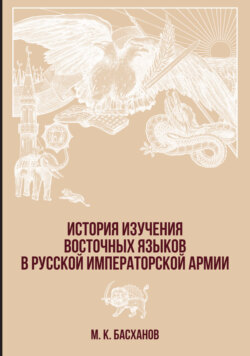Читать книгу История изучения восточных языков в русской императорской армии - М. К. Басханов - Страница 9
Глава I
Становление системы подготовки военно-востоковедных кадров русской императорской армии (1789–1874)
Оренбургская военная прогимназия
ОглавлениеВ 1860 г. главным начальником военно-учебных заведений стал Великий князь Михаил Николаевич, под руководством которого началась подготовительная работа к реформе кадетских корпусов. В декабре 1862 г. проект реформы был Высочайше одобрен, и в следующем году началось преобразование в системе военно-учебных заведений. Кадетские корпуса были упразднены и взамен их созданы военные гимназии. В 1866 г. Оренбургский Неплюевский кадетский корпус был преобразован в Неплюевскую военную гимназию. Произошло изменение и учебной программы гимназии, в которой более не предусматривалось изучения восточных языков.
В докладной записке сотрудника Главного управления военно-учебных заведений подполковника И. С. Симонова «О преподавании восточных языков в Оренбургском Неплюевском и Сибирском кадетском корпусах» (1908 г.) указывалось, что в обоих корпусах «восточные языки преподавались со времени основания этих заведений до 1874 года»[42]. Здесь имеет место очевидная неточность, связанная с тем, что Симонов по какой-то причине не разделил деятельность военных гимназий и военных прогимназий, действовавших в Оренбурге и Омске в одно и то же время. Именно прекращение преподавания восточных языков с целью подготовки переводчиков в новых военных гимназиях и вызвало к жизни проект учреждения отделений восточных языков при Оренбургской и Омской военных прогимназиях, о чем речь пойдет ниже.
В докладе начальника Главного управления военно-учебных заведений генерал-адъютанта Н. В. Исакова в Военный Совет от 12 июля 1868 г. о проекте учреждения особых отделений восточных языков при Оренбургской и Омской военных прогимназиях содержится указание на то, что к тому времени в Оренбургской Неплюевской военной гимназии восточные языки не изучались. «В настоящее время, – отмечалось в докладе, – преобразованная из кадетского корпуса, Оренбургская военная гимназия не имеет уже назначения приготовлять переводчиков восточных языков, а потому оказывается настоятельно необходимым неотлагательно открыть для этой цели особое заведение»[43].
Прекращение подготовки военно-востоковедных кадров в Оренбурге не замедлило негативно сказаться на деятельности управлений вновь образованных Оренбургского и Туркестанского военных округов, а также в работе территориальных органов системы военно-народного управления. В конце 1867 г., в связи с преобразованием в России военно-начальных школ в военные прогимназии, Главное управление военно-учебных заведений направило командующим Оренбургского и Западно-Сибирского военных округов запрос о том, насколько соответствуют преобразуемые военно-начальные школы местным потребностям. В связи с этим командующий войсками Оренбургского военного округа генерал-адъютант Н. А. Крыжановский[44] распорядился создать особую комиссию для изучения вопроса о подготовке переводчиков восточных языков для нужд войск округа и администрации края. В феврале следующего года Крыжановский на основе заключения комиссии вышел с представлением на имя военного министра Д. А. Милютина о необходимости создать при вновь образуемой в Оренбурге военной прогимназии специального отделения для подготовки переводчиков восточных языков. Аналогичное предложение поступило и от командующего войсками Западно-Сибирского военного округа генерал-лейтенанта А. П. Хрущева.
Для рассмотрения предложений Крыжановского и Хрущева в Главном управлении военно-учебных заведений была создана комиссия под руководством действительного статского советника В. Авилова. В состав комиссии на правах эксперта вошел видный русский востоковед профессор факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета В. В. Григорьев. Комиссия в целом согласилась с необходимостью учредить особое учебное отделение для подготовки переводчиков восточных языков. Было признано, что будущие переводчики должны пройти за время учебы полный курс программы военно-начальной школы, но «для большего сбережения времени на специальные занятия» из курса общеобразовательных предметов предлагалось исключить геометрию, рисование и чистописание[45]. Комиссия признала невозможным ввод в программу подготовки переводчиков особого курса географии Оренбургского и Туркестанского края, на чем настаивал генерал-адъютант Крыжановский. Для привлечения на учебу в отделение восточных языков как можно большего числа способных учеников комиссия признала необходимым сократить для выпускников срок производства в первый офицерский чин. Комиссия согласилась с мнением профессора В. В. Григорьева о том, что для поощрения будущих военных востоковедов следует принять особое постановление, по которому «занимать места по администрации в покоренных азиатских землях и по дипломатическим сношениям с прочими могут только лица, обладающие знанием нужных для того языков»[46].
Комиссия Авилова также рекомендовала в новом Положении об отделении переводчиков восточных языков указать, что в него «предполагается принимать также детей казачьего сословия как офицерского, так и нижнего звания, равно как и детей мусульман из пределов по сию сторону Урала, из пределов же по ту сторону его – детей только тех, которые известны правительству своею преданностью и заслугами»[47].
По результатам работы комиссии Авилова состоялось представление начальника Главного управления военно-учебных заведений в Военный Совет[48], в котором излагалось состояние подготовки военно-востоковедных кадров в Оренбургском крае и Западной Сибири[49]. В представлении отмечалась необходимость создания специальных учебных заведений для подготовки переводчиков восточных языков для нужд военного и административного управления и предлагался проект Положения об этих заведениях[50].
В соответствии с проектом Положения, отделения восточных языков учреждались для «приготовления переводчиков восточных языков для службы в Оренбургском, Туркестанском и Западно-Сибирском военных округах» (п. 1). Отделения были рассчитаны для обучения 40 учащихся в Оренбургской прогимназии и 30 – в Омской из числа тех, «которые уже говорят на местных восточных языках и изъявят желание готовиться в переводчики» (п. 2). Положением предусматривалось обучение в Оренбургской прогимназии персидскому и татарскому языкам, в Омской – киргизскому (казахскому) языку. Изучение восточных языков начиналось с третьего года обучения и продолжалось в течение всего четвертого года.
Программа первых двух лет обучения для слушателей восточных отделений совпадала с общей программой обучения, предусмотренной для остальных учеников прогимназий, за исключением таких предметов, как алгебра, геометрия, черчение, рисование и чистописание. По окончании четвертого года обучения слушатели восточных отделений оставлялись для продолжения образования на дополнительном курсе, который длился в Оренбургской прогимназии два года и в Омской – один год. В это время они должны были заниматься преимущественно изучением восточных языков, другие предметы из учебной программы были изъяты (за исключением Закона Божия и русского языка). Во время обучения на дополнительном курсе слушатели размещались отдельно от остальных учеников прогимназий и находились под «надзором особого воспитателя, говорящего на местном восточном наречии» (п. 3).
Для обучения восточным языкам предусматривалось иметь «особых преподавателей», а для практических языковых занятий – «специальных дядек», хорошо владеющих восточными языками и «из лиц надежной нравственности». Кроме того, в Оренбургской прогимназии одному из преподавателей восточных языков, выбранному директором прогимназии и утвержденному Оренбургским генерал-губернатором, за дополнительную плату поручалось «общее наблюдение» за ходом занятий в отделении (п. 4).
По окончании учебы переводчики получали аттестаты об окончании курса отделений и поступали в распоряжение штабов Оренбургского, Туркестанского и Западно-Сибирского военных округов. По выпуску из прогимназии переводчики получали по 100 руб. «в пособие на обмундирование» и «прогонные деньги» для проезда к месту службы (п. 5). Переводчики зачислялись на службу в военное ведомство вольноопределяющимися на нестроевые должности и получали соответствующий классный чин (п. 6).
В начале 1873 г. командующий войсками Оренбургского военного округа генерал-адъютант Крыжановский посетил с инспекцией восточное отделение Оренбургской военной прогимназии. По итогам инспекции он подготовил докладную записку, на которой стоит остановиться подробнее ввиду изложенных в ней взглядов крупного военно-административного деятеля на систему подготовки военно-востоковедных кадров и на предъявляемые к их деятельности требования. Документ интересен и в том отношении, что в нем указывается на необходимость привития военным востоковедам более широких и комплексных знаний (по географии, страноведению и пр.), а не только узкоспециального знания восточных языков. Мнение генерал-адъютанта Крыжановского диаметрально отличалось в этом вопросе от выводов комиссии Авилова, посчитавшей излишним курс географии в учебной программе отделения восточных языков. «При обозрении класса переводчиков, – отмечал Крыжановский, – я был неприятно поражен незнанием учениками самых простых вещей из географии Средней Азии. Невежество их особенно резко бросается в глаза, когда вопросы, им предлагаемые, касаются стран, можно сказать, только что сделавшихся известными в последние годы, а именно об тех-то странах первее всего придется им переводить разговоры, письма и бумаги. Названия различных пунктов, рек, озер, а также титулы управителей Коканда, Кашгара, Кульджи, Афганистана и пр. должны быть официальным переводчикам хорошо известны. Не надо забывать, что приготовляемые здесь переводчики будут употребляться не для разговоров обиходных, а для сношений политических. Они будут писать письма владетелям Средней Азии, переводить заключаемые с ними трактаты, излагать по-персидски Высочайшие повеления, переводить объявления, делаемые нашими начальниками различным азиатским племенам и народам, короче сказать, через их руки должны проходить дела, в коих одна ничтожная ошибка может иметь громадное влияние; и как же не предположить ошибок в переводе, производимом лицом, не знающим ни самых крупных событий последних годов, ни имен географических пунктов и лиц, связанных с этими событиями. По мнению моему, дело это столь важно, что география Азии должна составлять в школе переводчиков обязательный предмет и притом в таком объеме, какой для всей прогимназии не мыслим»[51].
Следует обратить внимание на исторический момент, в который генерал-адъютант Крыжановский озаботился состоянием дел с подготовкой в вверенном ему военном округе переводчиков восточных языков – начало 1873 г., т. е. период активной фазы подготовки к Хивинскому походу, когда вопрос о переводчиках восточных языков приобрел особое значение. В марте 1873 г. при личном участии Крыжановского была составлена «Программа географии для отделения переводчиков Оренбургской военной прогимназии»[52]. Программа состояла из 13 пунктов и предусматривала изучение физической географии (включая орографию и гидрографию) Сибири, Киргизской степи и Арало-Каспийской низменности, административного деления русских владений в Азии с частным обозрением Уральской, Тургайской, Акмолинской, Сыр-Дарьинской и Семиреченской областей; общий взгляд на географию Южной Азии с упором на изучение горных систем (Гиндукуша, Болорских гор и пр.), перевалов и проходов в них. Отдельно ставились вопросы изучения этнографии Средней Азии – «пространство и народонаселение киргизских степей и Туркестанского края. Разделение киргизов на орды и племена, происхождение их; религия, этнография Туркестанского края: сарты, узбеки, таранчи и пр.; главные занятия жителей, торговля»[53]. Программа предусматривала краткое ознакомление с географией среднеазиатских владений – Бухары, Хивы, Коканда, Кундуза, Кашгара, Афганистана, Персии и Белуджистана и путей в них из Русского Туркестана, а также Индостана, Китайской империи, Азиатской Турции и Аравийского полуострова.
В 1868 г. в период обсуждения программы восточного отделения Оренбургской прогимназии Главное управление военно-учебных заведений отклонило предложение Крыжановского о введении расширенного курса географии Средней Азии «за неимением ни одного [учебного] руководства по этому предмету». В 1873 г., когда военные действия в Хиве были уже в самом разгаре, позиция Петербурга стала иной – Главное управление военно-учебных заведений просило Крыжановского подыскать для прогимназии учителя географии, на содержание которого управление готово было выделить 300 руб. в год.
В 1873 г. состоялся первый выпуск переводчиков восточных языков из восточного отделения Оренбургской военной прогимназии – всего шесть человек. Характерно, что за четыре года их обучения на восточном отделении мало кто задумывался не только о месте их будущей службы, но даже над тем, какой аттестат им надлежит выдать по выпуску из отделения. В марте 1873 г. директор прогимназии доносил в Главное управление военно-учебных заведений, что «по неимению указания формы и содержания встречается затруднение в их изготовлении»[54]. Вместе с рапортом директор представлял и копию образца аттестата, разработанную в прогимназии и согласованную с начальником штаба Оренбургского военного округа[55].
Точно не известно, принимали ли выпускники первого выпуска Оренбургской военной прогимназии участие в Хивинском походе. Отрывочные сведения имеются лишь об участии в походе преподавателя персидского языка прогимназии Александрова, который в качестве переводчика сопровождал Генерального штаба капитана Л. Н. Соболева при исследовании им дельты р. Амударьи и земель каракалпаков. Александров занимался составлением списков поселенных мест (более 110), изучением судебной системы в Хивинском ханстве, состояния туземных школ, вел полевые лингвистические сборы. Им было записано значение 300 наиболее распространенных каракалпакских слов с указанием фонетической транскрипции[56].
В 1874 г. в связи с изменением учебных программ военных прогимназий, преобразованных для подготовки выпускников к обучению в юнкерских училищах, восточное отделение Оренбургской военной прогимназии было закрыто. Общее количество переводчиков восточных языков, подготовленных в Оренбургской прогимназии, остается неизвестным.
42
Матвиевская Г. П. Оренбургский Неплюевский кадетский корпус. Очерк истории. М.: Изд. дом Академии Естествознания, 2016. С. 93.
43
РГВИА. Ф. 725. Оп. 6. Д. 3. Л. 359 об. Об учреждении особых отделений при Оренбургской и Омской военных прогимназиях для приготовления переводчиков восточных языков. Доклад в Военный Совет № 134 от 12 июля 1868 г.
44
Крыжановский Николай Андреевич (1818–1888) – генерал-адъютант, генерал от артиллерии. Оренбургский генерал-губернатор и командующий войсками Оренбургского военного округа (1866–1881). Видный администратор Оренбургского края, особое внимание обращал на распространение общего и военного образования. При нем были основаны Оренбургское юнкерское военное училище и Оренбургская военная прогимназия.
45
Записка Авилова. Л. 342 об. – 343.
46
Там же. Л. 343 об. К записке Авилова приложено мнение профессора В. В. Григорьева (Л. 358–358 об.). Примечательно, что Григорьев предлагал отказаться от подготовки военных переводчиков восточных языков и заменить их чиновниками, владеющими восточными языками. «На что дипломатическому агенту или административному чиновнику переводчик, – задавался он вопросом, – когда агент и чиновник эти сами умеют говорить и писать на тех языках, знание которых нужно им по службе». Здесь в Григорьеве, как в специалисте вопроса, больше сказывается академический, нежели практический опыт языковой деятельности. В знании и использовании иностранного языка Григорьев не делал разницы между профессиональной и вспомогательной функциями, между профессией и навыком. Сами переводчики для него – «это паразиты, зло, не масло, а песок в машине администрации». Григорьев также исключал возможность какого-либо участия правительства в поднятии престижа профессии переводчика: «Устранить невыгодность службы в должности переводчика восточных языков – не в силах правительства: это потребовало бы денежных расходов несообразных ни с какими существующими тратами, даже с тратами акцизного управления». Эта мысль весьма понравилась чиновнику военного ведомства, выделившему ее в тексте записки отдельной пометкой.
47
Записка Авилова. Л. 346.
48
Военный Совет – коллегиальный орган Военного министерства, наделенный правом законодательной инициативы; подчинялся непосредственно императору, в круг его обязанностей входило обсуждение вопросов военного законодательства, решение наиболее важных хозяйственных дел, вопросов по устройству и организации армии и др.
49
РГВИА. Ф. 725. Оп. 6. Д. 3. Л. 358–362 об.
50
РГВИА. Ф. 725. Оп. 6. Д. 3. Л. 363–365. Проект Положения об особых отделениях при Оренбургской и Омской военных прогимназиях для приготовления переводчиков восточных языков.
51
РГВИА. Ф. 725. Оп. 11. Д. 152. Л. 12–13. Отношение командующего войсками Оренбургского военного округа на имя начальника Главного управления военно-учебных заведений.
52
Там же. Л. 4–4 об.
53
РГВИА. Ф. 725. Оп. 11. Д. 152. Л. 4–4 об.
54
Там же. Д. 151. Л. 1. Рапорт директора Оренбургской прогимназии в Главное управление военно-учебных заведений, 15 марта 1873 г.
55
Там же. Л. 3.
56
См.: Аму-Дарьинская экспедиция. I. [Столетов Н. Г.]. Из донесений вице-председателю Общества начальника экспедиции Генерального штаба полковника Н. Г. Столетова // ИИРГО. 1874. Т. X, № 7. С. 238–239.