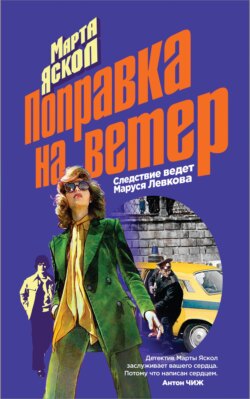Читать книгу Поправка на ветер - Марта Яскол - Страница 4
Часть первая
3
ОглавлениеГарнизонный госпиталь в Чкаловске официально назывался «воинская часть 12562» или просто «в/ч 12562». Как и положено нормальному лечебному учреждению, в нем имелось несколько отделений, в том числе хирургическое и терапевтическое, рентген-кабинет и кабинет физиотерапии. В штате, кроме начальника – хирурга, майора медицинской службы Андрея Воронова, еще два офицера, остальные врачи и медперсонал – гражданские.
Располагался госпиталь за городским парком, недалеко от железнодорожного вокзала. На огороженной территории – вековые деревья, стриженые кустики, клумбы с цветами, скамейки. Из окна Марусиного кабинета наблюдалась благостная картина: больные в пижамах грелись на солнышке, читали газеты или книжки, резались в шашки, втихаря покуривали и травили анекдоты. Публика оживлялась, когда выбегала сестричка звать на уколы, перевязку или процедуры.
Марусе доставляло удовольствие видеть пациента, который выздоровел благодаря ее знаниям и усилиям. Хотя пациенты, конечно, попадались разные. Хорошо хирургам – к ним симулянты приходят гораздо реже, чем к терапевтам. К примеру, привезла «Скорая» больного, а в сопроводительном документе – эпическая фраза: «Травму получил, когда, возвращаясь с рыбалки на мопеде, столкнулся со встречным деревом…» Терапевту сложнее, ему нужно быть еще и психологом, особенно в военном госпитале, где почему-то всех и вся подозревают в симуляции с целью отдохнуть от службы. Нет, конечно, дыма без огня не бывает, но самое страшное – ошибиться и оставить без помощи действительно больного человека. Маруся еще с института помнила фразу какого-то медицинского светила: «Количество симулянтов у врача обратно пропорционально его познаниям». Поэтому никогда не принимала решений без тщательного расследования.
Приходилось ей сталкиваться и с противоположным явлением – когда больные люди изображали здоровых. В медицине это называют диссимуляцией. Если разобраться, вся наша жизнь – сплошная диссимуляция. Гриппозные и сопливые ходят на работу, гипертоники сбивают давление и садятся за штурвал самолета, близорукие штурманы годами обманывают медкомиссии и ходят в море, сердечники садятся за руль автомобиля… Вот где опасность для окружающих!..
Еще одна категория «мнимые больные» – здоровые люди, которые по каким-то причинам кажутся себе больными. Буквально через месяц после приезда Маруси в Чкаловск к ней на прием зачастил солдатик второго года службы с жалобами на бессонницу, головные боли и слабость. Маруся чувствовала, что он чего-то не договаривает. Когда ей удалось его разговорить, оказалось, что девушка «больного» написала ему: выхожу, мол, замуж за другого. Пришлось Марусе поговорить с его командиром, объяснить ситуацию, попросить «ослабить вожжи», чтобы дать человеку возможность пережить удар.
Чаще всего Марусе удавалось довольно быстро поставить правильный диагноз. Здоровье сраженного ее проницательностью симулянта, как правило, стремительно улучшалось вплоть до полного «выздоровления», поэтому те, кто хотел на недельку-другую залечь в госпиталь, старались попасть к другому врачу.
– Здорово у тебя получается, – восхищалась медсестра Катерина. – Ты прямо ходячий рентгеновский аппарат!
– Просто я хорошо училась в институте, – розовела от удовольствия Маруся, которой была приятна Катина похвала. – А еще увлекаюсь психологией, полезная наука, скажу я тебе. Иногда достаточно просто проанализировать поведение пациента. Говорят, что симулянт меньше видит, чем слепой, хуже слышит, чем глухой, хромает больше, чем хромой. Медицине известны случаи, когда некоторым гениям удавалось даже кому изображать достаточно убедительно, но к нам такие таланты вряд ли попадут…
* * *
В список Марусиных обязанностей входили и ночные дежурства – два-три в месяц. Очередное дежурство выпало на следующую ночь после пожара в их квартире.
Обычно ей во время дежурства удавалось и чайку попить с дежурным персоналом, и вздремнуть пару часиков на кушетке в кабинете, но бывало и так, что из-за какого-нибудь ЧП в госпитале всю ночь не смыкали глаз. Был случай, когда с аэродрома привезли пять человек, половину наряда из солдатской столовой, с пищевым отравлением, их пришлось всю ночь выхаживать, а потом еще неделю отписываться в разные инстанции о причинах происшествия.
В этот раз в госпиталь позвонили и сообщили, что везут с дальних складов с боеприпасами караульного с переломом ноги. Пока солдата везли, Маруся отправила посыльного и вызвала в госпиталь начмеда Воронова: переломы и травмы относились к его компетенции.
Солдат был без сознания. Когда разрезали и стянули сапог, оказалось, что случай не из легких – открытый перелом, кость раздроблена, нужно собирать по кусочкам.
– Молодец, Маруся, вовремя сориентировалась и правильно сделала, что вызвала меня, надо срочно оперировать, – с благодарностью глянул на нее Воронов.
Он назвал ее по имени, а не по фамилии, как обычно, – это означало, что ситуация его всерьез обеспокоила.
Солдатик в сознание не приходил, жар усилился, начался бред. Сделали рентген и повезли его в операционную. Воронов с медсестрой побежали следом.
– Как это произошло, можете рассказать? – раскрывая тетрадь дежурного по госпиталю, спросила Маруся прапорщика, который привез бойца.
– Да странная какая-то история. – Прапорщик переминался с ноги на ногу. – Начальник караула к утру напишет подробный рапорт, но предварительно мне рассказал, что часовой стоял на посту, охранял склад с боеприпасами, потом вроде увидел кого-то, проникшего на объект, сделал предупредительный выстрел, погнался за нарушителем, сделал еще несколько выстрелов, но провалился в заброшенный каменный колодец. Там его начальник караула и нашел. Выстрелы и крики слышал часовой с соседнего поста, но видеть ничего не видел. Следов проникновения на пост не обнаружили, ограждение не нарушено. Вроде бы боец ненадолго приходил в сознание и успел сказать начальнику караула, что нарушитель, – прапорщик запнулся, – «был белый, летучий и улетел в сторону леса». Может, не будем это записывать?
– Почему не будем? – удивилась Маруся. – Так и запишем. Может, солдатик чего-нибудь накурился. А может, просто бредил. Кровь у него на анализ взяли, давайте дождемся результатов.
Слова солдатика о «летучем» вызвали у Маруси какую-то относительно свежую ассоциацию. Нет, не с вывеской из ее недавнего кошмарного сна – кстати, такая вывеска с двумя летучими мышами, растопырившими перепончатые крылья, существует на самом деле, как и ателье под ней. Но если не с вывеской, тогда с чем? Вспомнила! В парикмахерской – не гарнизонной, куда Маруся ходить не рисковала, а в городской – одна из посетительниц рассказывала невероятную историю, которую при этом называла чистой правдой.
Случилось это якобы года два назад в окрестностях Чкаловска. Местные подростки, играя в «войнушку», увидели зависшее над дубом странное светящееся существо. Когда к нему попытались приблизиться, оно полетело в сторону железной дороги и скрылось в проложенном через гору туннеле. Мальчишки бросились догонять, залезли вслед за ним в туннель, попали в какой-то ответвленный ход и заблудились. Их искали три дня, неизвестно, чем бы это все закончилось, но на третий день они смогли выбраться из подземелья в семи километрах от того места, где забрались в туннель. После этого местные власти закрыли железными решетками все известные входы в подземелья и строго-настрого запретили к ним приближаться.
Маруся и раньше обращала внимание на то, что местные жители обожают истории о привидениях и прочих летучих существах, которые якобы обитают в многочисленных прусских замках и строят людям козни. Особой популярностью пользовались рассказы из цикла о так называемых Белых дамах – женщинах, которые вначале погибали страшной смертью, а затем поселялись в родных стенах навеки, но уже в виде призраков. Увидеть Белую даму – молодую женщину ослепительной красоты, с длинными светлыми волосами, в белом кружевном платье – мог далеко не каждый, только родившийся тринадцатого числа, в воскресенье, ближе к полуночи. Вообще-то Белые дамы к людям относились вполне дружелюбно – выводили на дорогу заблудившихся путников, показывали места, где закопаны клады, помогали женщинам рожать, предсказывали будущее… Однако в гневе Белые дамы страшны, а разгневать их очень легко…
Все эти истории до боли напоминали Марусе сказки о «черной-черной комнате», которыми пугали друг друга девчонки во дворе и в пионерском лагере. Разница заключалась в том, что о «черной руке», летающей по черной комнате, шепотом и с круглыми для пущего эффекта глазами рассказывала друг другу детвора, понимая, что это всего лишь страшилки, а о Белых дамах – взрослые, причем на полном серьезе.
У Чкаловска, как у каждого уважающего себя города, имелись и собственные городские легенды. В том числе, разумеется, и о призраке. Правда, чкаловский призрак не был Белой дамой и не летал по воздуху, а как раз наоборот – якобы блуждал в средневековых подземельях. Жители Чкаловска считали, что сеть этих подземных ходов берет свое начало в замке Норденбург, возведенном в четырнадцатом веке…
«Эк куда меня занесло! – подумала Маруся. – Длинноватая ассоциативная цепочка получилась». Все это, безусловно, чрезвычайно увлекательно, но к сегодняшнему пациенту с открытым переломом не имеет скорее всего ни малейшего отношения. Случаев нападений призраков на караульных не зафиксировало еще ни одно, даже самое воспаленное воображение. Но тогда что же означают слова пострадавшего солдатика о «белом летучем» нарушителе из леса?
Маруся то и дело мысленно возвращалась к этим странным словам до самого конца своего дежурства. В крови солдатика, к слову, никаких сильнодействующих веществ не выявили. Сам он ничего объяснить не мог – после операции долго отходил от наркоза.
* * *
Вечером, отоспавшись после дежурства, Маруся пошла в Дом офицеров на репетицию танцевального ансамбля. Танцы были ее давнишним, еще с детских лет, увлечением. Танцевальный ансамбль школы, в которой училась Маруся, в то время она с родителями жила на Дальнем Востоке, где служил ее папа, завоевывал все мыслимые и немыслимые призы на областных конкурсах. Он даже однажды съездил в Москву на республиканский конкурс, в котором умудрился занять второе место, и то потому, что первое место должно было, по плану организаторов, достаться ансамблю из Анадыря.
Художественная самодеятельность являлась неотъемлемой частью жизни Чкаловского гарнизона. Для солдат-срочников участие в репетициях и концертах считалось серьезной причиной, чтобы получить освобождение от работ или лишний раз не заступить в наряд. Многие, впрочем, занимались в кружках, как и Маруся, в свое удовольствие.
Дом офицеров, которым руководил капитан Артемьев, прославился в городе и на весь Прибалтийский военный округ благодаря женскому хору и танцевальному ансамблю. Народная цирковая студия, несколько вокалистов и оркестр тоже пользовались популярностью, но меньшей. В праздники Дом офицеров набивался, как говорится, битком. Несмотря на все свое разгильдяйство, Артемьев был неплохим организатором, не лишенным творческой жилки. Поэтому, видимо, начальство смотрело на его похождения сквозь пальцы.
Хор существовал, так сказать, на добровольно-принудительной основе, в нем пели все жены офицеров и прапорщиков, а также вольнонаемные, причем независимо от наличия голоса и слуха. Зато танцевальный ансамбль, активной участницей которого была Маруся, – почти исключительно на добровольной. Назывался ансамбль «Калинка». Вначале его хотели назвать «Калинка-малинка» – в честь замечательных советских фигуристов Ирины Родниной и Александра Зайцева, которые три года назад, в 1973-м, с произвольной программой под эту музыку стали чемпионами мира. Точнее, не совсем под музыку: как раз во время выступления Родниной и Зайцева из-за замыкания в радиорубке звуковое сопровождение отключилось, и ребята докатались под дружные аплодисменты зала. Этот случай вошел в историю фигурного катания! Замполит полка Иван Белянчиков порыв оценил, но слово «малинка» из названия ансамбля посоветовал убрать, ему оно почему-то показалось каким-то двусмысленным. «Хорошо, что не «клубничка», – буркнул Белянчиков, и на этом дискуссия по поводу названия ансамбля закончилась.
О делах хора Маруся тоже была осведомлена в полной мере – солисткой хора была Марусина подруга Антонина, утверждавшая, что у нее колоратурное сопрано. Официальные источники ее версию не опровергали, но и не подтверждали, поэтому насчет колоратурности Маруся в глубине души сомневалась. С чем никто не спорил, так это с тем, что голосом Антонина обладала мощным. Отчасти по этой причине замполит Белянчиков выдвинул Антонину в главы женсовета гарнизона – опять-таки, не удосужившись поинтересоваться, согласна ли сама выдвигаемая. Тоня вынуждена была согласиться задним числом. А куда денешься, с начальством лучше не ссориться.
У Тони имелся дополнительный стимул петь в хоре, о котором знала только Маруся на правах лучшей подруги: Антонина, вполне добропорядочная жена и мать, была тайно влюблена в капитана Артемьева и очень переживала из-за слухов о его многочисленных романах. Тоня, как глава женсовета, узнавала о них одной из первых, мало того – частенько вынуждена была разбирать жалобы ревнивой жены капитана Зои Артемьевой, а также другие инциденты, возникающие из-за любвеобильности начальника Дома офицеров, которому инкриминировали интрижки не только с женами сослуживцев, но и с местными девушками. К счастью, дальше тайной влюбленности, о которой знала только Маруся, дело не шло: обязанности главы женсовета и природная рассудительность удерживали Антонину от каких бы то ни было шагов к сближению с этим Казановой местного разлива.
Душераздирающие любовные истории, героями которых был не только Артемьев, но и другие офицеры, прапорщики и их супруги, в Чкаловском гарнизоне случались частенько. Однажды Антонина и замполит Белянчиков даже предотвратили самоубийство.
– Жена прапорщика Косарчука влюбилась в другого прапорщика, Соловьева, – вспоминала Тоня, – бегала к нему. Жена Соловьева пожаловалась в женсовет, обоим любовникам дали взбучку. Галя Косарчук с горя и большого ума решила наложить на себя руки. А у нее пацаненку тогда было шесть лет! И муж, Федя Косарчук, ведь не обижал ее, любил… Так вот. Стою я, значит, на кухне у плиты, котлеты жарю. Вваливается замполит – идем скорее, там Галка вешаться удумала! Прибегаем мы к Косарчукам, а Галину из петли уже вытащили, на диван посадили, она сидит, в одну точку смотрит как неживая. Я села рядом, давай ей слова какие-то шептать, по плечу гладить… Смотрю, она оттаивать вроде начала. Мужу ее, Федьке, говорю – тащи бутылку и картошки, что ли, свари… Сели за стол, выпили, закусили. Я ей ласково так: «С чего ты взяла, что у вас с Соловьевым серьезно? У тебя муж хороший, ребенок, сегодня вы с Соловьевыми вместе служите, а завтра разъедетесь, вас пошлют на юг, их на север, вот и вся любовь. А развод – это две семьи ломать, в обеих дети, у Соловьевых, вон, двое». Ну и все такое… До развода не дошло, Косарчуки прослужили еще два года и перевелись в другой гарнизон – за месяц до твоего приезда. Мы их проводили, тепло так прощались… Одно плохо.
– Что? – встрепенулась заслушавшаяся Маруся.
– Котлеты у меня тогда сгорели-таки! – улыбнулась Тоня.
– Здорова ты, Антонина, другим советы давать, это у тебя хорошо получается, – съехидничала Маруся. – Вот и вся любовь! – передразнила она подругу. – А сама?
Тоня в ответ только со вздохом развела руками. «Любовь зла – полюбишь и козла», – об этом она знала не понаслышке, но, как обычно в таких случаях, ничего не могла с собой поделать…
* * *
Репетиция танцевального ансамбля была в самом разгаре, когда одна из танцовщиц, выполняя замысловатый пируэт, вдруг споткнулась, чертыхнулась, сбросила туфлю, схватила ее и поковыляла к Артемьеву, который сидел в первом ряду зрительного зала и с явным удовольствием наблюдал за кружащимися на сцене девушками.
– Юра, это что такое?! – Она потрясла туфлей перед носом начальника Дома офицеров, тот инстинктивно отшатнулся. – Дырка протерлась, еще и ремешок оторвался! Разве в этом можно танцевать?!
– А лучше в кирзовых сапогах? – отодвигаясь от болтающейся перед ним дырявой обувки подальше, вопросом на вопрос ответил Артемьев. – У них, по крайней мере, ремешков нет… Люба, имей совесть, мы же недавно получили новые костюмы и туфли! Срок эксплуатации еще не прошел! Как я их списывать буду? Я же не могу комиссии объяснить, что туфли на вас горят!
– Для танцев нужна специальная обувь! – заявила Люба. Другие участники ансамбля загудели, выражая согласие с ораторшей. – Спе-ци-аль-на-я! У нас выступление скоро! В чем нам выступать, в этих лаптях? Может, еще портянками ноги обмотаем?!
– Партия прикажет, выступим и в портянках, – хохотнул Артемьев и на всякий случай оглянулся, нет ли поблизости замполита Белянчикова, которому могло не понравиться столь вольное толкование руководящей и направляющей роли партии. Замполита поблизости не обнаружилось. – Критикуешь – предлагай, предлагаешь – делай, делаешь – отвечай. У тебя есть конкретные предложения?
– Ну… Надо срочно раздобыть где-то специальные танцевальные туфли, – стушевалась Люба. – В Чкаловске их вряд ли можно купить… А если сшить на заказ? Можем мы себе это позволить?
– Думаю, позволить можем, надеюсь, я смогу объяснить руководству такую статью расхода… А где сшить? Вы думаете, танцевальные туфли так просто можно заказать? Скорее всего в Калининград надо ехать, я что, весь ансамбль на примерку туда возить буду? Кто ж нам такое разрешит?
– Я знаю здесь приличную сапожную мастерскую, где не только ремонтируют обувь, но и шьют на заказ, – вмешалась Маруся. – Могу спросить, возьмутся ли они.
– Если возьмутся, это будет для нас идеальный выход, других вариантов я не вижу. – Артемьев с надеждой посмотрел на Марусю. – Давай, доктор, действуй, на тебя смотрит все прогрессивное человечество. Иначе меня твои партнеры сожрут вместе с погонами и не поперхнутся.
Люба захлопала в ладоши, остальные участники «Калинки» одобрительно загудели.
Дело решили не откладывать в долгий ящик и тут же уполномочили Марусю договариваться с сапожниками.