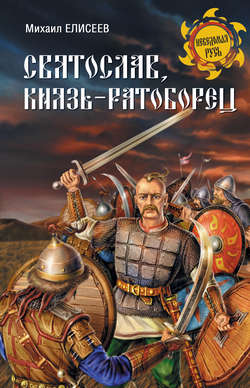Читать книгу Святослав, князь-ратоборец - Михаил Елисеев - Страница 5
I. Преданья старины глубокой…
Как Князь-Волк воевал с Византией
ОглавлениеИ по сих Игор ходи на грекы и не одоли их, но отбежа в мале дружине. И по сих Игор сбра всю свою силу, натяже и печениги, и поиде на грекы.
Супрасльская летопись
Поход князя Игоря на Византию в 941 году был предприятием поистине грандиозным – по сообщениям источников, как русских, так и византийских, Игорь вёл на Царьград 10 000 кораблей. Но в этих цифрах можно усомниться – если исходить из того, что боевая ладья вмещала 40 человек, то общее количество воинов получается 400 000 бойцов – цифра явно нереальная. Епископ Кремоны Лиутпранд, итальянский дипломат и историк X века, посетивший Константинополь через несколько лет после этих событий, приводит данные, которые гораздо ближе к истине, указывая, что Игорь вёл «более тысячи судов». Эту же цифру указывает и Рогожский летописец – в итоге большинство историков считает её достоверной, соглашаясь с тем, что флотилия русов насчитывала 1000 кораблей и 40 000 воинов – более чем достаточно для успешного завершения предприятия.
Судя по всему, к походу Игорь готовился очень тщательно – киевский князь специально выждал момент, когда грозный византийский флот уйдёт из столицы Империи и откроет боевые действия против арабов. И когда он получил этому подтверждение, то сразу же повёл свои дружины на Византию.
Князь Игорь. Худ. В. Верещагин.
Причин, по которым Игорь развязал войну с Империей, могло быть несколько: во-первых, одним из важнейших факторов, если не главным, поскольку именно он зафиксирован в источниках, был конфликт князя с дружиной, которая считала себя обделённой и была возмущена беспрецедентным обогащением и усилением Свенельда. Недовольным княжьим мужам нужно было заткнуть рты, а что лучше богатой военной добычи для этого подходило! Как говорится, требовалась маленькая победоносная война.
Из всех соседей Руси Византия на роль жертвы подходила в глазах Игоря идеально, поскольку он помнил, чем закончился поход на Царьград Вещего Олега и размер взятой им добычи. Да и многие свидетели этого триумфа оружия русов были ещё живы и могли поделиться с князем своими воспоминаниями. Судя по всему, Игорь не забывал также и о неудачном походе князя Аскольда, а потому готовился к войне с Империей особенно тщательно. Правда, в свой план войны он внёс некоторые изменения, которые радикально отличали это мероприятие от походов его предшественников.
Другой причиной, которая могла побудить Игоря к столь решительным действиям, могло быть, по мнению Б. А. Рыбакова, то, что византийцы начали чинить препятствия русской торговле, несмотря на договор 911 года. Недаром А. Карпов отмечал, что снаряжение торговых караванов в Царьград было делом государственным, а не частным – отправка товаров в Византию и их сбыт являлись такой же важной заботой русских князей, как полюдье и сбор дани. Будучи умным и дальновидным государственным деятелем, понимая все выгоды от торговли с Империей, киевский князь просто обязан был вмешаться в происходящее и поставить зарвавшихся ромеев на место – что он и решил в итоге сделать.
Также поводом для того, что Игорь повёл рать на Империю, могло быть и то, что предыдущий договор между двумя державами, заключённый в 911 году, мог и закончиться – по мнению историков, правители Византии заключали их обычно на 30 лет. И конечно же, нельзя отбрасывать тот момент, что Игорь хотел прославить своё имя и превзойти своих предшественников – Аскольда и Олега Вещего. Ну а где ещё эту славу добывать, как не в войне с величайшей державой мира?
Таким образом, мы видим, что поход 941 года был вызван не какой-либо одной причиной, а целой их совокупностью и являлся не просто личной инициативой князя, а был продиктован и государственными интересами. После тщательной подготовки и разведки громадная флотилия русов из 1000 ладей в мае 941 года двинулась по Днепру к Чёрному морю, планируя пройти вдоль болгарского побережья и всей мощью обрушиться на Империю. Легендарный поход князя Игоря на Византию начался.
* * *
Основным отличием похода Игоря на Византию от предыдущих походов было то, что главный удар он решил нанести не по столице Константинополю, а по провинциям. И в этом действительно был определённый смысл – князь знал, что Царьград обладал мощнейшими укреплениями и что без длительной осады и военной техники его не возьмёшь. На всё это было нужно время, а оно бы в этом случае играло на руку византийцам – могли войска собрать, могли флот вернуть, и тогда не факт, что город вообще удалось бы захватить. А это означало, что ни добычи, ни воинской славы Игорь не получает, дружина остаётся недовольной, а внешнеполитическое и экономическое положение Руси резко ухудшиться. Зато в случае удара по провинции все шансы ромеев на успех сводились практически к нулю, а перед русами открывались очень заманчивые перспективы. Да и полководцы Империи могли ожидать, что пришельцы с Севера по своей давней привычке атакуют именно столицу, благо примеры подобных действий противника были у них перед глазами. Поэтому, изменив направление главного удара, Игорь начисто переиграл своих оппонентов в Константинополе – для них подобные действия русского князя оказались полной неожиданностью.
И даже то, что болгары предупредили византийских стратегов о походе русов, серьёзного значения не имело, поскольку ромеи ждали атаку на Константинополь, а она последовала в другом месте. То, что именно болгары предупредили Империю о нашествии с севера, удивления не вызывает: «И послали болгары весть царю, что идут русские на Царьград» (Повесть временных лет). Было бы удивительным, если бы они этого не сделали, поскольку являлись союзниками Империи, а их царь Пётр был женат на родственнице базилевса. Поэтому можно не сомневаться в том, что Игорь и этот фактор учитывал, а вот для ромеев это предупреждение, как покажет дальнейшее развитие событий, не имело значения. Ведь боевые действия развернутся не под стенами Константинополя, где византийцы поджидали врага, а на просторах Малой Азии – именно туда и был направлен главный удар русских дружин.
* * *
Огромная армада Игоря миновала Константинополь и двинулась вдоль побережья Анатолии – князь подбирал место, где можно беспрепятственно высадить войска и начать массированное вторжение в глубь вражеской территории. В итоге флот пристал к берегам провинции Вифиния, и 11 июня 941 года вся громадная масса воинов высадилась на берег – никто не помешал высадке, никто не оказал сопротивления, поскольку для имперских стратегов подобный ход русского князя оказался полной неожиданностью. И содрогнулась Византия! Часть отрядов русов рассыпалась по Вифинии, подвергнув провинцию страшному разгрому и разграбив окрестности города Никомедии. Другие двинулись на восток и вторглись в Пафлагонию, дойдя до Гераклеи. Клубы чёрного дыма днём заволакивали синее небо Анатолии, а по ночам зарево пожаров было видно на противоположном берегу Босфора. Русы рыскали по стране в поисках добычи, которая была просто громадной – её свозили на побережье, туда, где был разбит главный лагерь и стояли вытащенные на берег ладьи. Княжеские молодцы разгулялись не на шутку, сведения об этом мы находим как в русских, так и в иностранных письменных источниках. Безнаказанность порождает жестокость, и жители Вифинии и Пафлагонии, брошенные на произвол судьбы своим базилевсом и его советниками, ощутили это в полной мере. «Много злодеяний совершили росы до подхода ромейского войска: предали огню побережье Стена, а из пленных одних распинали на кресте, других вколачивали в землю, третьих ставили мишенями и расстреливали из луков. Пленным же из священнического сословия они связали за спиной руки и вгоняли им в голову железные гвозди. Немало они сожгли и святых храмов» (Продолжатель Феофана). Можно было бы упрекнуть византийского хрониста в преувеличениях, но всё дело в том, что практически теми же словами повествует об этом и Повесть временных лет, что явно не случайно.
Ведь недаром в былине «Волх Всеславович» имеется красочное описание того, как вели себя русы на захваченных территориях:
А и ходит его дружина по царству Индейскому,
А и рубит старого, малого,
А и только оставляют по выбору
Душечки красны девицы.
Правда, гвозди в головы не вбивают, но общего смысла это не меняет.
Между тем письменные свидетельства подчёркивает один очень существенный момент – военные трофеи дружинников были настолько значительны, что, по большому счёту, поход можно было сворачивать и отплывать на Русь. Однако этого не произошло.
Погром провинций Империи продолжался три месяца – это зафиксировано в византийских источниках, где конкретно указано, что армада русов проплыла мимо Константинополя 11 июня, а решающий бой с имперскими кораблями произошёл лишь 15 сентября. Даже за половину этого срока можно было набить ладьи добром по самые борта и спокойно отплывать на родину – мощный флот ромеев так и не появился в этих водах, занятый операциями против арабов. Но Игорь этого не сделал, а потому возникает резонный вопрос: почему? На мой взгляд, ответ лежит на поверхности – князя одолела банальная жадность. Видя, что правительство Византии не предпринимает никаких мер по спасению своих провинций, Игорь уверился, что так оно всё и останется. С другой стороны, князь, возможно, и понимал, что надо уходить, но постоянно откладывал отплытие, поскольку всё новые и новые вереницы телег с захваченным добром тянулись к побережью. Князь просто не мог остановиться, хватая всё больше и больше, а когда спохватился, то было уже поздно – на море появились корабли Империи, а с суши надвигались войска византийских стратегов. Время было упущено, но Игоря это не смутило – вполне возможно, что в глубине души он ждал встречи с армией базилевса, поскольку добыча добычей, но и лавры победоносного вождя тоже не помешали бы князю.
А силы, которые выступили против русов, были очень значительны – доместик схол Востока Панфир вёл 40 000 воинов, закалённых в сражениях с арабами. С севера подходил с македонскими тагмами Варда Фока-старший (отец будущего императора), а из Фракии прибыл стратег Фёдор с войсками. Гонцы из тех отрядов, что разошлись по провинциям, докладывали князю о появлении крупных вражеских сил, о том, что русы вступают в стычки с превосходящими войсками ромеев и, теряя людей, отступают к морю, а византийских отрядов становится всё больше и больше. Появилась вероятность того, что вот-вот может появиться грозный флот Империи и тогда русам придётся действительно туго. Наибольшую опасность для них представляли несущие «греческий огонь» дромоны – тяжёлые корабли, снабжёнными боевыми площадками, где были установлены метательные машины и куда во время боя поднимались лучники. Но главным оружием на дромонах были огненосные сифоны для метания «греческого огня», которым можно запросто сжечь весь вражеский флот. Другим видом судов, которые входили в состав имперского флота, были хеландии, которые также в случае нужды можно было оснастить «греческим огнём». А между тем ситуация накалялась, Игоря обкладывали как медведя в берлоге, но князь по-прежнему не трогался с места, отдавая инициативу врагу. И дождался – войска ромеев соединились в одну армию и повели наступление в сторону побережья, сгоняя рассыпавшиеся по стране вражеские войска в одно место. А потом в море появились корабли Империи – но что это был за флот!
Дадим слово Лиутпранду Кремонскому, чей отчим в это время находился в столице Империи в качестве посла итальянского короля Гуго, а потому и обладал епископ Кремоны информацией, так сказать, из первых рук. Вот что он рассказал о том, какие меры принял базилевс Роман для борьбы с нашествием русов. «Проведя в размышлениях немало бессонных ночей, – Игорь в это время опустошал морское побережье, – Роман узнал, что в его распоряжении есть ещё 15 полуразрушенных хеландий, которые народ оставил дома из-за их ветхости». Как видим, ни о каком грозном и могучем флоте, который мог бы остановить русов и помешать их высадке в Анатолии, даже речи нет. Потому что та рухлядь, которая стояла в гавани Константинополя, для боевых действий совершенно не годилась.
Правительство Византии пребывало в панике. Судя по всему, император пару месяцев провёл в глубокомысленных размышлениях и, ворочаясь долгими ночами с боку на бок, терзался лишь одной мыслью: что делать в данной критической ситуации? Казалось, что шансов на спасение своих провинций у ромеев нет. Но для Игоря и его воинства настоящей бедой оказалось то, базилевс Роман Лакапин до того, как усесться на трон, был командующим военно-морскими силами Империи и всё, что касалось ведения боевых действий на море, знал от и до. Вот и нашёл выход из этого сложного положения.
Роман дал чёткие указания тем, кто снаряжал этот ветхий флот: «Но разместите устройство для метания огня не только на носу, но также на корме и по обоим бортам» (Лиутпранд Кремонский). То есть приказал втрое увеличить огневую мощь кораблей, хотя это и было сопряжено с определённым риском – для стрельбы «греческим огнём» море должно было быть спокойным, не дай бог смесь при качке попадёт на палубу. Но другого выхода не было, и приказ базилевса был выполнен.
Использование «греческого огня» на море. Миниатюра из Мадридского списка «Хроники Иоанна Скилицы».
Не от хорошей жизни было решено оснастить «греческим огнём» те ветхие судна, которые ещё оставались на плаву в гавани столицы, и послать их против русов – вся надежда была на мастерство и доблесть византийских моряков и солдат, обслуживающих машины для метания «греческого огня». Всё точно рассчитал князь Игорь, когда планировал поход, все шансы на благополучный исход были на его стороне, но вот пошёл на поводу у собственной жадности, и результаты не заставили себя долго ждать.
* * *
Когда дозорные донесли, что армия ромеев на подходе, Игорь срочно собрал на совет воевод – решали, дать врагу бой на суше или погрузиться на ладьи и уплыть на Русь. Судя по всему, тот флот, который удалось собрать базилевсу, русы не восприняли как серьёзную угрозу, поскольку и внешний вид, и количество кораблей свидетельствовали сами за себя – воеводы рассчитывали без труда отправить греков на дно. В итоге было принято решение: невзирая на численное превосходство врага, дать бой на суше, поскольку в случае неудачи дружины могли отступить на корабли и уйти морем, зато в случае победы дружинники могли продолжать праздник жизни на территории Империи. Ведь в данный момент, после разгрома вооружённых сил Византии, без защиты оказывалась большая часть Малой Азии и рейды за добычей можно было уже продолжать в новых местах, не затронутых грабежом. Вполне возможно, высказывались мысли попробовать в случае удачи в битве закрепиться на побережье и удержать за собой одну из областей – когда ещё базилевс соберёт новые войска! В итоге наутро русы покинули свой стан и стали строиться в боевой порядок – увидев, что враг готовится к битве, началось движение и в лагере византийцев.
Войско Игоря было пешим, лишь немногие гридни были на конях, захваченных во время набегов по вражеской стране, – через море много лошадей в ладьях не перевезёшь. Дружинники вставали тесными рядами, плечом к плечу, сдвигали внахлёст большие круглые щиты – среди них было немало варягов, воевавших на Севере и не понаслышке знавших всю мощь этого боевого строя викингов. «Стена щитов» способна выдержать удар не только вражеской пехоты, но и отразить атаку тяжёлой кавалерии, которой так были сильны византийцы, а затем в едином, монолитном броске разбить вражеские ряды. Вперёд Игорь выдвинул лучников, велев им в случае необходимости отступить за строй и укрыться на ладьях, которые тихо покачивались на мелководье – если русы отступят к морю, то пусть с судов и стреляют по ромеям. С одной стороны, позицию князь занимал выгодную – за спиной было море, что исключало возможность захода в тыл вражеской конницы. Правда, и русы были лишены возможности маневра, и всё в итоге сводилось к фронтальному столкновению.
Над рядами греков пропели трубы, и массы пехоты двинулись вперёд – в ответ взревели боевые рога варягов, и строй дружин ощетинился копьями и мечами. Выдвинувшиеся вперёд лучники засыпали наступающих ромеев градом стрел, византийцы один за другим валились под ноги идущих вперёд товарищей, поднимающих над головами большие овальные щиты. Видя, что стрелами атаку вражеской пехоты не остановить, Игорь распорядился отозвать стрелков – выпустив в наступающих греков ещё по стреле, лучники бросились назад. Дружинники разомкнули строй, пропуская своих товарищей, а затем вновь сомкнули ряды, готовясь встретить вражескую пехоту. Два войска с грохотом столкнулись на морском берегу, и отчаянная рукопашная закипела по всему фронту. Под мощным натиском больших масс византийской пехоты, «стена щитов» дрогнула, прогнулась в центре, а затем резко выпрямилась. Ударами мечей, копий и боевых топоров дружинники и варяги Игоря выкосили передние ряды пехотинцев базилевса и отбросили их назад. Ромеи отступили, выровняли ряды, вновь ударили по русам и снова откатились, разбившись о «стену щитов», оставляя на земле десятки изрубленных и исколотых тел.
Князь Игорь прекрасно понимал, чего добиваются вражеские стратеги, – ударами пехоты расстроить боевые порядки русов, а затем окончательно опрокинуть их натиском тяжёлой кавалерии. Он видел, как волнами на строй его рати накатывается вражеская пехота и как откатывается назад, неся большие потери. Было ясно, что скоро стратеги Панфир и Фока отзовут пешее воинство, которые не смогло добиться успеха, а вместо них пошлют в бой тяжёлую конницу закованных в доспехи катафрактов и клибанариев. Вот тогда гридням и варягам действительно придётся нелегко, поскольку конница ромеев была той силой, которая запросто может переломить ход сражения. Так и произошло – медленно, отбиваясь от наседавших русов, выходили из боя утомлённые подразделения византийской пехоты и не спеша двигались в тыл, где стратеги начинали приводить в порядок свои потрёпанные войска. Над полем боя ненадолго воцарилось затишье. Русы выносили из строя тела убитых, оттаскивали раненых на корабли, правили затупившееся оружие. Солнце палило нещадно, раскаляя доспехи и шлемы, воинов Севера мучила страшная жара, от которой негде было укрыться, а вода, нагревшаяся на солнце, не могла утолить жажду уставших бойцов. Но недолгая тишина снова взорвалась боевым кличем ромеев и грохотом оружия – Панфир взмахнул мечом, и бронированные клинья кавалерии базилевса пошли в атаку.
* * *
Это был страшный день для Игоря, его воевод и всех тех, кто стоял под княжеским стягом на берегу моря. Тяжёлая конница Империи лавиной накатывалась на боевые порядки русов, с разгону вламывалась в их ряды, ломая стену из щитов, стремясь развалить и прорвать монолитный строй. Закованные в железо по самую макушку, клибанарии гвоздили налево и направо тяжёлыми палицами и боевыми топорами, раскалывали щиты, разбивали на куски шлемы, дробили доспехи, ломали кости. Их громадные кони, также закованные в доспехи, ударами копыт сбивали дружинников с ног, втаптывали упавших в залитый кровью песок, врезаясь в ряды, рушили боевой порядок. Катафракты длинными пиками пронзали сразу по нескольку человек, а многие, изломав в рукопашной длинные копья, потянули из ножен мечи и, разогнав коней, буквально влетали в передние ряды, поражая врагов. «Стена щитов» гнулась и трещала под этим страшным натиском. Тут и там возникали в ней прорехи, куда устремлялись вражеские наездники, но воеводы бросались в эти опасные места, восстанавливали порядок, и снова строй русов стоял несокрушимо. Отступая, русы приблизились к самому берегу, где стояли ладьи, и град стрел с них сразу же накрыл византийцев – наступление вновь захлебнулось.
Критический момент наступил, когда Панфир послал в бой отдохнувшую пехоту, а Варда Фока лично возглавил атаку кавалерии – русы дрогнули и стали пятиться к берегу, из последних сил держа строй, понимая, что если он рухнет, то всё будет кончено и все они так и останутся лежать на этом залитом кровью берегу. Понял это и Игорь, а потому спрыгнул с коня, взял у оруженосца двуручный боевой топор и пошёл в первую шеренгу бойцов, в самую гущу боя. В этот решающий миг князь бросил на чашу весов последнее, что только мог, – личное мужество, поскольку никаких свежих войск под рукой у него не оставалось. Стоя в первой шеренге, Игорь тяжёлым топором крушил ромеев, страшными ударами рассекал панцири клибанариев, вышибал из сёдел катафрактов, которые с грохотом валились на землю, беспомощно барахтаясь в песке, поскольку не имели силы подняться самостоятельно. На победу Игорь уже не надеялся, единственной надеждой оставалось продержаться до темноты, а там погрузиться на суда и уйти на Русь, но для этого надо было выстоять до ночи под непрекращающимся потоком вражеских атак. И это ему удалось – варяги и гридни воспрянули духом, увидев в первом ряду своего князя, вновь сомкнули ряды и отбросили греков.
Яростные бои продолжались до вечера, стратеги вновь и вновь кидали в атаки панцирную конницу, пытаясь сбросить русов в море, но уже становилось ясно, что северяне устояли, невзирая на страшные потери. Желая прекратить ставшее бессмысленным кровопролитие, а также сберечь свои отборные войска для завтрашнего боя, Панфир велел трубить отступление. Тяжёлая византийская конница, выходя из боя, еле-еле передвигала ноги – доспехи катафрактов и клибанариев были иссечены мечами и топорами, а сами всадники болтались в сёдлах как безвольные куклы. Их боевые кони, измотанные беспрерывными атаками под палящими лучами солнца, с трудом тащили закованных в доспехи хозяев, которые жарились в своих панцирях, словно в печках. Армия ромеев, подобно гигантской змее, уползала в свой лагерь, не имея больше сил продолжать сражение. Русы ушли к ладьям, и битва стихла, багровое солнце стремительно катилось за линию горизонта, и вскоре наступившая ночь накрыла заваленное тысячами изрубленных и растоптанных тел побережье.
* * *
Сразу после боя Игорь собрал военный совет – несмотря на то, что русам в этот день удалось устоять, князь не обольщался и прекрасно понимал, что второй такой битвы его рать просто не выдержит. Потери были страшные, ещё больше было раненых, и все осознавали, что выход только один – грузиться на ладьи и уходить на Русь. Времени было в обрез, надо было не только подготовиться к отплытию, но и проводить в последний путь павших воинов, чьи тела уже сносили на берег – благо после такой сечи многие ладьи стояли пустые, и по приказу князя туда складывали погибших. Из византийского лагеря было видно, как чёрное ночное небо озаряет пламя погребальных костров, на которых русы жгли тела своих товарищей, и многим ромеям становилось не по себе, когда они начинали думать о завтрашнем дне.
Похороны знатного руса. Худ. Г. Семирадский.
А Игорь торопился – пока догорали погребальные костры, его воины спешно грузились на ладьи, соблюдая строжайшую тишину, чтобы в лагере ромеев не возникло и тени подозрения на то, что русы хотят отплыть. Того флота, который его караулил в море, киевский князь не боялся, думая просто пройти мимо него и даже мысли не допуская, что византийцы атакуют русов. Отплывали ночью, пока не наступил рассвет, но командующий флотом Империи патрикий Феофан службу поставил хорошо, а потому и узнал вовремя, что вражеские ладьи отошли от берега. Он решил не дожидаться противника, а атаковать сам, используя момент неожиданности, поскольку русы этого нападения явно не ожидали. Византийские хеландии смело пошли на сближение, и Игорь распорядился их захватить – явное свидетельство того, что он не считал моряков Феофана серьёзными противниками. Об этом же говорит и обращение князя к воинам, когда он предлагал не убивать ромеев, а брать их в плен. Но Игорь жестоко ошибся.
Едва корабли враждебных флотов сблизились, как с палуб ромейских судов стали извергаться потоки «греческого огня». Погода стояла идеальная, поверхность моря была ровной и спокойной, а потому успех сопутствовал кораблям базилевса. Яркими кострами занялись в темноте ладьи русов, и эта ночь стала самой кошмарной в жизни князя Игоря. Он видел, как его гридни и варяги бросались с охваченных пламенем судов в море и тут же шли на дно под тяжестью доспехов, а те, кто всё же выплыл, продолжали гореть в воде, по которой растекался огонь. Как кормчие правили прямо на ромейские корабли, надеясь захватить их с бою, но византийцы не давали им даже приблизиться – медные трубы извергали всё новые и новые струи огня, а ладьи одна за другой исчезали в пламени. Ночь превратилась в день, само море вокруг горело, и суеверный страх стал охватывать русов и варягов, которые в жизни не видели чего-либо подобного. Вскоре паника охватила всех – от князя до простого ратника, каждый думал теперь только о себе, о том, как бы скорее выбраться из этого огненного ада. Но спасения не было никому. Хеландия патрикия Феофана врезалась в самую гущу вражеского флота, поливая с кормы и носа огнём вражеские ладьи, которые пытались её окружить. На палубе флагмана воины и моряки Империи действовали быстро и слаженно, выше всяких похвал, успевая обслуживать свои смертоносные машины и укрываться от стрел, смертельным дождём летевших с ладей. Следом за своим храбрым командующим и остальные ромейские корабли уверенно пошли вперёд, извергая огонь, а флот русов распался – одни начали править на мелководье, куда из-за тяжёлой осадки не могли подплыть хеландии, другие же бросились уходить в открытое море, надеясь потеряться в темноте. Вместе с ними уходил и князь, оставляя за собой пылающее море, где гибли его корабли и в огне сгорали верные дружинники. Не имея возможности ничем им помочь, Игорь надеялся, что если судьба будет к нему благосклонна и он вернётся домой живым, то его месть ромеям ждать себя не заставит.
Действие «греческого огня» при осаждении Константинополя Игорем. Худ. Ф. Бруни.
Что же касается тех русов, которые отступили на мелководье, то их судьба сложилась трагически: когда взошло солнце, они увидели, что со стороны моря их поджидает огненосный флот, а на суше – армия базилевса. Большая часть их погибла в схватках с византийцами, остальные же попали в плен, и их казнили в Константинополе вместе с теми из русов, которые были захвачены во время ночного боя на море. Эту казнь и наблюдал отчим Лиутпранда Кремонского, «человек, преисполненный достоинства и мудрости», который в это время находился в столице Империи в качестве посла итальянского короля Гуго.
* * *
Подведём итоги – поход, на который Игорь возлагал столько надежд, закончился полным провалом, и вина за неудачу в большей мере лежала именно на князе. Если бы он вовремя остановился, погрузил рать на суда и отплыл домой, пока базилевс «проводил в размышлениях немало бессонных ночей», то исход предприятия был бы иным и Игорь мог бы почивать на лаврах, осенённый заслуженной славой. А так – флот сожжён, войско практически полностью уничтожено, средства, вложенные в этот поход, пошли прахом. Лев Диакон конкретно обозначил размеры постигшей русов катастрофы, а также прямо указал маршрут бегства князя, который «к Киммерийскому Боспору прибыл едва лишь с десятком лодок, сам став вестником своей беды». Об этом же свидетельствуют и другие византийские источники, например, в «Житии Василия Нового» сказано, что русы «… едва спаслись в свою землю, чтобы рассказать о том, что с ними случилось». Причём в свете этих двух известий можно сделать вывод о том, что Боспор Киммерийский принадлежал Игорю, и не случайно именно туда убежал князь после разгрома. О практически полном уничтожении рати русов свидетельствует и Супрасльская летопись, в которой есть указание на то, что после этого похода Игорь в Киев «отбежа в мале дружине», что было вполне естественно после ожесточённого сражения на суше с армией Империи и катастрофы на море. Но это ещё не повод безоговорочно записывать князя в неудачники. Игорь не был идеальным правителем и человеком, как и все люди, он совершал ошибки и пытался в меру сил их исправить. А потому это поражение нисколько не умаляет его заслуг перед потомками. Не ошибается тот, кто ничего не делает, а жизнь у Игоря, жившего на переломе эпох, была очень насыщенной. Что как раз и подтвердилось, когда он вернулся на Русь из злополучного похода.
Прибыв на берега Днепра, князь развил бурную деятельность: создаётся впечатление, что, пока он добирался до дома, все его мысли были только об одном – отомстить! Вероятно, что во время долгого пути Игорь всё тщательно обдумал, взвесил свои возможности, поразмышлял над допущенными ошибками, сделал соответствующие выводы – и сразу по приезде начал готовить новый поход на Византию. Ромеи сожгли флот – немедленно строить новый! Дружина понесла тяжёлые потери – вперёд, к варягам и викингам, вербовать новых бойцов, денег не жалеть! Нечего противопоставить коннице базилевса – наймём печенегов! Греки захотят перехватить нас на море – а мы и по суше пойдём, да ещё и по Болгарии ударим! Игорь целиком ушёл в подготовку к этому походу, передоверив дела по внутреннему управлению страны своей жене. С одной стороны, ему хотелось как можно скорее встретиться вновь со своим врагом на поле боя, с другой – он понимал, что любая оплошность и недогляд, допущенные в спешке, могут привести к очень тяжёлым последствиям. Он уже не имел права на ошибку, князь просто обязан был смыть с себя позор поражения и поставить Империю на место. И если поход в 941 году был его личным делом, то в 943-м он превратил его в общегосударственное мероприятие, подняв на войну с Империей все подвластные и зависимые земли – «русь, и полян, и словен, и кривичей, и тиверцев».
По сообщениям Повести временных лет второй поход Игоря начался в 944 году, хотя Н. М. Карамзин, Б. А. Рыбаков и ряд других историков указывали на 943-й, опираясь на обрывочные сведения Новгородской I летописи. Я тоже склоняюсь к этому мнению, а потому при описании дальнейших событий буду исходить из того, что Игорь выступил в поход на Византию в начале мая 943 года. Но самое интересное, что некоторые исследователи, начиная от Н. И. Костомарова и заканчивая А. Королёвым, утверждают, что этого похода просто не было, на основании того, что в византийских источниках он не упоминается. «Если греки недавно разбили русских, то не могли до такой степени перепугаться их нового нашествия, особенно когда были предупреждены заранее и, следовательно, могли предпринять все средства и способы к отражению наступавшего неприятеля. Согласиться на унизительные условия, не бившись с врагами, которые недавно потерпели поражение, было бы уж чересчур нелепо, и Византия не была еще в то время бессильною» (Н. И. Костомаров). Для начала замечу, что если в иностранных источниках ничего не говорится о событиях из русской истории, то это ещё не повод полностью их отвергать – вон некоторые умники договорились до того, что и Невской битвы в 1240 году не было: дескать, у буржуев про неё ничего не написано.
Опять же всегда необходимо помнить о том, что Империя часто вела войну на два фронта – в Европе и Азии, а потому переброска войск с одного театра боевых действий на другой представляла определённые затруднения. То, что базилевс получил предупреждение из Херсонеса о движении флотилии Игоря, удивления не вызывает, после событий 941 года он просто обязан был усилить разведку в этом регионе. Что же касается того, что болгары предупредили ромеев о нашествии русов, то они и в 941 году тоже предупреждали, только толку от этого не было никакого. Зато теперь «братушки» донесли о том, кто же идёт на этот раз под стягом Игоря, и дали императору Роману ту информацию, которой не располагала администрация в Херсонесе. Весть о том, что вместе с русами идут печенеги, обеспокоила правящие круги Византии. Знаменитая византийская дипломатия дала сбой, а князь Игорь начисто переиграл базилевса и его окружение, поскольку принцип «Разделяй и властвуй» в этот раз не сработал. Ермолинская летопись донесла до нас те слова, с которыми имперские стратеги обратились к базилевсу: «Русь идёт на тя и Печенег наняли суть».
Вот потому и запаниковали в Царьграде, вот потому и решили попытаться решить дело миром, поскольку поняли, с какой силой им придётся столкнуться: «Они же, слышавши безьконечну его силу, послаша ко Игору: “Не ходи на них, a возми дань, яко жь Олег”» (Супрасльская летопись). К этому времени армия и флот Игоря подошли к Дунаю, и князь начал готовить переправу своих сухопутных сил на другой берег реки. Вот тут-то и нагрянуло византийское посольство.
* * *
Цель послов была вполне конкретной – не допустить вторжения громадного вражеского войска на земли Империи, предложить откуп и заключить мир на взаимовыгодных условиях. Что творят русы на захваченных территориях, ромеи знали не понаслышке, Вифиния и Пафлагония до сих пор пребывали в запустении, ну а уж если с Игорем явились с печенеги… В случае продолжения войны перспектива перед базилевсом вырисовывалась не очень радужная, потому что даже в случае победы византийского оружия тот урон, которые его землям могли нанести русы вместе с кочевниками, мог оказаться невосполнимым. С другой стороны, для бояр и воевод Игоря сладким звоном прозвучали слова императора, которые тот передал через послов: «Не ходи, но возьми дань, какую брал Олег, прибавлю и еще к той дани» (Повесть временных лет). Очевидно, что многие из них помнили поход 941 года, страшные атаки византийских катафрактов под палящим солнцем Анатолии и всепожирающий «греческий огонь». Слишком свежи были в памяти эти воспоминания…
Вот если бы базилевс посольство не прислал, то и ситуация тогда складывалась другая, русам снова приходилось биться и с кованой ратью ромеев, и вести ладьи на огненосные дромоны. Но сейчас появлялся шанс получить всё без боя и заключить почётный мир. Княжеская дружина явно не горела желанием идти в бой с непредсказуемым исходом, и недаром летописец отметил, что мирная инициатива исходила от них, а не от князя. «Сказала же дружина Игорева: “Если так говорит царь, то чего нам еще нужно, – не бившись, взять золото, и серебро, и паволоки? Разве знает кто – кому одолеть: нам ли, им ли? Или с морем кто в союзе? Не по земле ведь ходим, но по глубине морской: всем общая смерть”» (Повесть временных лет). Что же касается Игоря, то, наверное, он всё же хотел встретиться с ромеями на поле битвы и кровью греков смыть позор прошлой неудачи, но, столкнувшись с противодействием большинства, уступил. «И створи с нимь мир и по миру Олгову» (Супрасльская летопись) – так напишет летописец, подводя итог не только походу 943 года, но всем русско-византийским войнам, пришедшимся на период правления князя Игоря. Этот мир окажется достаточно прочным и будет нарушен только в 970 году, когда грянет решающая схватка между молодой Русью и древней Византией. В эти дни Империя содрогнётся от грозной поступи дружин Святослава, который приведёт в её земли свои победоносные войска.
Ну а крайними в этой ситуации оказались болгары, и пословица «Не рой другому яму, сам в неё попадёшь» оказалась явно про них – князь Игорь спустил на «братушек» всю свою печенежскую свору. Печенеги – это народ-воин, война и грабёж были смыслом их жизни. И хоть были задарены они ромеями сверх всякой меры, но от предложения, которое сделал им князь, отказаться не смогли – это было выше их сил. Здесь интересы Игоря и его степных союзников совпали полностью, поскольку князь карал болгар за их пакости по отношению к Руси, а печенеги получали пленных, добычу и небольшую войну. Грандиозный поход Игоря закончился на полпути к вражеской столице, но итоги его удовлетворили всех участников – мир заключён, откуп получен, дружеские отношения между двумя странами восстановлены. Оставалось закрепить всё это официально, а потому предстоял длительный обмен посольствами между Киевом и Константинополем. Но по большому счёту, это уже значения не имело – война закончилась, а «Игорь же начал княжить в Киеве, мир имея ко всем странам» (Повесть временных лет).