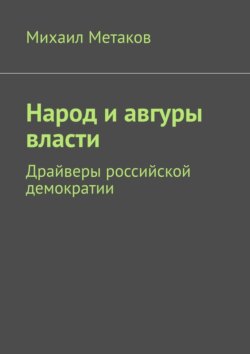Читать книгу Народ и авгуры власти. Драйверы российской демократии - Михаил Метаков - Страница 28
ГЛАВА 3
АВГУР В россии больше, чем авгур
6
ОглавлениеДерзновенные планы Рюрика-старшего и Вещего Олега по созданию древнерусского государства неуклонно воплощались в жизнь их последователями-единомышленниками, какими стали князь Игорь Рюрикович, его супруга княгиня Ольга и их сын Святослав Игоревич. Однако следует заметить, что не только в этом «ближнем круге», но и в числе многих других древнерусских правителей особая роль принадлежала Ольге – первой женщине, волей чрезвычайных обстоятельств возглавившей киевский престол и фактически правившей Киевской Русью не менее двадцати лет.
Изначальное строительство любого государства это не только расширение границ, военные походы, победы и поражения. Не в меньшей степени это кропотливая и не всегда заметная постороннему глазу работа по устроению внутренней жизни государственного – по сути, огромного семейного, хозяйственного и этнически разного – организма. И в этом смысле великая княгиня Ольга выступала достойным продолжателем авгурского ума и опыта Вещего Олега, который не только воевал, но и сплачивал разноликие языческие племена в единое сообщество на этапе зарождения Древней Руси и России…
Этот киевско-новгородский интернационал с примесью скандинавской крови, доставшийся по наследству молодым Рюриковичам, требовал дальнейшего «огосударствления» и не всегда одной только силой боевых княжеских дружин. Например, вот что об этом писал русский публицист и писатель И.Л.Солоневич в своем доктринальном труде «Народная монархия»:
«Русскую государственность создали два принципа: а) уживчивость и б) „не замай“. Если бы не было первого – мы не могли бы создать Империи. Если бы не было второго, то на месте этой империи возник бы чей-нибудь протекторат: претендентов в протекторы у нас было вполне достаточное количество – даже и без Рюрика… <…> Мы все знаем о тех степных ордах, которые задолго до образования киевской государственности бродили по просторам теперешней южной России. Они делали невозможным никакое государственное строительство. Это они смели с лица земли германские, венгерские, болгарские и хазарские попытки государственной, а, следовательно, и культурной организации русской территории. От всех предыдущих попыток, киевская отличалась тем и только тем, что остальные не устояли, а она устояла. Отличие, согласитесь сами, довольно существенное… <…> Почему все остальные не выдержали, а Русь выдержала? Мы могли бы ответить: по той же самой причине, по какой она впоследствии выдержала: татар, турок, поляков, шведов, французов и, наконец, немцев. Но это не будет ответом. Более точный ответ, я боюсь, будет довольно затруднительным. Ибо это будет ответ о врожденных способностях нации. Мы можем сказать, что новорожденная русская нация проявила огромную способность к уживчивости. Что, следовательно, она сумела как-то сколотиться из неизвестного нам количества более или менее неизвестных нам людей, племен, религий и прочего, – и, этот „кооператив“ или эта „артель“ оказалась сильнее своих предшественников – ибо она была прочнее: она не отталкивала от себя никакой силы, готовой работать совместно: варяги – давайте варягов, тюрки – давайте тюрков. Мы можем так же отметить и то техническое изобретение, которое ни до ни после России не удавалось никому: это система обороны страны от огромных конных масс, обладавших огромной стратегической подвижностью… (Солоневич И. Л. Народная монархия. Часть третья. Киев и Москва. Начало Киева. – М.: РИМИС», 2016).
_________
Великая княгиня Ольга, первая правящая особа женского рода на Руси, бесспорно, принимала личное участие во всех государствено-устроительных делах. Задолго до Солоневича об этом со ссылками на «Повесть временных лет» говорил знаменитый русский историк Николай Михайлович Карамзин. В своем труде «История государства Российского» он так описывал княгиню Ольгу со слов летописца Нестора: «Предание нарекло Ольгу Хитрою, Церковь Святою, История Мудрою… Она умела соблюсти тишину в стране своей и мир с чуждыми; учреждала порядок в Государстве обширном и новом; не писала, может быть, законов, но давала уставы, самые простые и самые нужнейшие для людей в юности гражданских обществ. Великие Князья до времен Ольгиных воевали, она правила Государством…» (Карамзин Н. М. История государства российского. В двенадцати томах. Том I. Глава VII. Князь Святослав. Г. 945—972, стр. 129. – Москва: Издательство «Наука»).
Отомстив за смерть князя Игоря и обложив побежденных древлян данью, Ольга правила до совершеннолетия своего сына и после этого срока – как уже отмечалось, Святослав обладал нравом горячим и сидению в Киеве предпочитал военные походы. В них он тоже, как и его отец Игорь, провел бо́льшую часть своего княжения, возложив заботу о государстве на мать. Княгиня Ольга преуспела на этом поприще, прослыв дальновидной правительницей, при этом отличалась мудростью и народолюбием.
Она упорядочила сбор податей и учредила для этого своего рода центры торговли – погосты. Занималась благоустройством подвластных Киеву земель, поделив их на административные единицы под управлением княжеского наместника. Много заботилась и об обороне вверенной ей страны: установила первые границы Киевской Руси и укрепляла стоящие на них города. Именно при ней в Киеве появились первые каменные здания – это были городской дворец княгини и ее загородный терем. Также Ольга заложила деревянную церковь в честь святой Софии, которая сгорела во время пожара 1017 года, но на том же месте ее правнук Ярослав Мудрый воздвиг уже каменный храм и главную достопримечательность Киева – Софийский собор, который сохранился до наших дней. Расширяла Ольга и связи с соседними странами, привлекая на Русь иноземных купцов.
И вдруг как гром среди ясного неба – в 957-ом году, через двенадцать лет после прихода к власти, княгиня Ольга принимает христианство в ходе длительного визита в Константинополь…
Крестили ее под именем Елены сам император Константин VII Багрянородный (или его сын и соправитель Роман) и патриарх Феофилакт. Вернувшись в Киев, княгиня было попыталась приобщить к новой вере язычника Святослава, но тот, опасаясь, что его засмеет дружина, категорически отказал матери. Тогда Ольга предрекла, что христианство все равно скоро придет на Русь, и оказалась права. Она начала с малого – стала потихоньку возводить в Киеве и других городах православные храмы. А на могиле киевского князя Аскольда, первым принявшего христианскую веру и поплатившегося за это во времена Вещего Олега, воздвигла церковь святителя Николая Чудотворца.
_________
Что подвигло княгиню Ольгу через семьдесят пять лет после убийства вероотступника Аскольда и вокняжения язычника Вещего Олега в Киеве вспомнить о христианстве и принять столь важное и ответственное решение? Может, это было исполнением воли Рюрика и Олега в их стратегических замыслах построения централизованного государства? Или просто пришло время и созрели объективные условия для коренных перемен в устройстве жизни и сознании «людей в юности гражданских обществ», т.е. в Киевской Руси, о чем писал Карамзин, характеризуя Ольгу? И почему князь Игорь, а он, несомненно, был посвящен в стратегические планы государственного строительства на новгородско-киевских землях, назывался Игорем Старым? Нельзя исключать версию, что его так прозвали за устаревшие методы княжения и преданность языческим богам вместо обретения новой веры и новых возможностей в контактах с более развитым христианским миром…
Для справки. Академик Евгений Евсигнеевич Голубинский (1834—1912), авторитетный ученый, автор ряда фундаментальных исследований по истории русской церкви и церковной архитектуры, сыгравший важную роль в канонизации преподобного Серафима Саровского, отмечал, что к заслугам киевского князя Игоря Рюриковича относится и осознание прогрессивной роли христианства. Как минимум бесспорной остается его религиозная терпимость. Голубинский даже считал князя «внутренним», или тайным, христианином. К тому же текст договора с Византией 944 года содержит ряд сведений о том, что христианство на Руси в то время не просто существовало, а пользовалось определенным пиететом. Его адепты не только не подвергались притеснениям со стороны княжеской власти, но и принимали активное участие в политической жизни молодого государства. Более того, по мнению Голубинского сторонники христианства имели даже бóльшее влияние на общественные дела, нежели язычники. К слову, в Киеве с 944-го года функционировала Ильинская церковь, в которой присягали знатные христиане Древней Руси и греческие послы во время заключения русско-византийского договора и тогда еще некрещенная княгиня Ольга имела возможность наблюдать эту церемонию. Но как бы не обстояли дела в отношении христианства у правящей киевской элиты, все же основной религией того времени на Руси оставалось язычество. – (Из энциклопедических источников).
В любом случае, крещение княгини Ольги было далеко не спонтанным и беспричинным поступком. За этим – наверняка выстраданным и вызревавшим в течение многих лет – решением стояли уже по-настоящему государственные интересы и политическая воля высшего правителя прекратить хаос языческо-племенного многобожия, тормозивший процесс дальнейшего развития Киевской Руси как государства…
И действительно, в девятом веке, даже при существовании рудиментов военной демократии и пережитков первобытно-общинного строя – кровная месть, круговая порука, вече, вера во множество богов и т.д., начала складываться система феодальных отношений. Во главе «союза союзов племен», другими словами, федерации племен стоял великий князь киевский, при котором существовал совет из наиболее знатных и могущественных князей и бояр. Княжеские дружинники ведали сбором дани, податей, осуществляли суд, разбирали мелкие дела и пр. В города назначались специальные княжеские представители (посадники). В вассальной зависимости от князя находились его родственники, князья удельных земель, бояре, владевшие большими вотчинами и имевшие свою дружину. Основными производителями являлись свободные общинники, вспомогательной рабочей силой были холопы – лица, находившиеся в зависимости по форме близкой к рабству (при этом в Киевской Руси не было рабства в чистом виде как в других странах). Сформировалась преимущественно семейная структура сожительства людей. И что особенно важно – в девятом веке у славян появилась письменность.
Наряду с этим, наблюдая и сравнивая как устроена жизнь в соседних странах, Ольга не могла не желать взять лучшее из практики соседей и перенести этот позитивный опыт на родную землю. В феодальной Европе и Византии к тому времени пышным цветом цвели земледелие и скотоводство, развивалось ремесленное производство, формировались сословия и классы, складывалась система права и государственного законодательства. Поэтому посольско-дипломатическая активность киевской княгини, ее личное участие в заключении договора с Византией 944 года, попытки установить межгосударственные отношения с германским королем Оттоном Первым в 959-ом году, организация образцовой таможенной службы на своих границах и многое другое имело лишь одну цель – Ольга энергично стремилась модернизировать хозяйственный уклад в собственном государстве по лучшим зарубежным образцам. В этом контексте совершенно не случайно историк Карамзин при характеристике Ольги, упомянутой выше, отметил самое существенное: «Великие Князья до времен Ольгиных воевали, она правила Государством…».
Другое дело, что религиозно-политические интересы более развитых соседей прежде всего преследовали задачу подчинить Киевскую Русь и сделать ее своим безропотным вассалом – это обстоятельство, а также языческие пережитки серьезно тормозили приглашение мастеров-знатоков из христианских стран и импорт прогрессивных технологий. Княгиня Ольга надеялась прорвать эту блокаду своим публичным примером обращения в христианство, однако все было не так просто…