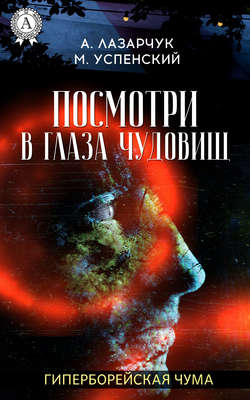Читать книгу Посмотри в глаза чудовищ - Михаил Успенский - Страница 5
Часть первая
Промедление смерти[50]
Оглавление– Гумилёв, поет, на выход!
– Нет здесь поэта Гумилёва, – сказал я, вставая с нар и закрывая Библию. – Здесь есть поручик Гумилёв[51]. Прощайте, господа. Помолитесь за меня, – и я протянул книгу редковолосому юноше в студенческой тужурке.
– Руки-то за спину прими, – негромко скомандовал конвойный, вологодской наружности мужичок, окопная вошь, не пожелавшая умереть в окопе. Он не брился так давно, что вполне мог считать себя бородатым.
В коридоре нас потеснили к стене двое чекистов, тащивших под локти человека с чёрным мешком на голове. Один из чекистов был женщиной. Впрочем, чему удивляться, если дочь адмирала Рейснера[52] пошла по матросикам? И эта, должно быть, какая-то озверевшая инженю из альманаха «Сопли в сиропе». Я проводил их взглядом. Было в этой новой русской тройке такое, что заставляло провожать её взглядом.
Очень дико выглядят женщины в коже и мужчины в галифе без сапог…
Я тоже был в галифе без сапог.
– Счастливый ты, барин, – сказал мне в спину конвойный.
– Отчего так?
– Уйму деньжищ за тебя отвалили[53]… сказать – не поверишь…
– Что ты мелешь?
– Истинный Бог!
– А как же это ты, верующий, безбожникам служишь?
– Несть власти, аще не от Бога, – извернулся конвойный. Был он редкозуб и мягок, как аксолотль[54]. – Не о том речь, барин. Что же ты за человек такой дорогой? Сам видел, государственного банка ящики… Ты вот что, ты меня-то запомни, я тебе худого не делал и не желал вовсе. Может, пригожусь…
– Ладно, служивый. Может, и пригодишься.
Из-за угла вдруг возник чекист неожиданно пожилой, в костюме-тройке и толстых очках в железной оправе, с модной у них козлиной эспаньолкой, которая позже стала известна как ленинская бородка. Он уставился на конвойного, и я почувствовал, что сейчас что-то произойдёт. Конвойный за моей спиной громко икнул.
– Ты! – завизжал чекист. – Тетерев злоёбаный! Мешок где, говно зелёное? Мешок где?!!
– Да я… да вот… – и конвойный понёс какую-то чушь о вобле и сухарях. Несколько секунд чекист слушал его внимательно.
– Ты знаешь, что с тобой теперь товарищ Агранов[55] сделает? – сказал он вдруг очень тихо, и конвойный упал. Чекист пнул его в бок, плюнул и, часто дыша, но уже явно успокаиваясь, пожаловался мне: – Вот такие и погубят революцию… Ладно, теперь уже не исправишь. Идёмте, Николай Степанович, вас ждут.
И мы пошли – в раскрытую дверь, к фыркающему автомобилю «рено». Когда-то в нём ездили порядочные люди, а теперь…
Я увидел, кто в нём ездит теперь, и ахнул от изумления.
– В сущности, вы уже три дня как мертвы. По всему городу вывешены расстрельные списки. Вы идёте номером тридцатым[56]. Гумилёв Николай Степанович, тридцати трёх лет, бывший дворянин, филолог, поэт, член коллегии издательства «Всемирной литературы», беспартийный, бывший офицер. Участник Петроградской Боевой организации, активно содействовал составлению прокламаций контрреволюционного содержания, обещал в момент восстания связать с организацией группу интеллигентов, которая активно примет участие в восстании, получал от организации деньги на технические надобности… Извините за стиль.
– А что это вы за них извиняетесь? – пожал я плечами.
– Потому что в какой-то степени несу за них ответственность. Впрочем, как и вы.
– Помилуйте! Я-то с красными флагами не ходил и сатрапов не обличал…
– А кто подарил портрет августейшего семейства какому-то африканскому колдуну[57]?
Я вдруг почувствовал, что у меня поднимаются волосы.
– Не может быть…
– Ну, не только из-за этого. Но представьте себе, что в один прекрасный для Африки день этот ваш колдун, платонически влюблённый в крошку Анастасию, вздумал произвести над фото несколько пассов… Образования у него, конечно, никакого, но стихийная сила совершенно дикая. И этот… – Яков Вильгельмович[58] сделал отводящий знак, – ну, как его? Его ещё свои же пролетарии на митинге кулаками забили…
– Уринсон, что ли[59]?
– Не знаю никакого Уринсона. Свердлов, вот. Idem Гаухман. Он и распорядился, а Ульянов распоряжение подтвердил – и попробовал бы он не подтвердить…
– Яков Вильгельмович, – сказал я, – это же какой-то бред. Это для салона, для молодых болванов, каковым был ваш покорный слуга в те добрые времена…
– И для выживших из ума стариков, – ехидно подхватил Яков Вильгельмович. – Вы подумайте лучше, почему из-за вас ОГПУ две сотни христианских душ загубило? Целый заговор сочинили, ночей не спали… Ну, теперь-то у них дело широко пойдёт.
– Вы не поверите, – сказал я, – но я всё равно ничего не понимаю.
Яков Вильгельмович, сколько я его помню, был тихим ласковым старичком в таком возрасте, когда о летах уже и не спрашивают. Его можно было встретить решительно на всех поэтических вечерах и сборищах, строжайше засекреченных масонских собраниях, на кораблях хлыстов[60] и скопческих радениях[61], на советах розенкрейцеров[62], в буддистском дацане[63], на собраниях оккультистов самого дрянного пошиба, в келье Распутина и даже на афинских ночах[64] рано созревших гимназистов. Всегда он был тих, вежлив – и, несмотря на высокий рост и прямую спину, как бы незаметен. И вдруг…
– Не понимаете? – взвизгнул Яков Вильгельмович на манер давешнего чекиста. – А кто ману написал про золотого дракона[65]? Кто Слово произнёс?!
– Помилуйте! – снова сказал я. – Это же совершенно хрестоматийный образ…
– Значит, вы действительно ничего не понимаете, – Яков Вильгельмович встал и, подойдя к камину, снял с полки фарфоровую собачку: беленькую, с чёрными пятнами вокруг глаз. – Ты представляешь? – обратился он к ней. – Все твёрдо знают, что Николай Степанович достиг по крайней мере предпоследней степени посвящения, вьются вокруг него, убивают, выкупают, прячут – а он ни сном ни духом. Своего рода талант… Видимо, придётся вас, милейший, по-настоящему убить. Ибо таковая игноранция, как говаривал покойный Пётр Алексеевич, едино смертию бысть наказуема…
Я тоже зачем-то встал.
– Да вы сидите, – махнул он рукой. – Это так, болтовня. Я-то понимаю, что никакой вы не посвящённый – просто, извините старика, дуракам счастье. Выпало вам попадать в унисон Высшему Разуму… Поэт. Любят у нас теперь поэтов. «Из-за свежих волн океана красный бык приподнял рога, и бежали лани тумана под скалистые берега…» Вы хоть знаете, что здесь описано?
– Нет, – ошалело сказал я. – То есть, наверное, знаю…
– Ни черта вы не знаете. Это формула восстановления красной меди из купороса. Алхимический ряд[66]. И далее до конца. Сколько вы книг хотели написать? Двенадцать? Я думаю, никто из живущих не пережил бы такого… Значит, так: буду я вас учить по-своему. Поскольку иного нам с вами не дано, а объяснять, почему не дано, долго – да и не поймёте пока что. Запомните только одно: ни под каким предлогом вы не должны объявлять себя, навещать родных и друзей. Ваша смерть для мира должна состояться. И никаких стишков в альманахи, к сожалению. Даже под чужим именем. Только в нарочитой тетради и в нарочитом месте. Иначе господа чекисты всех ваших родных и чад, законных и незаконных, смертию казнят. Таково условие – дополнительно к некоторой… кгхм… сумме.
– Большой сумме? – спросил я.
– Не стоите вы того, – крякнул Яков Вильгельмович. – За те же деньги Петра Алексеевича из турецкого плена выкупили[67]…
Я попытался вспомнить эту сумму из гимназического курса истории, но не смог. Что-то с большим количеством нулей – и не ассигнациями, разумеется. Да, впору было крякать.
Будет на что погулять Советам…
– А для чего это всё, Яков Вильгельмович? – спросил я, чувствуя себя не то самозванцем, не то просто не в своей тарелке.
– Для чего? – переспросил он. – Хм, для чего… Он спрашивает, для чего, – сказал он собаке. – Вас, Николай Степанович, может быть, устраивает то, что все эти годы вытворяли с Россией? Ну-ка, ответьте: устраивает?
– Нет, – сказал я. – Только, боюсь, ничего с этим не сделать.
– А вот это, как говорится, dis aliter visum. И не людям изменять их волю.
– Воля богов – тёмная материя…
– Тёмная, – согласился он. – Но и оттенки тёмного способен различать наученный взгляд. Знаете ли вы, например, что на самом деле октябрьское восстание семнадцатого года было потоплено в крови неким пехотным штабс-капитаном?
– Что значит – на самом деле? А всё это? – я обвел рукой вокруг. – Это что – снится мне?
– Уж если солнце можно было Словом остановить, то трудно ли повернуть вспять события? И об этом мы поговорим с вами подробно, но позже и не здесь.
Я вдруг почувствовал, что меня куда-то затягивает – как в зыбун.
– Дорогой мой Яков Вильгельмович, – сказал я, – вы, вижу, уже распорядились мною. Не спрося согласия. А если я не пожелаю – тогда что?
– Тогда окажется, – сказал он негромко, – что Таганцев и его друзья погибли даром[68]. Что золото Фламеля[69] поддержит Советы – вместо того, чтобы погубить их. Что мы в решающий момент окажемся в положении батареи без снарядов. Хотите этого?
– Нет, – сказал я.
– Тогда считайте себя рекрутированным.
– Ну уж нет. Лоб брить не дам. Я вольноопределяющийся[70].
51
Неподтверждённые слова НСГ перед выходом из камеры. Большинством исследований доказано, что последний чин, полученный им в армейской службе – «…Пятого Александрийского гусарского полка Ея Величества Государыни Императрицы Александры Фёдоровны прапорщик» (28 марта 1916 года). Экзамен на чин корнета в Николаевском кавалерийском училище НСГ не выдержал: провалился по алгебре. С другой стороны, пребывание его в Русском экспедиционном корпусе в 1918 году не задокументировано, так что возможно всё.
52
Лариса Михайловна Рейснер (1895–1926), русская писательница и поэтесса. Была близка с НСГ. В 1922 году пишет матери из Афганистана: «Если бы перед смертью его видела – всё ему простила бы, сказала бы правду, что никого не любила с такой болью, с таким желанием за него умереть, как его, поэта, Гафиза, урода и мерзавца». Принимала участие во многих революционных событиях; прототип главной героини пьесы Вс. Вишневского «Оптимистическая трагедия». Жена Ф. Ф. Раскольникова. Родство с адмиралом Рейснером не подтверждается. Лев Михайлович Рейснер (1902–1941), младший брат Л. Р., был капитаном 2-го ранга, подводником. Репрессирован в 1938 году как родственник «невозвращенца» Ф. Раскольникова, умер в лагере.
53
Во время неудачного Прутского похода (июнь 1711 года) лагерь Петра был окружен, и Пётр вынужден был подписать позорную грамоту о вассальной зависимости от потомка Чингиза, крымского хана Девлет-Гирея.
54
Аксолотль – (ацтекск. водяная собачка) крупная личинка амбистомы, земноводного существа.
55
Яков Саулович Агранов (Соренсон) (1893–1938), с 1929 года начальник Секретного отдела ОГПУ СССР. Активно работал в среде творческой интеллигенции. С 1934 года первый заместитель наркома НКВД СССР Г. С. Ягоды. Среди прочего известен как один из следователей по делу «Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева» (см. примеч. к стр. 26). В 1937 г. исключён из партии и арестован, в 1938 расстрелян. Реабилитирован не был. По сведениям ДХШ, из астрала не вызывался по причине полной утраты земного обаяния и обнажения истинных качеств.
56
Недавние исследования уточняют дату расстрела – 26 августа 1921, и номер НСГ в списке – 31-й (А. Я. Разумов. В ХХ веке с нами произошло нечто ужасное. Росбалт, 06.12.2014). Простое число, по разъяснению Д. Х. Ш., было присвоено ему с маго-истребительными целями.
57
«Жирный негр восседал на персидских коврах,
В полутёмной, неубранной зале,
Точно идол, в браслетах, серьгах и перстнях,
Лишь глаза его дивно сверкали.
Я склонился, он мне улыбнулся в ответ,
По плечу меня с лаской ударя,
Я бельгийский ему подарил пистолет
И портрет моего государя.
Всё расспрашивал он, много ль знают о нём
В отдалённой и дикой России…
Вплоть до моря он славен своим колдовством,
И дела его точно благие:
Если мула в лесу ты не можешь найти
Или раб убежал беспокойный,
Всё получишь ты вдруг, обещав принести
Шейх-Гуссейну подарок пристойный»
Стихотворение «Галла», сб. «Шатёр».
58
Первое имя Джеймс Дэниел Брюс, затем Яков Вилимович (1669- оф. 1735). Русский государственный деятель, военный, дипломат, инженер и учёный, переводчик научной литературы, один из ближайших и наименее скомпрометированных сподвижников Петра Великого. Граф.
59
Отражает распространённые представления о том, что все члены большевистских властных органов были евреями, но скрывались за псевдонимами. В данном случае и НСГ, и Яков Вилимович ошибаются: хотя Я. М. Свердлов и был евреем, псевдонимами («товарищ Андрей», «Макс», «Михаил Пермяков», «Смирнов») после революции он не пользовался.
60
Хлысты – старейшая русская внецерковная секта экстатического характера, довольно популярная у российского дворянства и интеллигенции. «Корабль» – отдельная независимая община хлыстов.
61
Скопческие радения – Скопцы – секта, близкая к хлыстам, но возводившая оскопление (кастрацию) в высший способ спасения души от тенет плотского мира. Радение – молитвенное собрание с экстатическими обрядами.
62
Розенкрейцеры – т. ж. «Орден креста и розы». Тайное мистическое и теологическое общество, созданное, согласно внутренней легенде, в XIV веке, но реально зафиксированное в начале XVII в. в Германии; существует поныне. Можно сказать, что орден создавался как тайное общество учёных и преследовал прежде всего просветительские цели.
63
Дацан – буддийский монастырь-университет, тж. храм. В Петрограде закончен строительством в августе 1915 года, в конце 1916 все монахи покинули дацан. В дальнейшем службы то возобновлялись, то прекращались вплоть до 1938 года, когда многие монахи и учёные, жившие при дацане, были арестованы, а в здании размещена радиостанция. Окончательно служба возобновлена в 1992 году. Здание является памятником культуры, не в последнюю очередь благодаря витражам работы Николая Рериха.
64
Афинские ночи – эвфемизм. Поначалу культовые празднества в честь богов плодородия Древней Греции, затем запретные оргии.
65
Мана – многозначный термин, в разные времена имевший различные смысловые оттенки; как правило, обозначает сверхъестественную силу, которая обнаруживается в явлениях и предметах материального мира. Словесное воплощение сверхъестественной силы. Золотой дракон – образ из неоконченной НСГ «Поэмы начала» (Книга первая: Дракон. Песни 1–2). Брюс сострадательно умолчал о том, что НСГ включал мощную ману и в другие свои стихи.
66
Последовательность алхимических символов, кодирующая порядок трансформаций, завершающихся воссозданием золота.
67
Собственно, во время неудачного Прутского похода (июнь 1711 года) лагерь Петра был окружен, и Пётр вынужден был подписать позорную грамоту о вассальной зависимости от потомка Чингиза, крымского хана Девлет-Гирея. Затем в лагерь привезли 150 тысяч золотых рублей, но получили ли их турки, до сих пор не установлено. В 1921 году эквивалент этой суммы трудно подсчитать.
68
Дело «Петербургского боевого центра», руководимого профессором В. Н. Таганцевым, географом, сотрудником Российской Академии наук, получило огромный резонанс в среде интеллигенции. Реальной опасности, несмотря на активное сотрудничество с финским Генштабом, оно не имело. Среди 96 расстрелянных и убитых при задержании должен был оказаться НСГ.
69
Николя Фламель (1330 – оф.1418), алхимик и криптоном. Получил философский камень и эликсир долголетия. К старости неожиданно разбогател, на меценатство и помощь бедным денег не жалел. После смерти, в начале XVII века, могила была вскрыта, но гроба с телом там не оказалось.
70
Нижний чин Российской армии из добровольцев, имевший право на сокращённый срок службы и сдачу экзамена на офицерский чин.