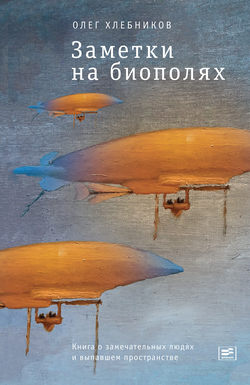Читать книгу Заметки на биополях. Книга о замечательных людях и выпавшем пространстве (сборник) - Олег Хлебников - Страница 5
Три отца и много дядек. Документальная повесть
Первый и второй
ОглавлениеВскоре после смерти отца Парень сдал – увы, уже не экзамен. Расслабился, полностью подчинился матери. Но до этого успел познакомиться с Самойлычем.
Произошло знакомство в Москве, куда я к тому времени переехал, в пятикомнатной писательской квартире Самойлова. Я там проживал. Парень приехал навестить сына.
Самойлыч в то время жил в основном в Прибалтике, но часто наезжал в Москву – и начинался праздник.
Гости приходили почти каждый вечер.
Сухая строгая старуха Лидия Корнеевна Чуковская, которую Самойлов, кажется, немного побаивался. Мрачновато-остроумный и тоже строгий в отношении вредных привычек хозяина Зяма Гердт (почти все его так называли, а он не возражал). Узнаваемо-красивый и внимательный к каждому слову Самойлыча Михал Михалыч Козаков. Веселый и находчивый Юлий Ким. Знаменитый редактор поэзии и родственник Самойлова по первой жене, высокий и породисто-красивый Виктор Фогельсон. Обаятельный и умный Алик Городницкий с милой и яркой женой Аней Наль, признанной ученицей хозяина дома. Еще парочка его так называемых учеников (Самойлычу нравилось чувствовать себя окруженным учениками, мне же он говорил, что я не его ученик, а Слуцкого). Потрясающий переводчик и глубокий человек Анатолий Гелескул. Тогда еще широко известный только в узких кругах пристальный и веселый филин Игорь Губерман, которого Самойлов в свое время у себя прописал, чтобы тот не был уж совсем безродным космополитом, да еще и бомжем. Его, Губермана, теща – невозмутимая и мудрая Лидия Борисовна Либединская – почти всегда с сигареткой, не смотри что графиня по линии Льва Толстого. Молодой тогда критик Сергей Чупринин, на которого Самойлыч возлагал большие надежды (ну надо же, чтобы стихи кто-то понимал!). Удивительный полковник (настоящий!) Петр Горелик, ближайший друг Самойлова и Слуцкого (Бориса Абрамовича – еще с Харькова). Конечно, Юрий Левитанский, друг-стихотворец и сосед по дому, угнетенный в те годы бытовыми заботами: по воспитанию и кормлению трех маленьких дочерей. Еще три-четыре академика, некоторые из коих не производили впечатления умных людей… Всех не перечислить.
Когда Самойлов приезжал в Москву, Москва сама к нему приходила.
Обилие знаменитых друзей Самойлыча не мешало мне приводить в дом и моих товарищей (это слово, замаранное советской властью, на моих глазах успешно возрождал Щекоч – один из самых близких моих друзей-товарищей, хотя и немного дядька). К ним Самойлыч относился внимательно и радушно, как подобает относиться к друзьям сына. Тем более внимательно и радушно он отнесся к моему кровному отцу.
Тот приехал в столицу как настоящий провинциал: с банками своего меда и маминого варенья, но без провинциальной гордыни.
В первый же вечер состоялось обильное застолье, на котором хорошо помню Левитанского. По тому факту, что в какой-то момент Юрий Давидович запел свою песенку про лотерейный билет, который «за тридцать копеек всего», а потом и любимую русскую народную «Когда будешь большая, отдадут тебя замуж…», можно судить, как долго длилось застолье. Очень долго.
Одной из главных тем разговора был сталинизм.
Отец Парень рассказал про свою старшую сестру Евдокию (для меня Тетьдусю).
Она ушла на фронт добровольно. Поскольку хорошо знала немецкий, служила переводчицей при штабе полка. Попала в плен из окружения, была отправлена в Германию. Там работала на какого-то бауэра. Бежала с еще двумя русскими. Их поймали (подвела выпечка на подоконнике открытого окна дома в немецкой деревне – голодные были, не удержались). Попала в Дахау. Освободили американцы, предлагали поехать в Штаты – отказалась. В результате – и это уникальный случай! – довоевала в той же части, из которой попала в плен (его обстоятельства были абсолютно прозрачны). Вернулась победительницей, уже из Болгарии. По дороге домой познакомилась с раскрасавцем-гармонистом. Влюбилась. Но его «выявили» как «власовца» (за то, что состоял в армии этого генерала, но не в РОА, а еще в той – Красной, Власов же был даже любимцем Сталина). Красавец-гармонист бесследно исчез. А вскоре взяли и ее. Отправили на Колыму. Говорила, что в Дахау было лучше.
– Но после лагерей она вышла замуж, – закончил рассказ отец Парень, – и сумела родить двоих детей – вот настоящий подвиг!
Самойлыч внимательно слушал, влажнел глазами, сказал, что это целый роман, и заговорил о том, как они, молодые поэты, попавшие на фронт со студенческой скамьи (ИФЛИ и Литинститута), относились к Сталину:
– Почти никто ничего не понимал, кроме разве что Бори Слуцкого.
А когда вождь народов умер, собрались своим уникальным кругом, где не оказалось ни одного стукача, и сидели в растерянности.
– Вдруг прибежал Женька Винокуров, – продолжил Самойлыч. – Он прыгал, как мячик, и радостно кричал: «Подох! Подох!» И как-то сразу все стало ясно.
Тут Парень, конечно, вспомнил своего отца, который всегда ненавидел Сталина и воровскую власть, а не попал в лагеря только потому, что никогда не хотел быть даже мелким начальником.
…Кажется, именно тогда Самойлыч рассказал эту историю.
Однажды по протекции своего друга он попал на семейное торжество в дом Микояна. В тот самый Дом на набережной. Его соседкой по столу оказалась симпатичная рыжеволосая незнакомка. За которой он, натурально, весь вечер ухаживал. Потом, естественно, вызвался проводить. Выяснилось – совсем недалеко. Она жила в том же доме.
Проснувшись утром, Дэзик (так его называли почти все) увидел чуть ли не над кроватью портрет Сталина.
– А зачем ты этого усатого тут повесила? – возмущенно спросил он.
– Это мой папа… – смущенно ответила Светлана, как выяснилось, Аллилуева.
И молодой поэт испугался стать отцом внуков Сталина…
– Но мы с ней до сих пор переписываемся, – закончил Самойлыч.
(Потом я узнал от его литсекретаря, что своему другу, который привел его к Микояну, он позвонил на следующий день с восторженным заявлением: «Мы его поимели!» – «Но почему “мы”, при чем тут я?» – спросил друг. «Я в это время постоянно о тебе думал», – ответил поэт.)
После такой истории Парень не мог удержаться и не рассказать семейную легенду о том, как его мать колола дрова со Сталиным.
– Вот бы топориком-то промахнулась! – мечтательно и в то же время мрачно сказал добрейший Левитанский.
Бурно обсуждали, когда Джугашвили бежал с каторги, – вроде сходилось.
А Самойлыч неожиданно добавил:
– Но нельзя забывать и о вине евреев-комиссаров перед русским народом.
Словом, на следующее утро заботливый Левитанский принес нам из своей квартиры наверху кастрюльку супчика: «Оттягивает!» Супчик все оценили. Левитанский вскоре убежал к себе дальше заботиться о дочках, а Самойлыч и Парень долго о чем-то говорили. В результате отец Парень сильно зауважал Самойлыча, а тот как-то очень значительно мне сказал: «У вас замечательный папка!» Я радовался за себя и гордился обоими.
Кстати, если Левитанский был специалистом по супчикам, то Самойлов – по каше.
Маленький, седенький, полуслепой большой поэт стоял и варил ранним утром эту самую кашу. Говорил: фронтовая привычка.
Я и первая моя жена Алла-Розалия вставали позже. Видел я Самойлыча, варящим кашу, раза три-четыре, не больше, – когда не спалось. В другие дни – только пытался употребить продукт его деятельности. Он был вполне качественным, этот продукт, но я с утра могу один кофе. В общем, мало каши ел, дурак!
Семья Самойлова была непростая. Трое детей. Единственная из них дочка выросла фанаткой Пугачевой (Аллу Борисовну даже приводили в квартиру Самойловых – «размагнитить» дочку, не получилось). Отказалась переезжать с семьей в Прибалтику. Вот с ней мы и жили в пятикомнатной самойловской московской квартире.
Дом, где на втором этаже располагалась его квартира, был интересным. Например, в каждой квартире существовала маленькая темная комнатка, предусмотренная под библиотеку. Но как библиотеку ее использовали отнюдь не все. Например, Николай Николаевич Озеров, воистину народный артист и знаменитый спортивный комментатор, прославившийся фразой «Такой хоккей нам не нужен!», мудро сделал там бар.
К услугам этого бара прибегали, зная доброту Николая Николаевича, почти все многочисленные писатели-соседи, особенно после вступления в силу антиалкогольного закона 1985 года. А лично я испытывал на себе его (не закона) доброту несколько раз в лифте, куда пропускал Николая Николаевича, уже грузного, одышливого, с палочкой, а он всегда успевал первым поздороваться – знал, что его все знают. И непременно спрашивал: «Как ваши детки?» – «Прекрасно!» – отвечал я, хотя никаких деток у меня тогда и близко не намечалось. Потому, наверно, им и было прекрасно.
Но вскоре детеныш наметился. И, как ни странно, к заботе о нем, еще не родившемся, больше, чем будущий дед – его не было в Москве, и чем Самойлыч – долго не приезжал из Прибалтики, имел отношение один из дядек. Но тут надо еще кое-что рассказать.