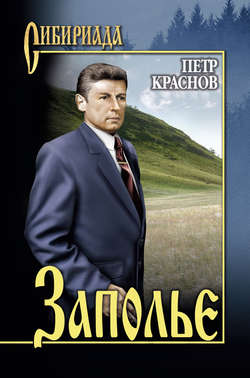Читать книгу Заполье - Петр Краснов - Страница 10
Часть первая
9
ОглавлениеУстал он за месяцы эти, притупел, пожалуй, все другое отложив до лучших дней, – а будут они, лучшие? Уже и не верилось иной раз: и впрямь злобна она, злоба дня, ревнива и ничего другого возле себя не терпит. И несвободна в себе самой и его свобода нынешняя, несбыточна, повязанная делом и теперь только в этом себя с сомненьями сознающая. Одно всему оправданье – что дело движется, растет, нешуточное, не стыдное, а остальное как-нибудь перетерпится.
Не ты, выходит, а самое дело свободно, и это все, на что еще можно рассчитывать, с оговорками надеяться в этом хмуром, необходимостями повязанном тоже, натуго спеленутом мире, равнодушном к мелочевке наших грандиозных успехов, к суете у подножья своего. И если все-таки главное в нем – сама какая ни есть жизнь человеческая, то вот оно, дело жизни, перед тобой – самое нужное, неотложное. В том окне безответном на втором этаже…
Стоял, ходил перед роддомом, кепку по брови насунув и ворот куртки подняв, ждал – через полчаса, сказали, сводные данные за ночь соберут, в журнал занесут. Астры, купленные по дороге на базарчике, пожилая дежурная сестра для передачи даже и за деньги не приняла: "Не велено. Дохлые бабы пошли, толком разродиться-то не могут… вакум, то-се, хоть клещами вытягивай. А родят – нежности тоже всякие, осложненья. Аллергия эта. Одна чуть не задохнулась анадысь – от цветов каких-то, откачивали, да и ребенки такие ж… нет, и не просите". Цветы Базанов, дотянувшись, наткнул на копьецо ограды перед немыми, шторками с ночи еще задернутыми окнами. Слонялся невдали еще какой-то мужик, заметно выпивший, то уходил, то приходил опять; и город будто не проснулся толком, хмуро зевал прогалами неба, косил мутными стеклами разномастной застройки. Третьи сутки все не могла родить жена, хотя повез-то ее с сильными уже схватками и все боялся, наивный, как бы по дороге не "опросталась" – как досужие у подъезда бабки вдогонку, перекрестясь, остерегли…
Мело жухлой промороженной листвой по тротуару, ветер рвал и кружил в путанице старых улочек, нес холодом снеговым – без снега – из-под ходких, по-степному высоких туч, накидывался, и сердце жало чем-то недобрым, предчувствием, верить не хотел которому, но какого боялся… верил, выходило?
Но все обошлось: пальцем водя по строчкам, дежурная нашла, прочла: "Базанова?.. Ага, вот: девочка, три сто… вчера, уж на ночь глядя. С дочкой вас, значит. С девкой. Вы там, это, у окон-то – осторожней. Все кусты нам обломали…"
Первых радостей, новостей всяких надолго хватило, чего он, честно сказать, не ждал уже. И в наплыве хлопот и благодушья того, верно, хотя не сразу и со спорами, назвали дочку по деревенской бабке даже – Таней. Забот с излишком было, теща совсем, считай, перебралась к ним, но оно-то и кстати – газета никак не отпускала. Виктория Викторовна оказала себя хозяйкой довольно распорядительной, а растерявшаяся, бестолковая на первых порах Лариса почти беспрекословно слушалась ее, и все шло, по его-то непритязательным желаниям, как надо. Сам он приглядел, купил и поставил у себя в редакционном кабинете диванчик – вздремнуть иногда на полчаса после домашних недосыпов, глаза резало.
Уже позже, к концу зимы, съездил в Заполье и привез на два дня мать. Чуть не первым делом, поугукав над внучкой, голенькой оглядевши всю – "справненькая", спросила: "Так еще не крестили, што ль? Крестик-то где держите?" – "И не намерены, – сказала уверенно Лариса. – Еще чего". И он увидел, как огорчилась сразу мать, даже узловатые темные руки – небывалое дело – запрыгали, зашарили по огородке кроватной. "Вы уж, это… хоть для порядку, – просительно, глаз не подымая, проговорила она. И только теперь он заметил, как необычно, непривычно выглядит она в типовой городской квартирке, как чужа ей, высокая, чуть горбившаяся, с темной сухой дряблостью заветревшего лица, с глазами нездешними, впроголубень, спрятанными в тяжелых морщинах… – По обычаю – уж мы, што ль, не русские? Недолго это, церква-то рядом. Уж я прошу, как же-ть так… Кусок мяса тады, не человек. Я ж бабка, никак… как же-ть умру-то, некрешшоной оставлю? Ить я покою не найду тады…" – "Ладно, – сказал, не выдержал он, – это мы погодя как-нибудь… по теплу. Сейчас не до этого". И Лариса, собравшаяся, видно, ответить и ему тоже, глянула на раздраженного на него, сумрачного – и не собралась.
Мать тогда через сватью решила попробовать, по-бабьи, и в том, видно, преуспела, просвещенная Виктория Викторовна и сама согласилась, и дочь вроде бы уговорила: хотя бы номинально, а традиции поддерживать нужно, да и нечто психоэнергетическое в этом, вообще духовное – ведь есть же… Но матери уезжать надо было, дома корова стельная ждала, порученная соседям, изба выстуженная; а невестка ее, вполне оправившаяся скоро, освоившая новый свой высокий статус, уже никого не слушала и обещанье свое, такое ж неохотное, как и мужнино, вовсе позабыла, ее теперь – после рокового мужчины Кашпировского – больше интересовало что-то теософское, от мадамок Рерих и Блаватской, и не как от мыслительниц, мало сказать – проблематичных, а скорее как от кутюрье, подозревал он, что-то многовато было дискурсов на тему, как носят сари и можно ли тилаку наносить губной помадой, с зачастившей подружкой, женской половиной Мисюков.
Потом уже, теплыми майскими днями съездив очередной раз к матери, Базанов предложил жене с тещей сходить, можно сказать – прогуляться до храма, распорядок и время крещения он перед тем зашел выспросить у служки; но было уже поздно, посмотрели странно на него, Лариса даже и улыбнулась-то без обычной язвительности: "И что же, мы тоже будем девочку нашу в этот… чан макать, какашки чужие собирать, заразу? Ведь мамаши есть – пеленок не гладят, толком не подмывают даже…" Аргумент из неодолимых был, хотя и у них-то самих поубавилось весьма энтузиазма, наигрались, наконец, уже и небрежничали противу своих же установленных правил чересчур гигиенических, и он даже и не подумал небреженьем этим их попрекнуть: во всем нужна она, мера естественная, и куда лучше дурацкой, наверняка вредной и никому не нужной стерильности. Да и поднадоели, если не сказать большего, все эти игры убогие: в страсть поначалу, в пору жениховства, не терпящую и дня разлуки, в любящую жену потом, в семью – едва не доигрались до ручки, а теперь вот в идеальную современную маму, чтоб все по книжке и таймеру, забыто на подоконнике пылившимся… нет, редкая против пошлости устоит женщина.
Алексею с Любой он позвонил, когда из роддома своих привез, – давно не виделись. Поселянин все никак не мог вырваться из дел, даже и в городе бываючи; и, наконец, в редакцию заехал, с порога сказал:
– Разродились, значит?! – И руку сжал нешуточно, ладонь у него шире будто стала, по-сельски жесткая, в усмешке дрогнули усы. – Бракодел!.. Ладно, годится, невесты тоже нужны. Как, здоровы? Недельки через две-три наведаемся, может, зубок за женишком… О-о, диван завел?! Мне бы тоже не помешал, клопа иной раз придавить… – Усталость была видна в лице, в морщинках жестких у глаз; потому, может, и разговорчивым был – разговором отгонял ее, усталь, развеивал. – Хляби у нас – ног не вытащить. И юридических не меньше тоже, доконали бумаги…
– А что так?
– Да так, Ваня… так. – И прихмурел, пачку "Кента" достал, вытряхнул, поймал губами сигарету. – Видишь, чем табачу? – Зажигалку сгреб со стола, щелкнул, затянулся. – Начальником стал, слышь. Акционеры выбрали наши, председателем. А в киосках ни "Примы", как назло, ничего, одна шелупонь эта…
– Ну-у?! Поздравляю!..
– Не с чем, брат. Еще то наследство… именья – одни каменья. С самого начала бы взять, когда не разворовано было…
– А Вековищев как же?.. Отказался, что ли?
– Откажется он… Пролетел. Вчистую, считай. Ну, челядь суетилась там… А мужики – нет, ни в какую, осточертел. Голоснули. Ну, им говорю, не жалуйтесь теперь. Вдвое вкалывать будем, втрое. Иначе в нищету последнюю, больше некуда нам. Кроме как на себя – не на кого надеяться. Паршивей поискать время, начальнички нас кинули по всем статьям – свои ж, русские…
– Наперегонки, – согласился Иван. – Тут еще видней это. Ох и гнилье.
– Ты думаешь, низы лучше? – Он откинулся на диване, то ли совсем сощурился, то ли прикрыл, смежил на миг тяжелые глаза. – Слишком просто все было бы тогда. Нет, брат, рыба эта и с головы, и с хвоста протухла, все мы друг друга стоим. А не гнилой кто, так с подпрелостью. Когда успели, непонятно.
– Ну, ты скажешь тоже… Есть люди, в низах-то побольше. Опоминаются, мараковать начинают. А думать – это не сразу, не с места в карьер… Вон митинг ваш как прошел – тыщи три народу, четыре? Тряханули сильно!
– Митинг этот?.. Ты что, смеешься?!
– Да нет же… сильно выступали, все говорят. Я, правда, в замотке был – и тут, и дома такое, но мы вот и репортаж дали на разворот, со статистикой – видел, конечно? Оставил тут для твоих…
Он отложенную стопку номера прошлого вынул из стола, бросил на диван ему; но Алексей не взглянул даже на газеты, руки сцепил на колене:
– Выступали… Да хрена толку! Балабонить – это одно; а как до дела…
– Какого именно – дела?
– Да любого. Нет его и не предвидится. Никакого. Понимаешь – не будет его!.. Я ж оттуда, из них, я знаю – где и когда дело, а где балабонство. Думать они, вишь ли, начинают… А что думать, когда грабят – внаглую, живьем?! Что тут непонятного?..
Предложил на правлении: блокировать серый дом этот – полностью. На час ли, два… да хоть до вечера, сил если хватит, подмогу созвать. Не давать – ни войти, ни выйти, на задний выход молодяк послать!.. Виляли, крутили – рано, мол, не готовы. Жесткий контакт с ментами, то-се… народ не готов. И власть не готова, говорю, тут бы и нажать… Нет, гляжу, не слышат. Я на голосованье тогда – и что? Один поддержал из двух десятков почти. Один! И наши, и Союз офицеров, и коммунисты тоже – все отказались… – Помолчал, полез опять за сигаретами. – А и то, не готов. И не скоро еще соберется, уж поверь. А вот к чему готов уже… К антихристу, Иван ты мой Егорыч. Вот к этому завсегда-пожалуйста. Хлеба чтоб и зрелищ, ну и баб еще дешевых. Хлеба-то в обрез дадут, а уж зрелищ и теперь по ноздри. Дичает наш бывший русский, и чуть не с радостью… не видишь?
– Да вижу…
– А хрена ль молчишь, оптимизм накачиваешь?!
Год с лишним назад, при крещении Ванюшки, вышли они из ограды церкви райцентровской, Базанов впереди с крестником на руках, сели в "уазик" старый поселянинский; и что-то не заводилась машина, лишь стартером надсадно скрежетала. Алексей не ожидал, видно, что подведет, руганулся сквозь зубы скоромным образом – чего при женщинах, вообще-то, никогда не позволял себе. И перекрестился через ветровое стекло на беззащитно тонкий какой-то осьмиконечник креста над притвором: "Прости, Господи… Все, не матерюсь больше, в свидетелях будьте. – И на женщин оглянулся, посетовал этак: – Ну, слаб человек, а без свидетелей и вовсе…" – "Неужто, Поселянин?! – снасмешничала, с Любой переглянувшись, Лариса. – Не верю!.." – "Твое дело. А я уж, не обессудьте, вас в подпорки себе…" И вот вроде бы держался своего слова, только этим, растительным, и обходился.
– Ну, конечно, – первый молчун…
– Ладно-ладно, не залупайся… Работает газета, дельная. Но и от этого глаза воротить, от правды… себе дороже, знаешь. Покричали – и, думают, все сделали. И по домам – отогреваться, водку пить. До следующего раза. А власти этого и надо: и демократию соблюли, и никаких тебе обязательств… даже обещаний разных пустых, для виду – и то не дают! Нет уж, на кричалки эти пустые я больше не ходок – на истерики на бабьи эти. Лучше делом займусь, Непалимовкой.
– Кстати, не выпьешь – с устатку?
– Нет. И так дурной. Скотинеем, на глазах, – он явно завелся, глаза мерклыми стали, – как, скажи, нанялись – не думать. Да, брат, бездумствовать – это и значит безумствовать, одного корня… И на молодежь глянь, на акселератов: это ж бройлеры – жрать, срать и спать, все в родителей, восьмидесятнички, самоосознание себя в истории, в народе, во времени – на нуле. А мы все надеемся: продерут глаза, научит нужда блох ловить… да не научит, если не хотят! Чему угодно учатся, только не своему.
– И что предлагаешь, компанию антирусскую запускать? Ко всему визгу этому вдовесок?
– Не знаю. Ей-богу. По самолюбию бить… а найдешь у них, самолюбие? У кошек больше. И на совесть давить – как сядешь, так и слезешь с человека с нашего… Не знаю, тебе видней, может. На то и посажен здесь. Но делать что-то надо, думать. Брать чем-то. – И сказал, без перехода всякого: – А этот, Каменский ваш или как там его… вовсю разгулялся, гляжу. По больному бьет. Так бы и надо, а… Без разбору лупит, востер. И нашим, и вашим. Познакомил ты в прошлый раз, а сказать ничего не сказал… что за карла?
– Ты что-то уж сразу так… Серьезный – не меньше, кстати, чем ты. И глубокий, пожалуй, сложный… до дна не достанешь. Колонка эта – пустяк, больше балуется, для задору… А вот газеты самой без него бы не было, это знай. Расскажу как-нибудь. А внешнее… Жизнь и не то с человеком делает. Наизнанку вывернет – и не пожалуешься, некому. Человек, иной раз думаешь, вовсе не виноват.
– Не скажи… – Поселянину, как видно, не очень и хотелось об этом говорить, тем более спорить. – Внешнее уродство и внутреннее – это, знаешь, друг от дружки недалеко. Связано, и ты мне не толкуй. Да хоть в сказках даже, хоть где. А добрые квазимоды в книжках… для дураков эти басни, на публику. Обиженные – они чаще злые. Гюго там всякие, короленки, горькие-сладкие, гуманисты эти с разбором – знали, с кем цацкаться, кого в герои тащить. С кем шашни водить – ну, хоть в деле Бейлиса. От их гуманизма полмира потом занялось… Ладно, – и усмехнулся, – это я так, вообще. Пусть живет. У тебя кофеек вроде был…
– А-а… ну конечно, пошли. Так ты принял их дела, или нет еще? Бумаги, говоришь?
– Принимаю. Главное, чтоб долги не подсунул, не оставил – свои. Прохиндей же. Вот и проверяю адрески тут кое-какие, секретные, навещаю. А то навесят потом – не расчихаешься.
Зашли к Левину, в общую, Алексей поздоровался негромко, сдержанно – впрочем, вполне учтиво. Но не с Димой было в ней меряться, в учтивости: из-за стола своего с компьютером вышел к автору, обеими руками приложился в рукопожатье; и Владимир Георгиевич, с утра оказавшийся здесь и на телефоне своем – сам поставил – по делам бесчисленным висевший, приветственно поднял из угла своего с окном длинную ладонь, разулыбался. Остальные в разгоне были, за материалами.
– Как у нас там с кофе?
– Пор-рядок, шеф! Рабы на плантациях горбатятся, богема пьянст вует и в меру сил развратничает, элита… А вот с элитой посложней: то ли бездельничает она, то ль ворует вовсю… Ходят слухи, что ее вообще не было и нет. Загадка! И вы не поверите, шеф, что при всем при том напиток еще, как ни странно, есть…
Иван только хмыкнул усмешливо, а Поселянин, поближе к агрегату усевшись и осматриваясь, бросил:
– С элитой надули нас, верно. Надрали.
– А что так… страдательно, позвольте спросить? – Мизгирь включил у себя мельницу, с мягким шорохом зашумело. – Почему прямо не сказать: элита надрала, да и сами мы, того, надрались – в добровольном порядке… Развести себя дали по полной, то есть.
– Согласен, – зевнул Алексей. Он, кажется, жалел уже, что поддержал, сам ввязался в этот повсеместный ныне и какой-то обессиливающий, подозревал Базанов, треп; но и "завод" еще оставался. – И какая там элита, если продалась? Элиты не продаются. А этих всех – в трибунал, козлов. С гэкачепе вместе, тех тоже, маразматиков, за невыполнение долга. К стенке холодной, в науку. Этим самым… потомкам нашим, чтоб остереглись.
– Не против, в принципе. Только элита ведь – она одна, вот эта. Какую вырастили, другой нету.
– Я хлеб ращу, мне до них, до этих…
– А вот вырастили же, и не отказывайтесь. И рабоче-крестьянских детей в ней, из народа, большинство ж! Было, по крайней мере. Не получается, выходит, из детишек этих элиты… продажны, неумны? Нестойки? Родового, как Иван вот Егорович говорит, интереса не разумеют, не имеют в крови и потому отстоять не могут – так? Так или не так?!
– Дело в отборе, – сказал Базанов. – А если он отрицательный, то хоть из какого слоя-сословия…
– А причем тут – отбор? Искусственный, он всегда может сбой дать, он субъективен и ненадежен потому, да-с. Вынесло нашего человечка из низов наверх, в высший свет, в совершенно непривычную, да и незнакомую ведь среду – и закружилась тыковка, и соблазны пошли, и расслабился, в чужой-то постели… А политика же именно там творится, в среде ему чужой и, повторю, малознакомой, с тьмою тонкостей своих; и пока он мало-мальски освоится, научится там хоть чему-то, хоть галстук повязывать, если вообще научится, – он столько глупостей вольных и невольных, столько дровишек наломает… на весь очередной отопительный сезон исторический, да, он и колеса государственные может по ложному пути направить, по бездорожью чертоломному… нет, скажите, не так разве? Да у него и взгляд-то, по менталитету сословному, куцый, близорукий по необходимости – крестьянский, скажем… только без обид, вас прошу, без гордынки, в данном случае неконструктивной; на год вперед взгляд, на сельскохозяйственный, опять же: посеять – вырастить – убрать. Страду одолеть – очередную, нелегкую, близкую!.. Мудрость жизни? Да! Н-но – не политика, не идеология, тем более, где муд рость попросту, я вам скажу, вредна даже, да-да. Там нужен просто интеллект, каковой сам по себе есть всего лишь предшествующая мудрости ступенька, – но который чтоб (он произнес это как "шоб", огрехи произношенья в таком роде бывали у него, когда высказать торопился, поспеть за далеко уже забежавшей вперед мыслью своей) наследованный был, отточенный в поколеньях… инстинк тивный, можно сказать, – и непременно чтоб с известной долей политической бесстыжести, политеса, а главное – ответственности врожденной перед кланом, классом своим, всосанной с молоком… Вы скажете теперь – матери? И вы далеко ошибетесь: кормилицы!.. В отборе дело, говорите? Да, но многовековом, естественном, где право по силе, а уж потом, много позже – сила по праву… Знать – это не только знатные, богатые, всем известные, но и знающие. Собак – и тех породы выводят по назначению, а вы хотите, чтоб с человеком без специализации обошлось, этого вы хотите?! – Руки его меж тем работали быстро, несмотря на видимую неуклюжесть некоторую, летали. – Не откажите принять чашечку… та-ак. Целые народы специализированы, да-да, кто на чем, а несколько даже на кофе вот этом, и в тридцать, знаете, уже старики, поскольку сверхнатуральный пьют – с кофеином, еще из зерен не изъятым, не вымытым на цели коновальские… Японцы на электронике, жиды на ростовщичестве издревле, на спекуляциях финансовых, а вот наш брат русский… – И хмыкнул, ручкой ложечки почесал в голове, с любопытством глядя на Поселянина, с ожиданьем каким-то. – Даже и не скажу, в чем… и во всем вроде, и ни в чем. Но уж точно не в государственной мудрости. Не-ет, элита – не редиска: быстро подергал, скоро-скоро другую насадил…
– Ее не сажают, редиску, – сеют, – грубовато, может, сказал Алексей. – А татарник приходилось видеть, большой? Сколько головок у него, и расцвели которые, и нет – считали? Так и тут, и не у нас одних.
– Да боюсь, другую голову враз не отрастишь…
– А я не боюсь. – Он говорил равнодушно, пожалуй и небрежно даже; и больше нюхал, кажется, чем пил его, кофе. – Худо без головы, конечно… еще хуже без царя в голове, как теперь. У вас тут курят? Вот спасибо… А уметь если, а когда надо было – Сталин за десяток лет вырастил. И другим еще понаставили, головы. Образумили.
– Ну, ей и цена такая: на одно поколенье хватило – с натягом, – неожиданно жестко, если не злорадно проговорил Мизгирь, – с маразматическим уже, действительно, всем курам забугорным на смех. Аристократия, нечего сказать: из мавзолея выкинул преемничек, закопал и сверху поссал…
– Цена ей – победа, – заступился Иван, оглядываясь на дымившего хмуро Поселянина, – я ту имею в виду, большую. Никто такой и никогда победы не имел. Никто.
– И пораженья нынешнего – это в мирное-то время… из всякого ряда вон, ошеломительное! И позорное, еще позорней царского – в виде фарса уже намеренного, с предательством уже тотальным, которого тоже мир не видывал… не элита это – дерьмо, беспринципней бомжей. А итог, общий?
– Как всегда, – пожал он плечами, – предварительный.
– Ну уж нет уж, Иван Егорович, избавьте, для меня эта вечная предвариловка ваша никак не подходит – как и для него, – он длинный узловатый палец выбросил в сторону Поселянина, словно наткнуть на него хотел, – и для вас самих. Победа вчерашняя, проблематика всякая завтрашняя – не актуально это все для нас: вчера нас не было, завтра не будет… сколько уж говорено меж нами! А есть – сегодня, и я в нем, пораженец, человек пораженья, и что мне прикажете делать? – И жадно к чашке припал красными своими меж начатков, остатков ли бороды губами. – Что?..
– Ну, вы-то, положим, без дела и других не оставите, не то что себя…
– Да это я не делаю, а… трепыхаюсь. На деле дела нет, я гарью пораженья отравлен, контужен, оружье потерял, командиры в придурках у победителей, у мародеров на подхвате… трезво? Увы. Я раздавлен, потерян для себя и других, полубеспамятен, я уже друзей от врагов толком отличить не могу, кровное чтоб защитить, поскольку трусом отъявленным отчего-то стал, мною баба помыкает, а дети презирают. И женщины меня не любят – и правильно, за что такое меня любить?.. Вот я кто такой, нынешний русский. Я все сдал с потрохами, что можно и чего нельзя, ни под каким бы видом нельзя! За колбасу обещанную, за барахло ношеное из гуманитарки, да что там: за оплеухи даже и пинки поучительные, каковыми гонимы в царство демократии, за поученья!.. Бомонд наш, сливки эти прокисшие – черт бы с ними… если б я сам вот таким не был, человек массы, народа!..
– А ты не будь, в чем дело, – сказал наконец Поселянин и с сожаленьем, показалось, отставил пустую чашку. Он все разглядывал Мизгиря, особо не скрывая этого, но и без любопытства излишнего, какое оскорбительным могло бы показаться тому. – А стал если – значит, стал… На ты не к вам я, а вообще. Побежденный – это кто согласился быть побежденным, чего тут крутить. Тот виноват, кто оправдывается.
– Да согласья моего никто и не спросил! Наплевать им, с чем согласен я, с чем нет… пришли и делают что хотят! Невидимые пришли, за грудки не схватишь!.. – Он разгорячился нешуточно, расстроился даже, и непривычно слышать было некий хрипловатый, через басок его глухой пробившийся вдруг фальцет, Дима – и тот "мышку" отложил, быстро глянул на него. Но уже опять пальцы его длинноватые сноровко чашечки хватали, уносили за стойку, к рычажкам и краникам агрегата, щелкали там, наполняли и выставляли их на жостовской работы подносик маленький – и было в движениях этих что-то непередаваемо бабье, привычно-суетливое… – Вот-с, прошу еще порцион… Жесточайшие в мире солдаты – понимаете?! – это не в говенного цвета униформе, а в белых воротничках… думающие солдаты, да, и они знают о нас все теперь, всю подноготную, тайну нашу главную, перед которой собственно военные секреты наши – сущий, скажу я вам, пустяк!..
– Это они так думают… пусть думают. И подольше. Не они первые.
– Да вы, я вижу… Вы не вполне, может, представляете даже, какое могущество против нас отмобилизовано, – несколько неуверенно сказал, искорками вопросительными на него и на Базанова глянул Мизгирь, подносик сдвинул к ним. – Пейте, остывает же… К нам применили системное оружие не то что завтрашнего для нас, нет – послезавтрашнего дня, если по меркам нашего политиканства убогого. Но и более того скажу вам: оружие, которое мы – в силу менталитета своего клятого, полудетского – и не создадим никогда в ответ, поскольку все на черных технологиях оно основано и славянской душе нашей ну никак не приемлемо… ведь же не будешь ты младенца в огонь бросать – ну, как янки во Вьетконге, как эсэсманы. Мы беззащитны, понимаете ли?! Оружие организационное, финансовое, информационное – и все в мировом масштабе, массированное; а мы не армия уже, а так, отрядишки разрозненные без тыла какого-либо, и пятая колонна по всему нас политическому – пока – полю шугает, а фронт везде у нас, через каждого начальничка плюгавого, продажного проходит, через телевизор каждый и радиоточку в любой квартирке, домишке нищем… Через души даже и детишек наших, про сладкое не совсем забыли они еще, через жен обношенных, тотально!.. Перед ним вермахт какой-нибудь – игрушка грубая механическая, сломал и выбросил; а это – времени дух, и он весь против нас, он везде и нигде, ни кулаком его, ни кассетной боеголовкой… Такого – не было, это надо ж понять!
– А с чего взяли-то вы, что я об этом самом оружии не знаю? – закурил снова, прищурился через сигаретный дым Поселянин. – Тайна беззакония – она для дураков. Для тех, кто знать не хочет. Тайны самой нету давно, пусть не надеются. А без нее это не та уж сила. Главное, знание против нее… отмобилизовать, так вы сказали? Хорошо сказали. Гут гецухт.
– Н-не понял… – Мизгирь даже брови поднял. – Как вы сказали?
– Гут гецухт – что тут непонятного? – глянул на него пристально Поселянин. – Немецкий. Это преподавалка немецкого у нас говорила так, в институте… помнишь, Вань? Марго нашу, Маргариту?
– Да вроде… Нет, Владимир Георгич, ведь и греческий огонь, и аэропланы, газы там – их тоже когда-то в первый раз применили… ну, и что?
– Да другое это, ребятушки, – принципиально иное. Полносистемное!.. Непобежденного – не остается, нич-чего! Не оставляется в принципе. Сама возможность появления очагов сопротивленья уничтожается, по всем третьестепенным даже узлам национальной самообороны, охранительства… не тактика – стратегия выжженной пустыни, так! То есть и профилактика тотальна, с последующим полным контролем психофизики оставшихся человечков, да хоть со спутников. А с другой стороны, не оставлена будет, возможно, даже и веская какая причина бунтовать, материальная: пожалуйста – ешь, пей, сношайся… И вкалывай, само собой. А за идею умирать, знаете, – таких и всегда-то немного… таких – на уничтоженье в зародыше, нещадно и с перебором даже, с подстраховкой. Шансов не оставляется, считать они умеют теперь, но… ищите, как отбиться.
Лихорадочно как-то глазами блеснув на них, отвалился в кресле, хлебнул из чашки; глянул на одного опять, на другого:
– Найдете? Найдем ли?..
– Читать фантастику любите? – ухмыльнулся Поселянин – впрочем, довольно добродушно.
– Нет, – в голосе Мизгиря не было и тени обиды, скорее – живость. – Технологии социальные пролистываю. Успешно внедряемые.
Иван недоуменно и с сердцем дернул плечами, встал, заходил:
– Да что, собственно, тут нового? Предательство, диверсии всякие, провокации с подлостью? Подмены, ловушки? Ну, собрали в кучу старье все это гнусное, свели в систему, массировано применили – и со старыми, паскудными такими ж целями… Тут не сила их, а наша слабость больше сработала, это ж до… не знаю… до тоски ясно. Борьбы-то еще не было даже…
– А мы уже за Волгой? Или – за Рифеем?
– И география другая тут, и тылы… другие тылы. Вряд ли им доступные. Они что, всерьез думают, что все просчитывается?
– Нет, разумеется. Им оно, может, и не нужно все. Зато главные-то параметры, надо признать, считают с точностью до… с хорошей точностью. Это маленькие гении игры, системщики. Они любой ваш плюс превратят вам в такой минус, что вы даже сами не будете знать, как от этого своего плюса вам избавиться… А вы их – недооценивать? Ох, братушки, чревато сие!..
– Да уж какое нам… – поморщился Иван. – В другую сторону бы не зашкалить. А с оружием… Каждый своим воюет, какое дадено ему. Сподручней какое.
– Во-от, это уже к делу ближе. А то пугаем друг друга как ребятишки. – Не то чтобы недоволен был разговором этим Поселянин, нет, слушал внимательно, было что послушать, наверное; но и скепсиса порой не скрывал своего, на ином знании обоснованного и на вере, не совсем Ивану неизвестных, конечно, но завидных именно верой… повезло, можно сказать, человеку с ней, не многим дано, а спрашивается-то со всех… Спрашивается кем? Ну, хоть той же историей спрашивается, временем, жизнью самой. – Средства в войне – они всегда почти ассиметричны… из геометрии, помните? Кто ружьем, кто стрелами, а кто дубиной. И резон у каждого свой.
– Но позвольте, – встрепенулся Мизгирь, – это ж межцивилизационные когда… Но у нас-то конфликт европейский, по всем канонам, в одном как раз культурном поле, в христианском, его-то не разделить… Или в постхристианском. И потом, вы только же посмотрите: даже компоновка у оружия – у самолетов, у танков там, у кораблей – одинакова до деталей, не различишь, даже и тактика армейская… Это гражданская, я бы сказал, война – да, не меньше!
– Ничего себе, сограждане… – хмыкнул было Иван; и остановился, Поселянин брал ответ на себя:
– Я о больших средствах говорю, не о технике… техника – дело третье. И кто это вам сказал, что – одно поле? Системщики ваши? Тогда ложанулись они, как наш молодяк говорит, обманулись – хуже некуда. А немец глупый, Шпенглер, русских вообще из Европы выставил – в отдельную, особую цивилизацию… в культуру, верней; ошибся старина, да? Компьютера, – и в сторону Левина кивнул, – у него не было? "Системщики"… А системы божьи рушат. Потсдам сковырнули как болячку подсохшую – а это пластырь был на ней, на болячке старой, кровь останавливал… Ну, дождутся.
– Во-первых, скажу вам, Алексей Петрович, уважаемый, – никакие не мои они, системщики. Но христианское-то поле, единое – есть!..
– Нету. И давно, раньше Невского даже. Так, шахер-махер дипломатический какой, соглашенья временные… А живой не было связи и не будет, чужей чужого мы друг другу. Войны только, и все до одной – идеологические, религиозные с их стороны. Не просто пограбить, на куски растащить, а и… А мы на их веру хоть раз… как бы сказать… покушались? Ну, вернули после войны коммунизм кое-кому – нате, кушайте свое… не понравилось? Дело ваше, опять же… Нет, чужей татарина они нам, татарин-то что – свой брат. И все никак это нам, простакам-дуракам, не докажут они, уж как стараются. Мы с объятьями братскими, а нам по морде. Да я на этом "поле" с козлом этим старым прижмуренным, Войтылой, на одном гектаре не сяду, с сатанистом.
– Ну да ж, ну да… – хохотнул одобрительно, коротко Владимир Георгиевич, покивал. – О-о, Ватика-ан!.. Одно из самых грязных мест на матушке нашей, Земле, любой мафиозный притон куда чище будет… – И руками развел: – В вопросах веры, надо вам сказать, не очень смыслю… это вы, гляжу, верящий. Однако ж насели вы оба на меня! Но я-то ответа, решенья ищу – а вы? На авось, выходит, надеетесь? А ведь он и с нашей стороны никоим образом не просчитывается, не гарантирован хороший-то наш авось…
– Да знаем, не подначивайте. Не авось это с небосем – дух, какой ни есть. Молодой еще… ну, дураковатый, да, несобранный, еще дозреть надо. – Говорил это Поселянин как-то обыденно, как о само собой разумеющемся, хотя и поспорить тут было о чем. – Довоспитаться. Причем в массе дозреть, а не в одних только провидцах своих. Зато живой, не мертвечина эта кагальная. А живое верх не сразу, может, а возьмет.
– Это как же, голым духом?
– Зачем? Железом тоже. А вот изъян у русского железа есть, что правда, то правда: отпускается… Чуть получше, полегче – в расслабуху тянет. В пассив, как при Ильиче последнем, как теперь вот. Опять в отковку надо, битьем – без этого не научишь нас, видно. В закалку – из огня и в масло. Ну, пусть бьют, работают, раз так… работа их эта нам теперь нужней всего, может, нам самим. Откуют – спасибо не скажем, конечно, наигрались уже в благородство. Не до того, когда шкуру живьем спускают, а вот возместить… Работку возместим эту. Воздадим.
– Полагаете, что они все это не учитывают?
– Полагаю, не догадываются пока даже, какую напасть на себя обвалили – будущую. Как герр Шикльгрубер образца сорок первого, не меньше. Сглупили, козлоногие… ну, не в их это воле – понять. Когда такие вот в свою ж яму попадают, какую рыли для других, это их не учит, никак. Не понимают, что – своя… Здесь у них обратная связь не срабатывает. – Нет, не знал Владимир Георгиевич, не предполагал, с кем в полушутку, считай, разговоры взялся разговаривать, малость развлечься захотел. Лучше не становиться на дороге, когда Поселянин "повышенную включал", о том с первого еще курса однокашнички знали. – И сейчас не сработала, уж больно соблазн велик был: пальцем толкни, мол, – и посыплется Россия… А несработка эта уже фактом истории стала. Они сами ее фактом сделали, теперь захотели бы даже, а повернуть не могут, не по ихней уже – по своей инерции все пошло… по парадигме – так вроде нынче говорят? По ней, родимой… Бесы во зле вообще останавливаться не умеют, не могут, это у них дефект такой, родовой. Перебирают с избытком, и в этом причина пораженья – всегдашняя. Так что не позавидуешь им. Нам, само собой, тоже.
– Вы так-таки и думаете?..
– А один мой господь знает, что я думаю, – не усмехнулся, нет – именно улыбнулся Алексей, неожиданно и, пожалуй, весело, в лучиках морщин у глаз притопил усталость. – И никто больше, никакие чернокнижники, – вроде как пояснил малость он эту непонятную им веселость. – У него-то в запасе всегда на один, это уж самое малое, ход больше. Как ни считай, всегда вариантов будет эн плюс единица – божья. Нет, не просчитывается это. Принципиально.
– Ну да, этакий козырь в рукаве, – раздраженно сказал Мизгирь, и его-то раздраженность эта, в отличие от поселянинской веселости, была Ивану более чем понятна: речь-то о сущностном, исторически важном зашла, и пускаться тут в изыски и споры вероисповедного толка, чуть не в догматику… – Да, непредвиденность большая сущест вует в природе, в реале; но и политические есть, экономические там и прочие законы, вполне объективные – по которым замысел и исполнение сообразуются точно так же, как… стрела, положим, и цель. Вы что-то имеете против таких законов?
– Не скажу, что нет. Только это вот самое неуменье зла останавливаться – чем не закон тоже? Почище ваших, еще посмотреть – кем писанных… А означает это для зла очень нехорошую потерю маневренности – со всеми хреновейшими для него последствиями… – Обдуманное говорил однокашник, в этом не откажешь, и не в первый уже раз удивлял его: когда успевает? А тут мало было успевать читать всю прорву неподцензурной теперь литературы, какую тот пачками закупал, кажется, в свою уже неплохую-таки библиотеку; тут, считай, заново учиться думать надо, да и выражать в словах тоже… – А то, о чем сказал я, вообще поверх законов – всяких. Поверх. – Зевнул, явно утрачивая интерес к разговору; и уж будто вдогонку тому интересу несбывшемуся пальцем прокуренным по подносику еще пристукнул: – Ничего, даст бог – и здесь, и на том континенте сыщем этих, в логове самом… Замараем им воротнички.
Владимир Георгиевич замер будто, слушая это, в себя ли, далеко ли куда глядя, умел слушать и слышать, когда надо; и встал, шагнул в закутке своем к окну, повернулся резковато на светлом его, нежданно проголубевшем поздненоябрьским небушком фоне, лицо его готовно улыбалось:
– О-о, чтобы в такой уверенности быть, надо… Надо многое иметь и уметь!
– Сумеем. И не захотят, а научат. Наука битьем – она не сразки, может, доходит, тут еще понять надо, за что бьют; да зато крепко сидит. Чтоб задница дольше головы помнила.
– Нет-нет, согласен, тут не бороться нужно даже – драться!.. И по-нашенски, страшно они этого не любят… как это вы сказали – ассиметрично? В этом есть смысл. Но вот ситуация… Реальность – дерьмо, но ее надо знать…
– Рассорилась она вконец с реалиями, люмпен-интеллигенция наша, как ее Иван Егорович называет, – подал вдруг негромкий голос, поддержал Левин, его большие, переносицу стеснившие глаза были серьезны. – Расплевалась, вдрызг. Я бы даже назвал это отказом от реальности, вот где опасность…
– Да-с, люмпен-интеллигенция вдобавок к люмпен-элите – это ж адская смесь… К нему именно адресоваться приходится, к аду. – Мизгирь со значением покивал сам себе, с тою же значительностью на них глянул. – Уж не знаю, как насчет Бога вашего, сомнений здесь более чем… А вот так называемый дьявол наличествует во всей своей определенности и, не побоюсь сказать, мощи – проявившейся вполне. И мощь эта, может быть, не только посюстороннего, так сказать, земного, но и метафизического свойства… вы не находите?
– Находить-то нахожу. Но вот что-то с логикой у вас…
– Понимаю! – чуть не возликовал тот – любивший, по его же словам, когда схватывали на лету. – Понимаю. Я-то с сомненьями своими грешными о вашем Боге именно, полномерном, если можно так выразиться, абсолютном… И, разумеется, против абсолютизации сатаны – да, не желал бы… Однако теодицея для меня совершенно неразрешима, увы… ну, не могу подыскать оправданий Богу и твари его, человеку и природе этой клятой. Но же возможен еще один вариант, в истории мысли человеческой небезызвестный: о равновесии великом того, что мы именуем добром и злом – в наших, прямо сказать, убогих понятиях о том и другом… отъявленно-примитивных, да, всем реалиям противоречащих, всему строю мироздания, прямым и недвусмысленным законам его, прошу заметить – нейтральным ко всяким этим человечьим штучкам-дрючкам моральным и равнодушным, если не сказать хуже!.. Мы завязли в идеалах придуманных, как мухи в меду. В одностороннем застряли, тогда как противник наш, по-видимому, оперирует в двустороннем понятийном ряду, в двухсоставном реале и, соответственно, с куда большими степенями свободы в действиях, – не похоже? И двухсоставный в метафизическом плане равновесный мир, двумя, знаете ли, демиургами устрояемый в полном соответствии с диалектикой, даже в диалектическом единстве… почему нет? А чаши весов временами-эонами клонятся понемножку то в одну, знаете, то в другую сторону… Бытует – и не в быту, а в бытии именно, – и такой взгляд на эту а-агромадную посудную лавку, где вечно, перманентно что-нибудь бьется…
– А вот об этом у нас спора не выйдет.
– Да? Отчего ж, позволительно спросить?
– Потому что я не хочу. Не считаю нужным и возможным для себя… Ладно, – сказал, подымаясь со стула, Алексей, по привычке старой по карману хлопнул, курево проверяя. – А за кофе спасибо. Хорошее, нигде такое, как у вас, не пил. Где раздобыли? – на аппарат кивнув, спросил у Мизгиря – откровенно ухмыльнувшегося. – Кафешку в клубе хочу завести. А то слоняется вечерами молодежь, приткнуться негде, посидеть…
– Увы, там уже нет, – развел тот руками. – Их вообще поставляли только по спецзаказам. Да, впрочем, мельничку, а к ней электрочайник, больше ничего и не нужно. А главное же, кофе хороший, свежепрожаренный – и не жалеть, погуще… Нет, единицами такие поступали, чуть ли не через МИД.
– И без педерастов как-нибудь обойдусь. Найду.
– Каков вы, однако… – все улыбался Владимир Георгиевич – благожелательно с виду, но и колючести в глазах, кажется, даже пренебреженья некоего ко всему не в силах скрыть уже, достало чем-то его… безрезультатностью спора-разговора этого достало? И к Ивану обратился, унимая ли себя, другим ли раздраженьем замещая неудовольствие свое: – Лоханку комсомольскую открывали, сегодняшнюю? Нет? Тогда не расплескайте… Преглупейшая передовичка, доложу я вам… ох, раскатаю! По бревнышку, как один знакомец мой говаривал, спился благополучно потом…
– А есть нужда связываться? Надо глянуть.
– Есть, уверяю-с! И не мы, а они будут, воленс-неволенс, на наш вящий интерес работать. И себе в ущерб, опровергая!..
– Гляну.
– Как там на селе у вас… читают нас? – поинтересовался Левин, листнул блокнотик и ручку изготовил. – Сколько вам номеров оставлять теперь?
– Десятка полтора, может… ну, два. Подписку организуем – побольше наскребем. – И усмехнулся, не очень-то и весело. – Два, да. Населенья-то еще хватает, а вот народа…
Они перешли в кабинет базановский, покурили.
– Нет, надеяться не на кого, – сказал опять Алексей, тяжело. – Только на силенки свои. Окапываться надо, вкруговую. Маслозаводик в придачу к маслобойке делать буду, с полным профилем, оборудованье приглядел тут по дешевке, без дела валяется. Мельницу расширю, с крупорушкой чтоб, да и цех зимний открыть еще, по ширпотребу. Чтобы на сбыт все сразу, на денежку, без посредников. Иначе сядем – голым задом да на ежа, тоскливо придется…