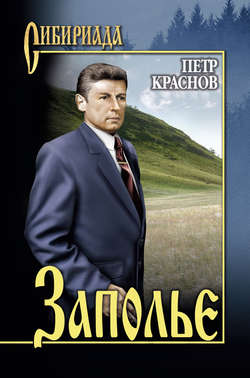Читать книгу Заполье - Петр Краснов - Страница 5
Часть первая
4
ОглавлениеТакими он помнил их первые, пробные, что ли, встречи-разговоры три, считай уже, года назад, когда в самый разгар лжи невозбраняемой и глупости рушилось все, сам человек обрушивался в себя, в животное свое, или в рефлексию ту же русскую бездонную обо всем вместе и ни о чем в конкретности, и вправду не ограниченную ни волею, кажется, ни смыслом, разве что хрипотой, недоумением сердца и симптоматичной, будто бы невесть с чего, опустошенностью – догадкой, что он, человек русский, пуст, выхолощен кем-то или чем-то уже давно, оказывается, и только теперь это – ни с того ни с сего, опять же, и в самый неподходящий момент – вдруг выказалось, обнаружилось.
И если собеседник его, однажды подумалось, ставил целью понравиться ему, собою заинтересовать, то цели этой своей он, без всякого сомнения, достиг в самые короткие, можно сказать – ударные сроки, хотя продолженье-то последовало не сразу. И помнил эти в отечных веках маленькие, но более сказанного знающие глаза, то смеющиеся над всем на свете, то жестокие, решительно всем – и собою первым – пренебрегающие, и эту безоглядную какую-то, сдавалось, откровенность его, циничную часто, но и подкупающую. И запал язвительного, сварливого по-бабьи проповедничества, простейшее порой доказывающего с непонятным упорством, упертостью едва ль не фанатической, – смешком отделываясь потом: а как бы вы хотели, сфера проповедничества – простое… не сингулярное же счисление проповедовать, не Кьеркегора. И сказал как-то, почти проговорился: в сложном лучше и не пытаться человека убеждать, ненадолго это, ненадежно; а вот в простом, на котором и формируется как на фундаменте сложное, попробовать еще можно. Докажи простое – а сложное, на этом основании, он и сам себе докажет…
И ежели я личность, говорил он сочными своими меж подпалин бородки губами, но голосом резким, с яростным почти проблеском глаз, то должен заявить свое категорическое "либерум вето" всему, что мешает мне как личности быть, стать ею! Иначе сомнет меня, стопчет диктатом нужд всяких, будто б неотложных, веленьями пошлыми времени, которые чаще всего не более чем скудоумная мода… и что останется от меня?! Шкурка, набитая скоропортящейся плотью. Мечтанья рохли, надежды дурака. Несущественное, бесплотней вздоха последнего моего… осинка в лесу последняя не вздрогнет, не пролепечет по мне, как не был.
И дернулся, вспомнив, возликовал:
И треплется тополь с тропы,
Как влепленный в лепеты лета…
– Каково?! Бе-елый… беленький наш! И вопрос базановский упредил: марал, марал стишатами, насиловал чистый лист… виноват и заслуженно наказан, на всю жизнь. Лирическими, вроде рвотных, позывами.
Жил он, потом узналось, в однокомнатной квартирке с огромным старомодным диваном, таким же столом письменным, который, как кажется, комодом и буфетом одновременно ему служил, и с единственным книжным, до отказа набитым шкафом без стекол. Остальные книги пыльными стопами и грудами сложены были на полу вдоль стены и где ни попадя – философские из последних серий, много историографии западной, потрепанных обложек журнальных, новомировских больше.
На обесцвеченных временем и пылью обоях лезли в глаза два всего, но в заботливых одинаковых рамках, портрета: Энштейна, язык всем показавшего, – "дурил старикан, от гениальности сбрендил уже малость", – и какого-то бородатого, с дагерротипа прошлого века, скорее всего; меж них зеленый почему-то угольник на гвоздике. Окно во двор куда-то выходило, на ржавые крыши сараев, с тусклыми, от многолетней домашней сальности изнутри и уличной копоти снаружи стеклами, не окном – все той же серой стенкой казалось.
В квартирку эту, явно нелюдимскую, в какую гостей не водят, Базанов попал случайно, можно сказать, и единственный раз всего – когда срочно понадобилось жестоко простудившемуся Мизгирю, "висевшему" на телефоне, учредительные по газете бумаги. Где-то здесь же, в городе, то ли жена, то ли женщина его жила с сыном, лишь однажды упомянул о них: было, дескать, все было… На истфаке в Свердловске некогда обучался, в аспирантуре потерся, в газете – нигде не ужился, пытался учительствовать… калика перехожий, одним словом, люмпен-интеллигент, даже завлитчастью в театре побывал – в кукольном. Детство? Ну, что детство: послевоенное, полубарачное, фронт два раза там перекатывался, бандера эта – топтали кому не лень. Голодуха, само собой. Были у деда калоши, сорок последнего размера – одни, считай, на всю семью. А дристали мы тогда поголовно. Выскочишь, продвигаешь в них за угол – успеть бы… Дома потом оглянешься – а говно в калошах, вот и все детство.
Эвакуация, я сказал? Да нет, это я так… от скудноты сбежали сюда за Урал, попозже. Безнадега достала.
Но вот успел в скитаньях юридический закончить, заочно, и теперь подвизался в консультантах у кооператоров, так можно было понять. Денег хватало, не жалел, даже как-то демонстративно брезглив к ним был, разносчиками заразы именуя, не иначе. Зараза уже потому, говорил, что через столько рук проходят – сальных, потных, подлых, всяких; а уж в других смыслах, в мистике тем паче. То ли дело натуральный обмен, моя б воля – все бы к нему вернул: товар на товар, симпатия на симпатию… впрочем, начался он уже, натуральный. Ребячествую, да; но лучше бы в безналичную их все угнать сферу, в виртуальную изгнать – все бы воздух чище…
Да позвольте, даже удивился Базанов, девять их десятых, денег мировых, в безнале давно. Там-то как раз самые аферы с ними, самая дьявольщина!.. А наличка – она ж видна, потная, но в какой-то мере и честная… Да? – рассеянно сказал тот, пожал плечами: не знаю, как это у них там, на диком Западе… как-то не задумывался. Пожалуй, что и так, я вам верю. Ну, грязь – она и в безналичке грязь…
Не знать этого, при его-то, надо полагать, шашнях с кооператорами, с налом-безналом, к которым свелась сейчас вся-то проблематика теневых "бабок"? Манерничал, это уж наверняка; но и тоска была в нем, человеческая, болезненная, и он даже не столько, может, приступам проявленья тоски этой поверил, сколько самому бытию его, аскезе той увиденной, где быта как такового и в помине не было, ночлежка разве. Ею, тоскою, движим он был, Базанов это по отклику такой же стервы, товарки ее, в себе чувствовал, знал и однажды обозначил: идея тоски, идеал как тоска… И Мизгирь мгновенно понял его, жарко – он моментально умел загораться – согласился: принимаю, без изъятий! И развил: все идеи смертно грешат систематикой, в ней же и самоликвидируются; а это – объемлющее, как Ясперс называл, это – вертикаль… Сплошная, нерасчлененная, как всякий порыв. Подвиг тоски – сколько этого было… мы и близко даже не знаем, не подозреваем, куда он и скольких подвигнул, что сдвинул… Но сдвинул! Но движет!
Чаще всего случайными их встречи были, на всяких тусовочных перекрестках, натоптанных тропках большого, на глазах в трущобный быт опускавшегося города, в чаду обгорающей по рваным краям и выгоравшей изнутри страны, уже, похоже, полубесчувственной к боли, так равнодушно шумела и сварливилась под телевизионные вопли и гвалт огромная, расползшаяся во все ее края и концы всероссийская барахолка. Встречались, схлестывались порой в спорах, кто тогда не спорил; нельзя, впрочем, было не заметить, что в серьезных-то, более-менее принципиальных вещах Мизгирь довольно уступчив был, а вернее сказать – понимающ, оттого, может, что не очень-то и разнились у них они. К концу следующего лета и вовсе запропал, не меньше чем на полгода, даже и Алевтина, с которой увиделись как-то на одной из почти ежедневных тогда пресс-конференций в самые тяжелые дни октябрьской заварухи, понятия не имела, где он может сейчас быть… там? Не исключено, конечно, он же знаете какой… Так опасаюсь за него. Почему здесь? Подружка провела – послушать, узнать что-то, страшно же…
Появился он тогда к весне ближе и на вопрос лишь усмехнулся красногубо: да так, на стажировке, в некотором роде, на юридической… нет, хоть близко, но не там, – такой же цепкий глазами, мыслью тоже, разве что уверенности прибавилось, может, уверованности во что-то в себе, и в разговоре напористей стал, пожалуй, категоричнее. Рассказывал мало, помянул разок Лефортово – помогли, дескать, чем могли, раздраженно отговаривался: да вы тут ничуть не меньше знаете, источников теперь до черта, хоть и грязные, а если в белокаменной куда больше версий ходит, самых порой дичайших, – так тем хуже для Москвы, значит, для объективности как категории… Баржи? А кто их видел, баржи эти, покажите мне их? Свидетели эн-эн, других имен-фамилий я тоже не встречал. Фуры для вывоза мусора, между прочим, предпочтительней, да и какая нам, подумайте, разница? Единственно объективное знаю я – это что нас грубо и умело побили. Разгромили и рассеяли – с непредсказуемыми последствиями… Типичный переворот, уже второй по счету, и кто мне скажет, сколько их будет еще? Никто мне не скажет. А что до надежды, так я, скажу вам, на одно надеюсь: чем хуже – тем лучше… других у нас надежд и раньше не было.
И не то что призабыли, а притерпелись и к этому, хотя долгонько еще тянуло кислой гарью пораженчества с того пожара, стыду не давая улечься, уняться, освободить для дела нового. Но если это к кому-то и относилось, то только не к Мизгирю, внешнее пораженье, казалось, ни во что не ставящему, озабоченному совсем иным.
"Так что останется?!" – опять упирался он все в тот же вопрос, как-то слишком болезненно, с тою же тоской упирался, будто это имело хоть какой-то смысл для атеиста… сын, никуда не годный, как все они, нынешние? Способности невостребованные? Возможности, даже на четверть какую-нибудь жалкую не реализованные, профуканные?.. Но пусть даже так! Пусть в жалчайшем моем пребуду, и миру-то, положим, начхать на мое свободное вето, он как громоздил на меня несуразности всякие, изуверства свои, так и будет, – но вот о шкурку свою ноги вытирать, пока жив, очень-то не дам! Внутри, пусть и пройду по разряду недоносков, суверенен я, свободу свою никому не отдал, не передоверил, и вето мое в силе там (и в слабую грудь стукнул), полновесно… да и во мне он, мир-то! Не солипсизм, нет, с досадой отмахнулся он от обвинений, заранее презираемых; нет, это все сны хомяков кабинетных, заумь… Но во мне; и понадобится ежели, припрет – погашу, закрою эти лавочки вонючие, внешнюю с внутренней вместе… не миновать все равно. Но – сам! Своим правом и властью. И кто у меня эту власть отнять может – безумье, разве что? Да, может; но это уж и не я буду… Герой один литературный, Иов, на весь по-еврейски свет вопил – слабак потому что, неполная в нем была сила, не хромого Иакова… жидковатая, вот именно; за такую не награждать надо на месте Бога, а карать, карать беспощадно – пока не научится молчанью сильных, молчанию истинной веры!
И в этой власти и в этом праве единственная самость моя и сила – миру противостоять, меня ненавидящему, мной пренебрегающему. Единственная – вникните – реальная моя сила! А в остальном уязвим я и уязвляем бысть, слаб и гнусен как таковой, как все…
Прямо так и – ненавидящему?
Ну, не прямо, может… да хоть и опосредованно, какая мне, скажите, разница? А подумайте, разве нет?! Оглянитесь: неуваженье к творенью, к твари любой в этой самой природе царит такое – волосы же дыбом… Мириады убийств, цепочки пищевые кровавые – цепи смерти, да, и все виды стихий на нас, болезней спущены, как своры несчетные собак, и этот… господин случай этот ходит около твари каждой кругами, этакими спирально сужающими кругами – с топором, и сука косая ждет-поджидает впереди… Ну а человечкам, вдовесок к мукам физическим – ха! – еще и душевные, а кое-каким счастливчикам и духовные даже – в качестве сугубой кары: не высовывайся!.. И ни о чем другом сие пренебреженье к твари, сии траты жизни безумные, кроме как о малоценности и дрянности всего творенья, не говорят – в глазах природы ли, Бога, мне-то все равно. И чем, спрошу я вас, мне отвечать?
Нечем Базанову было отвечать – ни себе, ни за него, тем более; и, может, именно потому надо было хоть чем-то возразить, хоть бы этим – беспомощным, сам почувствовал: ну, чисто личностного тут и не может быть ответа… только с родовым вместе, продленным в роде твоем и дальше тебя. Смыслообразующее где-то там.
Где-то там – это, значит, нигде!.. И что род, что – род?! Все нас в родовое тянет, как к титьке, – великовозрастных! И что тебе родовое, если уж прямо, без затей? Род есть, пока ты сам есть, не примите за цинизм. А сдохнешь в бореньях с собой и средой – и рода для тебя не станет. Ни субъективно, ни объективно – никак, между нами, атеистами, говоря. Да и что он, народ, без тебя не выживет, не обойдется? Авось жил и жить будет; более того (и пробарабанил пальцами в такт, пропел почти): отряд – не заметил – потери – бойца… Не заметит, да-с, Иван Егорович, и беды большой для него и вины его в том особой нет, на войне как на войне… И все ворчал, будто от раздраженья еще: я о душе его, а он – род… О том, как взрастить-поднять ее и к какому делу определить – в предложенных и крайне хреновых обстоятельствах. Чтоб единственная эта – на фоне всеобщего тварного бессилья – сила ее актуальна была, творила здесь и сейчас! И в той мере, в какой творит она здесь и сейчас, она и будет исторична – а не где-то там в роде, в весьма проблематичной продленности после меня… и мало ль что будет или не будет после меня! А для меня "актуальная" – это значит моя, или хоть в том числе моя. Не чужим – своим распорядиться хочу, силой и правом, единожды мне даденными… да, самостью своей!
Почти согласный с этим, Иван, помнится, лишь с его пренебрежительной трактовкой родового примириться никак не пожелал: "Вы что-то совсем уж в одиночестве оставить меня хотите… А ради себя одного, любимого, и дергаться, возникать не стоит". Или его самого, Мизгиря, не устраивало оно в чем-то, родовое свое, недодало? Может, детского того же говнеца своего в галошах простить до сих пор не хочет… И спросил:
– Ну ладно, самость… хотя сами ж о мизерности, малоценности ее говорите. Чего она стоит тогда?
– А это как распорядиться ею… Чего стоит жизнь, а того более – смерть гимназистика Гаврилы Принципа? Или… ну, хоть Богрова – знаете ж? – Базанов плечами пожал: разумеется. – Да и мало ль… И кто посчитал, вообще просчитать может цену их жизни-смерти? О-о, ценой этой много можно сделать – с умом если, во времени и месте нужном, узловом… – Он это сказал со смешком, как говорят о чем-нибудь скабрезном. – Да и простым даже, но сполна упорным преследованием цели реальной… Нет, человек кое-что может. Немногие, но могут.
– Осталось, значит, цель найти?
– А и язва, однако ж, вы… Я к тому, что игра-то скверная идет, в прямом смысле смертельная, и мне тут не до… Уже апогей свой пролетел-проскочил, к земле пошел, в нутро ее темное, без единой звездочки, без иллюзий… Но силы-то при мне еще, есть. И опыт страстей какой-никакой. Еще помужествуем.
– Ну, за пределы-то игры этой вам не вырваться же – как и всем, – со вздохом проговорил Базанов; и увидел, как дернулся Мизгирь, как в бешеные щелки превратились глаза его – где недвижно, серо плавилась жесткость, еще в нем не проявлявшаяся до сих пор, если не жестокость…
– Ну так я свою объявлю игру… – тяжело, как продираясь через что-то в себе, и медленно сказал наконец он, припухшие веки его не сразу, но пригасили ненависть к кому-то, спрятали. – Имею честь объявить. И право. В конце концов, я из малых сих, – я ведь прав, отстаивая свое, пусть даже ничтожное. Во мне правота слабого, рискующего самым ценным своим – да, жизнью именно самой, чтоб хоть на малость подняться над немощью своей… нет разве?
– Еще на ступеньку вверх – все той же слабости?
– А хоть бы и так. Но – изведать, себя исчерпать… Вы-таки, смотрю, неплохо устроились при мне – резонером… – усмехнулся он, отходя от этого ничем особо не вызванного, казалось, бешенства внутреннего – уж не сыгранного ли? – Слушаете себе небось и на ус мотаете – а?.. Да, исчерпать! А то не куришь, не пьешь – здоровеньким помрешь… Я ж, если хотите, романтик – есть упоенье в бою, есть. Хотя, скажу я вам, романтизм ныне серьезен, может, как никогда… весьма даже угрюмое порой это дело. По самой ситуации черной нашей, по истории, какой каждое столетье кончается. Что, ребятишки в том октябре вокруг дома этого, белого будто бы, сгрудились под пушки танковые, сбились как волченыши защищать эту деву публичную, конституцию, – не романтики разве? А демократия эта, пусть обезьянья – нет?! И это ж начало только – и в пределах совкового моралите пока, еще не цветочки даже – бутончики, можно сказать. А вот криминал, тоже игровой, в натуре, да еще с политикой вперехлест – это уж посерьезней… От перманентной все это, похоже, нашей детскости; а детишки если и не совсем злы, то уж во всяком случае беспощадны как никто – по максимализму ребячьему, экстремизму, по незнанью ли. Насквозь эгоистична и физиология в них, и психология, все внутрь себя направлено, на нужды роста и самосохраненья – и осуди-ка их! Плевать им на отмирающее, прошлое, им нынешним жить надо, еще более завтрашним… плевать на материнское, родовое, это для них не почва даже – грунт! Вот ведь романтизма основа.
– Какая-то в самом деле, – усомнился Базанов, – уж очень физиологичная…
– А вот такая, бытие первично. Он внутренне жесток, романтизм, ему всегда тесно в рамках современности тошной, этой скопческой, да, всегда застойной морали и гнилухи-политики… ему завтрашнее подавай, чтоб все по мерке его размаха было, его запала, заодно и ветошь идеалов кое-каких перетряхнуть! Жесток, иначе он старое не заломает. Но и правота – отчасти – в том же. На поиск право. И сам человек – на пути коротком из одного мешка да в другой, безразмерный, – в цейтноте жестоком, гнусном, в тупике, считай, из установлений всяких ханжеских, где мораль – это что-то вроде прутьев решетки… как не искать?! Да хоть даже и взломать его, тупик, к чертовой матери! Взорвать!
– Да никто вас и не лишает его вроде, права на поиск, – чем-то в себе сопротивлялся Иван этому непонятному напору, малость озадаченный даже. – В незапертое ломитесь. Ищите. Но и ведь… Не пойму, чего вы добиваетесь-то от себя? Вседозволенности? Права на зло?
– На зло?! – встрепенулся Мизгирь и будто замер, на мгновенье задумался. Но только на мгновенье, замотал тяжелой головой: – Нет-нет, избавь… – И укорил: – А вы тоже хороши, чертячьи вопросы подкидывать… "не искушай" – это ведь то же "не навреди". Нет, так далеко мечты мои, к сожаленью, не заходят.
– К сожаленью?
– Да как не пожалеть о лишней – еще одной, это уж как минимум, – степени свободы, чудак человек?! Не могу не пожалеть – тем более что доступно же, руку протяни… Искус, да, – кивнул он скорее себе, чем Ивану, нечто вожделенное жуя губами, – вот же ведь жизнешка, вонючка…
– А как все-таки насчет цели? Ну, в игре вашей, объявленной?..
– А вы ж настырный! – с веселым удивленьем ли, одобрением проговорил Мизгирь, будто внове разглядывая смеющимися глазами его, ощупывая, к чему-то примериваясь. – Гляди-ка, не забыл… И считаете себя вправе спрашивать?
– Ну, в пределах дружеского, что ли…
– Нет, брат, табачок этот, боюсь, врозь…
Он замолчал, клочки бородки почесал задумчиво, пошкрябал; встал и к окну подошел – сидели они тогда в кабинетике базановском, редакционном, – глянул равнодушно на изнуренную суховеем, цепкой провинциальной пылью как патиной покрытую листву кленовую, обернулся:
– Играла мышка с кошкой… Видеть приходилось, как кошка мышку… э – э… хавает? Схрустит всю и даже помет, пардон, какашки, какие из мышки выдавятся, подлижет… какая, к черту, игра?! Какие правила?.. Необходимость жестокая – вот какие мне навязываются правила! Собой остаться необходимость… инстинкт самосохранения, только еще и в плане интеллектуальном, да, личностном. А остаться, кстати, – это совсем не значит в недвижности пребывать, как баба каменная, какую недавно в степи нашли, в газетке вашей же как-то писали… Остаться – это не статика вовсе, это динамика личности, развитие. Само-у-совершенствование – что, не цель? Борьба – с собою, со средой, и решительная. Это, знаете, как война гражданская, с повстанцами там, оппозицией: если ты, правительство, не выигрываешь решительно – ты неминуемо проигрываешь…
– Победителей в ней не бывает, кое-кто убежден…
– Еще как бывает, – упрямо и хмуро бросил, почти отрезал Мизгирь. – И победитель получает все… вместе с разрухой пусть, с могилами братскими, подпольщиной, но – все! Да они все наши войны – гражданские, если разобраться, все до единой. Было б из-за чего воевать, собачиться…
– Но нельзя ж не спросить…
– Скажите, какой он любознательный мальчик… Себя спрашивайте – себя! Здесь каждый сам спрашивает, сам и отвечает. А ответ со стороны, советы… Я ему насоветую, он жизнь на это положит, лоб расшибет, расплюется с нею, с жизнью, вдрызг, а остаток дней на меня злобиться будет, анонимки Господу Богу, доносы писать… так?! Так. – "Мальчик"… Непохоже было, чтобы просто его словами несло, хотя поговорить-то он любитель; от ответа уходил – о той самой цели, декларациями своими отделывался, декламацией. – И потому свобода выбора здесь – безусловна. В нем, выборе, соль твоя и смысл… откуда мне знать соль твою? Своя всю… э – э… все кишки проела. Уразумей, приди и сам скажи – лишь так решается насущное. Не спрос, а предложенье ценятся тут. Деяние то есть, оно ж и условием существования личности является. А если своей не хватает силы на замысленное – объединяться, товариществом брать… мы ж разумные, мы многое можем! "Возьмемся за руки, друзья" – это что, пошлость? Нет – высшая простота! Или уж, на худой конец, силу найти, текущую в направлении твоих целей, присоединиться. То есть, ежели высоким штилем, причастность к большой деятельной идее обрести, актуальной, за которой будущее… А болтаться вокруг двух-трех мыслишек, колебаться, движенье духовное вверх движеньем мнимым, колебательным подменять, охотой к перемене мест… чисто русский это уход от дела, скажу я вам! Стоит – не стоит, делать дело – не делать… Где книжка ваша? Рукопись – где?! – И руку неожиданно выбросил к нему, длань свою с узловатыми и словно от нетерпенья подрагивающими пальцами. – Дайте! И завтра, нет – через месяц-другой я издам ее, и на всех она будет углах, задешево, на каждой кухне интеллигентской! И на московские пошлем, пусть эти… челноки эти читают, ностальгируют по роду своей прошлой деятельности, онанируют…
– Вы?!
– А почему не я? Или друзья мои, какая разница… Но ведь рукописи-то, извиняюсь, нет!
– Ну, книжка… Но и время не совсем попусту провел, это вы зря.
– А я этого и не говорил – знаете же, как читаю ваше… Но вот сколько уже – два, три года ли, как разговор о книжке был? И какие годы! Нет, не могу я о них не жалеть… Но книга – ладно: это дело духа, своего рода откровение, и… Разовое в чем-то, не для дней и лет – для времен. А – газету если, положим? Для той же интеллигенции, для всех и, само собой, интеллигентную в меру, без слюнявости? Патриотическую, да, но и без брутальности обкомовской – атавистической, вот именно, а то у шефа вашего торчит она то и дело как… как шерсть из-под манишки. – Глаза его уже смеялись. – Что, слабо?!
– Слабо там или нет – не вопрос… возможности где?
– Есть возможности. Все.
– Позвольте… Новую, хотите сказать, газету? Чью?
– Нашу. Какую мы сделаем. Присоединиться зову – почем зря, что ль, распинался я тут…
– И… в качестве кого?
– Мотора. И руля заодно, иначе какой мне смысл предлагать, а вам – соглашаться. Меньшее не предложил бы.
– На условиях? – Никак Базанов не мог все-таки за два года этих попасть, встроиться в его темп, не то что неровный – рваный, то занудный, с дурно истолкованной диалектикой подчас, с моментами какой-то внутренней, непонятной природы, и вязкой истерии, а то стремительный, не успеваешь подумать… – Есть, разумеется, и условия?
– Да все!.. – пожелал по-своему понять его Мизгирь, эффектом более чем довольный, таровато руками раскинул. – Все будут – в рамках необходимого, само собой: финансовка, крыша над головой, техника всякоразная – компьютеры там, колеса, факс. Штат сами наберете, ну и мы подкинем, если не против. А условия к вам… да ваши же: трезвость, патриотизм, альтернативы полуборделю, полумалине этой. Главное – с бою, с ходу авторитет накачать, тираж. Чтоб либералов слюнявых, шавок этих газетных поразогнать, потеснить…
– Ну, слюни-то у них разве что на клыках…
– Ххе-ха-ха-ха!.. Ничего, вспомнят у нас подворотню… загоним! Как идея сама?
– Как идея – ничего… Неплоха. – Неужто сбываться взялось, наконец? Сколько думалось о том, попыток делалось… – Так все-таки к чему присоединяться, к кому?
– Да хоть ко мне – али так уж я никчемен?! Есть люди, Иван свет Егорыч! И не только с башлями, но и с головой. С предвиденьем. К ним и пойдем. Хотя вопрос-то, скажу я вам, в принципе уже решен. И об этом… о карт-бланше нам даже и заговаривать не будем – как будто он, – и мигнул весело, по бедру себя хлопнул, – уже в кармане у нас. Речь если вести, то лишь о технологии дела: как, когда, что почем… Четверть площади, скажем, рекламе – ну, это кесарево, да и копейки какие-никакие для поддержки штанов. Но три-то четверти наши! Вот о них и помаракуйте: рубрики всякие, темы, гвозди номера – чтобы по шляпку в читателя… ужель не думали никогда? Не поверю, чтоб не мечталось – о собственной, у себя в руках…
– Как не думать… – Сдерживал суеверно, осаживал себя, не торопился верить – что-то легко уж слишком, не спугнуть бы. – Были прожекты. Как-то даже с ребятами из "партянки" нашей – партийная ж газета была – столковался, с двоими… неплохие сами по себе перья. И средства кое-какие находились стартовые, и с помещеньем договорились почти. А шеф пронюхал как-то, перехватил. Ну и… продались, дело ныне обычное. Одному рекламное приложенье дал, другой аж в замы во вторые вышел… Я бы в замы пошел, пусть меня научат. Уже вовсю научается, гляжу.
– Так-так… а вас?
– Оставлено без последствий. Персональный гонорарий, правда, попытался мне какой-то ввести, особый всучить – а мне это зачем? В коллегах зверя будить – какой не засыпал? Пришлось эту явно ошибочную линию поправить. Как неконструктивную.
– Прямо-таки так?! Да наслышан о вашем главном… как его – Неяснов?
– Неяскин.
– Ну да, ну да… Бурячок-с, крепко сидит. Все ходы-выходы знает, интриги, всех пересидел, и не дурак, судя-то по всему… кого не люблю, так это дураков. Вот и надо, как минимум, половину читателей увести от него – лучших, так ли сяк, а думающих. И пусть со старичьем остается, с коммунячьим, кости горбатому, хромому да беспалому перемывает…
– Так коммунистов не любите?
– Представьте себе – не то что люблю, а ценю, и больше многих прочих. – Мизгирь серьезен стал и будто даже озабочен, как-то нахохлился, руки длиннющие вытянул по столу. – Уж побольше иных. Но же не верхушку, какая зажралась самым пошлым образом, предала и сдала – всех! А старики… Ну, не создать с ними нового, как их ни жалей, не годятся уже на это. И не их уж это дело, в конце концов. Психологически, умственно, энергетически, всячески – не их!
– Да, – вздохнул вполне согласно Иван, – что-то совсем иное выстраивать приходится – в совсем ином контексте… Тут и молодые-то в ступоре.
– Во-от!.. Вот их, сильных, и надо звать, думать звать. А от всех этих долбаных стихий исторических у нас одно спасенье – традиция… да-да, и не удивляйтесь. В традициях наших романтизма – ого-го!.. Вы вот завтра-послезавтра, может, против всей этой своры выйдете, один в поле воин, считай, – что, не романтизм разве?! В том лишь тоска-печаль, что все больше по нужде мы романтики, поневоле… слишком что-то курноса она у нас, романтика, все в ямку последнюю норовит сгрести; но это так, лирическое отступление… А традиция у нас от веку – белая, державная, вот к ней и надо грести. Она же, в сущности, проста: крепко сшитая сословными взаимоинтересами и, само собой, взаимообязательствами страна. И все! Сословия, может, другие, но идея та же. А красная составляющая и так останется – лучшим, надеюсь, остатком своим… в кровь она вбита нам, в гены, в социум!
– Белая?.. В ней, как в белом цвете, такой спектр прячется… Какого, простите, цвета – белая: черносотенная? кадетская? Или эти, как их… трудовики?
– А это какой мы зададим – иль мы не разумные?! Вместе будем думать, товариществом большого круга – при полной свободе мнений и, пошуткую, сквернословья родимого. Главное, не классы антагонистические, а сотрудничу… тьфу ты, дьявол!.. а сословия, которые ответственно сотрудничают и имеют свои посильные доли государственного тягла. Остальное – частности. С Западом дело иметь? Пожалуй, ибо плетнем тут не отгородишься. Но не подкладываться, как проб… кремлевская теперь, иначе без соли схавают нас, всех – богатых ли, бедных… Это, с дальним прицелом, установка наша, о ней вы еще, возможно, услышите… Вот в таком, по фене номенклатурной ботая, разрезе.
– Один в поле, говорите… что-то мало вдохновляет. А вы?
– Рядом. Как друг – если окажете честь. И, в некотором роде, куратор, поскольку уполномочен. Но, знаете, совсем не случайно из меня журналюги не вышло… злой слишком, что ли? Так этим вашего брата теперь не удивишь вроде. Да и писать по обязанности не терплю, предпочитаю экспромт… Так что думайте – вплоть до прикидок штата и сметы. И не жмитесь особо, есть возможности. Где-то на днях – извещу – встреча будет. А остальное за мной.
– Честно сказать, удивили вы меня, Владимир Георгиевич…
– А я и сам удивился, – как-то легкомысленно ухмыляясь, сказал он, сгреб шляпу со стола. – Мы ли дело ищем, оно ль нас… Но без вас и в голову бы не пришло. Вы один – газета целая, не примите за лесть… я на нее, как вы заметили, наверное, не очень-то, скорее нахамлю… Посоветовался интимно тут кое с кем – осуществимо, говорят. Но – с вами именно. Так вы – окончательно – как?
– За окончательное где поручишься? Только на могилках. А по идее… ну, белая так белая. Но с красным подбоем.
– Заметано. Спасибо, рад. Делаем?
– А что остается?..
Так – неожиданно дельно – закончился один из разговоров их, чаще всего довольно беспорядочных, от какого-то иной раз словца взнявшись, и ничем не кончающихся, по видимости откровенных, а то исповедальных почти по части мировоззренческих блужданий, блуда тоже, где парадоксы с прописями вперемешку, долгоживущие наши и оттого упрямые предрассудки с провинциального пошиба озареньями, ну и прочее такое – как оно и бывает в сужденьях малость уже помятых несообразностями жизни интеллигентов в первом поколении, в глубинке живущих, где-то у европейско-азиатского водораздела, почти доросших, как кажется, до своего потолка и уже о том начинавших догадываться.