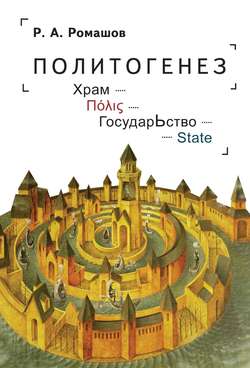Читать книгу Политогенез. Храм – Πόλις – ГосударЬство – State - Роман Анатольевич Ромашов - Страница 14
Глава 4
Государство – внешний образ и содержательная сущность
4.2. Организационная концепция понимания государства
ОглавлениеВ рамках организационной концепции государство представляет собой форму социальной организации. По мнению В. Е. Чиркина, отражающего достаточно традиционную для социально-политической и юридической науки точку зрения, государство – это особая, универсальная для данного общества организация, обладающая уникальной властью (публичной, государственной властью) и специализированным аппаратом управления обществом. Будучи неотъемлемой частью общества уже на протяжении, видимо, многих тысячелетий, государство выполняет всеобъемлющие регулятивные (а именно управленческие) функции по отношению к нему.
Представляется целесообразным рассмотрение организационной концепции понимания государства в широком и узком смыслах.
В широком смысле государство есть все политически организованное сообщество. При этом в качестве основных структурных элементов государства выступают социальные организации, осуществляющие управление (органы государственной власти); организации, обеспечивающие управленческий процесс (материальные придатки государства: силовые структуры: полиция, армия, органы государственной безопасности; государственные учреждения, осуществляющие деятельность в сфере науки, образования, медицины, социального обеспечения и т. п.); организации, являющиеся объектом управленческого воздействия (семейные и профессиональные союзы, корпорации, осуществляющие хозяйственную деятельность и т. п.).
В узком смысле государство отождествляется с аппаратом государственной власти (бюрократией) и силовыми структурами, при помощи которых осуществляется государственное принуждение. Соответственно, если брать за основу узкий подход, то получается, что на территории страны существуют и определенным образом взаимодействуют государство как аппарат (инструмент) публичной политической власти и народ как объект властного воздействия. При этом формирование структур государственной власти осуществляется по различным схемам: непосредственного и опосредованного представительства; назначения; представления кандидатуры для последующего коллективного утверждения и т. д.
Понимание государства, осуществляемое в контексте организационной концепции, базируется на двух политико-правовых фикциях:
– утверждении в качестве цели создания и функционирования государства построения «общего блага»;
– восприятии государства в качестве субъекта действия.
Прежде всего попытаемся разобраться с «государством общего блага».
Традиционно считается, что целью государства является обеспечение жизнедеятельности государственно организованного и управляемого сообщества. При этом сам факт жизнедеятельности объединенных в государство людей и есть то самое общее благо, поскольку самопроизвольное либо искусственное уничтожение социума как целого неизбежно повлечет за собой ликвидацию его отдельных составляющих. Подобный системоцентричный подход к пониманию «общего блага» был присущ ранним государствам, прежде всего античным полисам, в которых благо полиса и благо гражданина по сути своей являлись тождественными категориями.
Появление и укрепление христианской традиции, основанной на единобожии и триединстве божественного образа (Бог – отец, сын, дух) по времени совпало с переходом от архаической рудиментарной (родовой, вождеской) демократии к деспотии. При этом логическое сочетание получили теологическая, патриархальная и патримониальная концепции государства. С точки зрения теологической концепции государь получает свою власть от Бога и по сути своей является его земным воплощением. Патриархальная концепция предполагает рассмотрение государя в качестве мудрого и строгого отца «семьи народов», управляющего ею по собственному разумению и самостоятельно принимающего решения о том, что его «неразумным детям» полезно, а что вредно. Наконец, патримониальная концепция означает, что само государство (земля с ее ресурсами и народ, на этой земле живущий) является владением государя. Следовательно, государь и есть государство. «В эпоху, когда государство и форма правления совершенно не различались, понятия “государев” и “государственный” неизбежно должны были покрывать друг друга. Государство и государственный интерес мыслились не иначе как конкретно – в форме живой личности государя и государева дела».65 В Западной Европе данный тезис получил свое образное выражение в концепции «политического тела короля», предложенной английскими юристами тюдоровской эпохи. В соответствии с данной концепцией король имеет два тела, одно природное, подверженное болезням и в конечном счете смерти, а другое политическое, содержащее королевское положение и достоинство.66 Политическое тело – это тело, которое нельзя видеть и до которого нельзя дотронуться, оно состоит из политики и правления и создано для руководства народом и управления общим благом. В свою очередь, для того чтобы преодолеть противоречие между смертностью природного и бессмертностью политического тел, была использована метаморфоза возрождения птицы Феникс – с каждой смертью естественного тела очередного короля в новом короле возрождалось политическое тело государства. «Король умер, да здравствует король». Таким образом, физическая смерть государя (либо иной способ его отстранения от должности) не влияет на жизнь политического тела – королевства (государства).
В отечественной политико-правовой традиции вплоть до конца XVII в. господствовала точка зрения, в соответствии с которой характеризующая государство триада «государь – государственное управление – подданные» рассматривалась в контексте патримониальной традиции. В частности, царь Алексей Михайлович относился к стране и народу как к собственному владению, представляющему «единого государя государство».67
Однако персонификация государства и его отождествление с государем не могло не повлечь за собой расхождение в понимании общего блага. Ведь в практической жизни «общее благо», отождествляемое с благом государя, владеющего своим государством, и «благо каждого» зачастую выступали как противопоставляемые. Для большей части населения государь выступал в качестве фигуры такой же мистической и абстрактной, как и Бог. Именно с всемогуществом «царя-батюшки» связывали русские крестьяне свои чаяния относительно справедливого жизненного устройства и надежды на избавление от невыносимых «тягот земного жития». Наоборот, «государевы люди» (бюрократический аппарат) рассматривались как частные лица, отделенные от государя (а значит, и от государства) и злоупотребляющие доверием царственной особы. В восприятии простых людей не существовало понятного каждому образа государства ни в плане единой социальной организации, ни в плане целостного аппарата публичной политической власти. Государственные чиновники воспринимались в качестве государевых холопов (слуг), практически повсеместно извращающих справедливые наказы государя.
Более того, крестьяне не имели почти никакого представления об общем благе государства как социально-политического целого и, соответственно, не воспринимали данную идею с точки зрения ее субъективной ценности. Примеры масштабных крестьянских восстаний (под предводительством Болотникова, Разина, Пугачева) свидетельствуют о том, что сама идея изменения несправедливого порядка была неразрывным образом связана с идеей замены «неправильного» царя (царя – самозванца) «правильным» (законным наследником престола). При этом для большинства восставших абсолютно нежизненными были стратегические замыслы руководителей, связанные с изменением государственного устройства. Захват поместья, в котором повстанец ранее проживал, и расправа с помещиком воспринимались как достижение справедливости и, следовательно, достижение поставленной цели.
Что касается современного состояния мифа «государства – общего блага», то следует констатировать качественное изменение его сущности. Если ранее в качестве критерия отнесения той или иной ценности к числу «общезначимых» определялось благо социального целого либо благо государя, отождествляемого с подвластным государством, то в современных представлениях доминирующими выступают частные блага – права и свободы человека и гражданина. При этом общее благо выступает в качестве категории, производной от частных ценностей. Таким образом, качественно видоизменяется концепция самого государства, в котором права индивида приобретают характер абсолютной ценности, определяющей формы, методы и саму суть государственной деятельности.
Другим, не менее значимым для понимания государства в контексте организационной концепции, является миф, в котором государство рассматривается в качестве субъекта действия.
Как известно, любое действие характеризуется наличием двух составляющих: субъекта (того, кто действие производит) и объекта (на что действие направлено). В теории государства и права традиционно различаются индивидуальные и коллективные субъекты. Основным признаком субъекта является наличие у него правосубъектности потенциальной и реальной возможности своими действиями реализовать правомочия и обязательства, а также самостоятельно отвечать за негативные последствия осуществленных действий. Возникает вопрос: может ли государство рассматриваться в качестве автономного субъекта действия! На первый взгляд, ответ очевиден: конечно да. Мы в повседневной речи достаточно часто слышим и произносим фразы типа «Государство должно отвечать по взятым на себя обязательствам», «Государство гарантирует права и свободы человека и гражданина», «Государство не должно вторгаться в сферу частных интересов», «Государство определяет основные направления экономического развития» и т. п. Однако, как только мы попытаемся поставить вопрос более конкретно, окажется, что субъекта, называющегося «государство», на практике не существует.
Дифференциация понятий «аппарат государственной (публичной политической) власти» – «государство» – «народ (общество)» не позволяет рассматривать их в качестве тождественных. Прежде всего это касается аппарата государственной власти и государства. Действительно, во всех случаях, когда речь идет о требованиях со стороны общества и конкретных индивидов к государству, равно как и тогда, когда речь идет об обязательствах отдельных физических и юридических лиц, мы имеем в виду конкретные организации и конкретных должностных лиц. То же самое можно сказать об ответственности государства по взятым на себя обязательствам и совершенным правонарушениям. Так, к примеру, не вызывает сомнения тот факт, что массовые репрессии, осуществляемые в Советском Союзе в 30–50-х годах минувшего века, являлись элементом государственной политики, вместе с тем признание противоправного характера данных действий не повлекло за собой ни юридической, ни материальной ответственности государства как самостоятельного субъекта. Другой пример: в начале 90-х годов прошлого столетия страну захлестнула волна финансовых махинаций, значительную часть среди которых занимали так называемые «финансовые пирамиды» типа компании «МММ», при этом реклама данных «проектов» осуществлялась абсолютно открыто, в том числе в государственных СМИ. Для простых россиян данное обстоятельство сыграло роль немаловажного фактора, обусловившего доверие к мошенникам, долгое время действовавшим в рамках официального правового поля при фактическом попустительстве государственной правоохранительной системы. После того как деятельность структур, подобных «МММ», была признана противозаконной, государство не понесло никакой ответственности за бездействие компетентных органов, повлекшее за собой причинение значительного материального ущерба сотням тысяч российских граждан.
Таким образом, применительно к сфере внутригосударственных отношений государство не может рассматриваться в качестве субъекта действия, поскольку не могут рассматриваться в качестве тождественных конкретные государственные органы, учреждения, должностные лица и государство в целом.
На наш взгляд, логично рассматривать в качестве субъектов действия народ и аппарат публичной политической власти (государственную бюрократию).
Народ (граждане, подданные государства) выступает субъектом непосредственной демократии и в подобном статусе участвует как в формировании представительных структур государства, так и в процессе правотворческой деятельности (путем участия в референдумах). В странах современной западной демократии существует и такая форма участия народа в политической жизни, как гражданский контроль за деятельностью государственной власти. Что же касается Российской Федерации, то деятельность подобного рода, к сожалению, пока находится лишь в «зачаточном» состоянии.
Аппарат государственной власти (государственная бюрократия) в качестве субъекта осуществляет публичные властные полномочия от имени всего государственно организованного сообщества. Как уже ранее отмечалось, публичный характер действий данного субъекта, основными законными представителями которого являются единоличный глава государства (президент, монарх) либо коллективный орган (диктатура, хунта, государственный совет и т. п.), обосновывается при помощи мифа «государства – общего блага». Однако, как мы уже выяснили, понимание ценностей, на которых базируется «общее благо государства – государственного аппарата» и «общее благо государства – народа», зачастую носят не только не совпадающий, но и попросту взаимоисключающий характер.
Собственно, государство в рамках подобного подхода следует рассматривать не как субъект, а как объект воздействия как со стороны государственного аппарата, так и со стороны управляемой части сообщества.
Применительно к сфере международных отношений государство выступает в качестве коллективного субъекта, представляемого компетентными должностными лицами, прежде всего главой государства. Однако вплоть до настоящего времени не получил однозначного ответа вопрос о том, с какого момента государство может рассматриваться в качестве легального и легитимного субъекта отношений в сфере межгосударственного взаимодействия. Особое значение данный вопрос имеет для так называемых вновь образуемых государств, возникших в результате глобальных политических катаклизмов. В частности, достаточно сложно определить момент приобретения статуса субъекта действия послереволюционной Россией. С одной стороны, октябрьский переворот носил открыто противозаконный характер и, следовательно, самопровозглашенная Советская республика, не признанная до определенного периода ни одним из ведущих государств мира, не являлась субъектом международного права. Вместе с тем не могли рассматриваться в качестве таковых ни прекратившая существование в феврале 1917 г. Российская империя, ни Россия периода Временного правительства. Представляется, что статус субъекта международного права РСФСР приобрела тогда, когда новая власть обрела государственный суверенитет, т. е. доказала (путем победы, одержанной в гражданской войне и в борьбе с иностранной интервенцией) свое верховенство внутри страны, а также независимость и реальную возможность противостоять иностранной военной экспансии на международной арене. Таким образом, в международных отношениях государство будет рассматриваться в качестве субъекта только в том случае, если оно способно обеспечивать внутренний и внешний суверенитет. Последний и следует рассматривать в качестве условия правосубъектности государства в международной сфере.
65
Заозерский А. Царская вотчина в России XVII века. М.: Соцэкгиз, 1937. С. 43. Цит. по: Понятие государства в четырех языках. Сб. статей / Под ред. О. Хархордина. СПб.; М.: Европейский универститет в Санкт-Петербурге: Летний сад, 2002. С. 176.
66
См.: Канторович Э. Х. Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии. М.: Издательство Института Гайдара, 2014. С. 76.
67
См.: Понимание государства в четырех языках. С. 174.