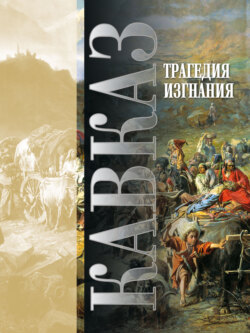Читать книгу Кавказ. Выпуск XVIII. Трагедия изгнания - Сборник - Страница 6
Адольф Берже. Выселение горцев с Кавказа
III
ОглавлениеПричины выселения горцев. – Успехи русского оружия. – Перемена системы войны. – Казачья колонизация. – Неизбежность безусловной покорности горцев. – Обольщение их собственными представлениями о могуществе и величии Турции и участии Европы
Окончание Крымской войны, как сказано выше, доставило возможность усилить военные действия, задержав на Кавказе все войска, которые были двинуты во время войны на закавказскую границу с Турцией. Назначение князя Барятинского главнокомандующим Кавказским корпусом и выбор им в начальники штаба генерала Д. А. Милютина, сумевшего централизовать все самостоятельные действия отдельных начальников и направить их на исполнение одного общего плана покорения Кавказа, содействовали окончанию завоевания края. Но едва ли все это привело бы к решительным результатам, если бы не был совершенно изменен прежний образ ведения войны и принята система водворения прочных казачьих поселений в завоеванных местах, приведенная в исполнение (с 1860 года) графом Евдокимовым.
Вот как объясняет неизбежность этой системы начальник штаба генерал Карцов в письме к управляющему Русской миссией в Константинополе[4]: «До 1860 года цель наших действий на Кавказе состояла в том, чтобы экспедициями, предпринимавшимися в места, занятые горцами, наносить им возможно частые поражения и, убедив их в превосходстве наших сил, заставить изъявить покорность. Результатом этих экспедиций было то, что ближайшие к нам общества, жившие на равнинах, то покорялись, то снова восставали и постоянно нас грабили, сваливая вину на соседей, живших выше их в горах. В минувшую (Крымскую) войну все общества, бывшие покорными, одновременно восстали, и пришлось снова покорять их.
Стало очевидно, что при дальнейших действиях по прежней системе, на каких бы условиях ни покорялись нам горцы, покорность эта продолжалась бы только до тех пор, пока они сами желали бы соблюдать ее, а первый выстрел на Черном море и даже какое-нибудь вымышленное письмо султана или прибытие самозванца-паши снова могли бы возбудить войну. Если даже мы заняли бы горы укреплениями и провели бы к ним дороги, то все-таки приходилось бы постоянно держать в горах огромное число войск и не быть покойным ни одной минуты.
Вследствие этого осенью 1860 года решено было прекратить бесполезные экспедиции и приступить к систематическому заселению гор казачьими станицами; горцев же выселять на плоскость, подчиняя тем нашему управлению»[5].
Предложенный графом Евдокимовым план бесповоротного окончания Кавказской войны уничтожением неприятеля замечателен глубиною политической мысли и практической верностью. Нельзя не признать, разбирая историю Кавказской войны, что военные экспедиции причиняли большие расходы людьми и деньгами и что прочное водворение русской власти на Кавказе могло распространяться только благодаря колонизации. Самые блистательные подвиги наших генералов и изумительный героизм и самоотвержение не оставили ничего, кроме славных страниц в истории. Ужас, внушаемый экспедициями непокорным племенам, проходил очень скоро: они отдыхали от понесенных потерь, восстанавливали трудом все истребленное огнем и мечом и вновь готовы были вступить в бой с нашими войсками, пополненными новыми рекрутами из России. Но там, где за военным набегом следовало прочное водворение, там русское владычество оставалось навсегда. Не было примера, чтобы поселение, основанное на земле непокорных горцев, было оставлено нами: как ни трудно было жить в нем, но эти трудности преодолевались назначением гарнизонов в опасные места и движением войск вперед, для покорения новых мест, обеспечивавших занятый пункт.
Эта система практиковалась с первого появления русских на Тереке, в 1567 году, но она практиковалась в силу необходимости, не как цель, а как неизбежное последствие необходимости обеспечить границу. Только в новейшее время, с 1769 года, начата искусственная колонизация с целью водворения русского владычества поселением по повелению императрицы Екатерины II 517 семей волжских и 100 семей донских казаков на реке Терек, которым и повелено именоваться Моздокским полком. В 1792 году переселено также по повелению той же императрицы 3 тысячи семей донских казаков в Черноморье и водворено здесь войско Черноморское. Этих примеров совершенно достаточно, чтобы показать, что система колонизации для прочного покорения Кавказа не только была давно известна, но и практиковалась в больших размерах во время Кавказской войны. Тем не менее заслуга графа Евдокимова нисколько не уменьшается. Колонизация, представляя сложную и трудную государственную меру, по своему гражданскому характеру требует много усилий со стороны администрации и имеет очень мало шансов для наград, которые так легко достаются во время военных действий. Оттого колонизация как система покорения Кавказа, предоставляя все будущему и не представляя блистательных отличий в настоящем, никогда не отличалась сочувствием боевых кавказских генералов. Все они, пользуясь разъединенностью различных частей Кавказа, постоянно предполагали экспедиции, преследовали хищников за набеги и составили славную эпопею Кавказской войны, но редко кто из них думал о гражданском устройстве занятого края и о его будущем. Солдатские слободки при гарнизонах укреплений возникали сами собой вследствие необходимости, но на них меньше всего обращалось внимания. Да и до сих пор нельзя не сознаться, еще не сделано ничего, чтобы поднять умственный и нравственный уровень населения этих зачатков русских городов и ускорить развитие его материального благосостояния. Князь Барятинский и граф Евдокимов – оба составили себе карьеру на Кавказе и знали все недостатки и весь вред разъединенности и бесцельности военных действий отдельных начальников по их собственному почину. Оба они одинаково ясно понимали, что после Крымской войны наступило самое благоприятное время для окончания Кавказской войны, и потому совершенно естественно, что предложенная графом Евдокимовым система действий заслужила одобрение князя Барятинского. Двадцать четвертого июня 1861 года состоялся высочайший рескрипт об увеличении льгот и пособий казакам Кубанского казачьего войска, переселяющимся на передовые Линии, а 10 мая 1862 года уже было высочайше утверждено положение о заселении предгорий западной части Кавказского хребта кубанскими казаками и другими переселенцами из России.
Исполнение этого плана начато еще ранее. В конце 1857 года переселена графом Евдокимовым часть населения Большой и Малой Чечни на новые, указанные ей места и в том же году заложена станица Родниковская на Большой Лабе. В мае 1858 года заложено 6 новых станиц Урупской бригады на реках Уруп, Тегене и Большой Зеленчук, и затем закладка их продолжалась постепенно, по мере движения наших войск вперед.
Взятие в плен Шамиля 25 августа 1859 года позволило ослабить военные действия на Восточном Кавказе и сосредоточить все внимание на окончательном покорении Западного Кавказа, который получил особенное значение после Крымской войны, указавшей, что северо-восточный берег Черного моря может быть избран для десанта неприятелем и потому прочное его занятие необходимо в интересах обеспечения всего Кавказа. Уничтожение нашего Черноморского флота и стеснительные условия Парижского трактата не дозволили нам, как это было прежде, базироваться на Черном море и неизбежно заставили признать правильность плана, задуманного графом Евдокимовым: базироваться при покорении Западного Кавказа на Кубанское казачье войско и линиями новых поселений стеснять постоянно горские племена до полной невозможности жить в горах. Поэтому мы только заняли со стороны Черного моря на юге Сухум и Гагры, необходимые для владения Абхазией, а на севере – Анапу и Новороссийск и затем усиленным крейсерством и частыми десантами беспокоили непокорные прибрежные племена; главные же военные действия происходили на северном склоне Кавказского хребта, где наши войска систематически продвигались вперед, опираясь на существующие поселения и устраивая новые Линии. При самом начале исполнения этого плана горцы поняли, что их ожидает, и вследствие этого в 1861 году три главных из племен: шапсуги, абадзехи и убыхи – составили союз, отправили депутацию к государю императору и предлагали покорность с разными условиями. Но от них потребовали безусловной покорности и прямо объявили, что они должны выселиться из гор. Горцы взялись за оружие и весь 1862 год напрягали все усилия, но не могли остановить движение наших колонн от Анапы к востоку и от Лабы к западу, и вытесненное отсюда население в числе 50 тысяч душ, изъявив безусловную покорность, поселилось на Кубани и при устьях рек, в нее впадающих[6].
Таким образом, военные успехи наши привели горцев к неизбежной покорности. Они, конечно, покорились этой тяжкой участи, несмотря на привычку к полнейшей свободе и своеволию, если бы их не сбивали с толку европейская и турецкая дипломатии. Им столько веков внушали, что могущественный султан, верховный представитель ислама, никогда не оставит их своею помощью, а европейские державы в своих интересах не могут допустить России овладеть Кавказом, что такое убеждение не в силах была поколебать самая очевидность фактов. Горцы видели невозможность противостоять русским, но свято верили в близость внешней помощи. Граф Евдокимов глубоко и верно оценил такое настроение их и те бесполезные кровавые жертвы, к которым вело оно, и придумал очень правильный исход из этого трудного для обеих сторон положения – именно выселение в Турцию.
«Такая мера, – писал он начальнику штаба Кавказской армии, – при настоящем положении туземцев принесет нам великую пользу и даст возможность как горцам выйти из настоящего их напряженного положения, так и нам более свободно развивать русскую колонизацию в предгорьях западной части Кавказского хребта»[7].
Мысль графа Евдокимова получила первое приложение при покорении Восточного Кавказа. Покойный фельдмаршал князь Барятинский разделял его основательность, и еще весною 1860 года предполагалось направить в Турцию, через Кавказский край, 300 семей с Левого фланга.
Дабы ускорить вопрос о переселении горцев и устранить затруднения со стороны Турции, в 1860 году был послан в Константинополь генерал-майор Михаил Тариелович Лорис-Меликов. Ему было поручено разъяснить нашему поверенному князю А. Б. Лобанову-Ростовскому те затруднения, в которые мы могли быть поставлены, если бы Порта отказалась принять переселенцев.
Генерал М. Т. Лорис-Меликов превосходно исполнил это поручение и вместе с князем Лобановым-Ростовским выхлопотал у Порты дозволения прибыть 3 тысячам семействам, которые Турция обязалась поселить вдали от наших пределов. После того переселение продолжалось в 1860, 1861 и 1862 годах, не возбуждая дипломатической переписки.
Впрочем, отправление этих семейств через Закавказье было отменено, и вслед затем главнокомандующий совсем воспретил переселение с Восточного Кавказа, дозволив его только с западной его части.
Что касается Порты, то она никогда не изъявляла прямого согласия на переселение, хотя принимала горцев, уходивших с Кавказа под предлогом поклонения гробу Мухаммеда. В 1859 году она обнародовала правила по предмету колонизации кавказских выходцев и просила наше правительство, чтобы переселения эти совершались не разом, а малыми партиями[8].
Тем не менее турецкое правительство и его эмиссары не переставали волновать горцев обещаниями всех благ в случае переселения, так как вначале, предполагая, что это переселение будет совершаться постепенно и не потребует особых усилий и средств, правительство смотрело весьма благоприятно на прилив горцев в Турцию, как на меру, доставлявшую ей прекрасные боевые силы и средства увеличить преобладание мусульманского населения в среде христианских племен Балканского полуострова и в Малой Азии[9].
С другой стороны, и главное кавказское начальство не желало лишиться энергического и многочисленного населения. Кроме того, явилось опасение, что турецкое правительство поселит горцев вдоль закавказской границы и создаст тем большие затруднения в будущем[10].
«Переселение непокорных горцев в Турцию, – писал граф Евдокимов, – без сомнения, составляет важную государственную меру, способную окончить войну в кратчайший срок, без большого напряжения с нашей стороны; но, во всяком случае, я всегда смотрел на эту меру, как на вспомогательное средство покорения Западного Кавказа, которая дает возможность не доводить горцев до отчаяния и открывает свободный выход тем из них, которые предпочитают скорее смерть и разорение, чем покорность русскому правительству. По моему мнению, сколько бы ни вышло от нас туземцев и где бы ни поселило их турецкое правительство, хотя бы на южной границе в соседстве закавказских провинций, они не могут нам принести существенного вреда. Неприязненные их действия против нас могут иметь место только при войне с Турцией, но и тут горцы, поставленные в иные условия жизни и оскудев в материальных средствах, не составят для нас грозной силы, которая вынудила бы прибегать к каким-нибудь усиленным мерам»[11].
Вследствие этого письма и имея в виду, что всякое противодействие намерению горцев переселиться при том крайнем положении, в которое они поставлены действиями наших войск, было бы в отношении к ним только излишней жестокостью, князь Орбелиани разрешил переселение, причем, приняв в соображение, что оно может достигнуть значительных размеров, сообщил об этом нашему послу в Константинополь для устранения затруднений, которые Порта могла бы противопоставить переселению[12].
Это было действительно необходимо, так как до сих пор, если Порта и возбуждала жалобы на выселение горцев с Кавказа в Турцию, то ввиду того, что переселялись отдельные семейства и общества, уходившие под предлогом путешествия в Мекку, все такие жалобы устранялись под предлогом веротерпимости, в силу которой мы не могли воспретить мусульманам исполнять их религиозный долг. Но когда выселение предполагалось целыми племенами и размеры его было трудно предвидеть, то и политическая предусмотрительность, и человеколюбие одинаково обязывали нас предупредить Порту об ожидаемом наплыве переселенцев.
«Командующий войсками в Кубанской области граф Евдокимов, – писал генерал Карцов к нашему поверенному в Константинополе, – доносит, что на северном склоне Кавказского хребта нет более неприятелей. Шапсуги частью переселены на Кубань, остальные, до последнего человека, выселились на юго-западный склон. Абадзехи, стесненные с двух сторон, изъявили совершенную покорность. Теперь войскам нашим предстоит очищать береговую полосу. Одна часть их, поднявшись вверх по Пшишу, уже стала на вершине хребта, разрабатывает дорогу и спускается в Туапсе; другая колонна, поднявшись на хребет от укрепления Григорьевское, начала спускаться к устьям реки Джубгы.
Задача Кавказской армии близится к концу. Стесненные в узкой прибрежной полосе горцы при дальнейшем наступлении войск будут поставлены в отчаянное положение. Немногие из них могут согласиться покинуть живописную природу родины, чтобы переселиться в Прикубанскую степь. А потому, в видах человеколюбия и в видах облегчения задачи, предстоящей нашей армии, необходимо открыть им другой выход – переселение в Турцию. Мы опасаемся затруднений со стороны турецкого правительства против такой высылки народа целыми массами, тем более что горцы хотят ехать только в два пункта: Константинополь и Трепизонд; других мест они не знают и знать не хотят».
Вопрос о выселении горцев подвергся в Константинополе обсуждению совета министров, и решение его сообщено через нашего поверенного в делах при Порте Оттоманской: «Турецкое правительство не отказывалось принять в свои пределы кавказских горцев, желающих переселиться массами. Но при этом оно считало необходимым: 1) чтобы Константинополь и Трепизонд не были единственными пунктами сосредоточения и водворения переселенцев, турецкое правительство предоставляло себе право избрать места для их водворения и 2) чтобы Порте был дан срок до мая 1864 года.
Не могу скрыть, – писал далее Новиков, – что весь план выселения горцев в Турцию приводит здешнее правительство в большое смущение»[13].
Смущение это охватило не только Турцию, но и европейскую дипломатию, особенно французскую, созидавшую планы противодействия России при возбуждении горцев. Действительно заседание совета турецких министров было в том же году, как совершена при содействии Наполеона III пресловутая экспедиция Лапинского, которая достигла результатов, совершенно обратных предполагаемым.
«Известие о сделанной в земле убыхов высадке и доставленных туда запасов оружия, – писал генерал Карцов Новикову, – быстро разнеслось между горцами и в первую минуту оживило их надежды при внешней помощи на успех сопротивления. Но потом они скоро поняли действительное значение доставленной помощи и потому признали за лучшее просить пощады»[14].
«Турки знают об успехах нашего оружия, – писал Новиков к генералу Карцову, – иностранные представители молчат, но английская колония относится с завистью и недоброжелательством к нашим успехам»[15].
В депеше от 4 (16) мая 1864 года вице-канцлеру Новиков подробно описывает свой разговор с французским посланником маркизом де Мутье (Marquis de Moustier) при посещении турецкого министра иностранных дел Али-паши и делает такое заключение: «Видимо, что покорение Кавказа произвело сильное и неприятное впечатление на французское правительство. Франция огорчается не уничтожением преграды между нами и Турцией, а тем, что мы получили возможность противодействовать ее завоевательным стремлениям на Востоке. Она сожалеет о благоприятных шансах диверсии на Кавказе для восстановления независимости Польши, при содействии Турции, увлеченной против России. Все эти иллюзии теперь очевидно уничтожены».
Впрочем, как турецкой, так и европейской дипломатии только и оставалось смущаться и огорчаться успехами нашего оружия. Если они не могли воспрепятствовать самому процессу завоевания, то, естественно, вековые усилия России должны же были привести к неизбежному концу – и завоевание Кавказа сделаться совершившимся фактом. Сожалеть должно только о самих горцах, которые обманывали себя так долго ложными надеждами на чужую помощь и не подчинились исторической необходимости поступиться своеволием для мирного восприятия гражданственности. Всегда и везде мелкие полудикие народности поглощались более сильными народами и если утрачивали при этом национальные особенности и обычаи, то зато получали право на умственное и нравственное развитие и приобретали более высокую степень материального благосостояния. Так было бы и с горскими племенами Кавказа без участия в их судьбе Турции и европейской дипломатии, которые только и могли усилить их настоящие потери и страдания и приготовить в будущем совершенное исчезновение их как отдельных племен и народностей.
4
II главу см.: Русская старина. 1881. Т. 33. С. 167–176. Янв.
5
Письмо генерала Карцова управляющему Русской миссией в Константинополе от 23 августа 1863 года № 17.
6
Письмо генерала Карцова управляющему Русской миссией в Константинополе от 23 августа 1863 года № 17.
7
Письмо графа Евдокимова генералу Карцову от 25 июля 1862 года № 40.
8
Отзыв князя А. Б. Лобанова-Ростовского от 15 декабря 1859 года № 389.
9
Депеша Новикова вице-канцлеру от 14 (26) апреля 1864 года № 63.
10
Письмо командующего армией князя Орбелиани графу Евдокимову от 11 сентября 1862 года № 2065.
11
Письмо графа Евдокимова генералу Карцову от 5 сентября 1862 года № 1064.
12
Письмо генерала Карцова Новикову от 19 октября 1863 года № 8.
13
Письмо Новикова генералу Карцову от 23 ноября (5 декабря) 1863 года.
14
Письмо генерала Карцова Новикову от 19 октября 1863 года № 8.
15
Письмо графа Новикова генералу Карцову от 5 (17) апреля 1864 года.