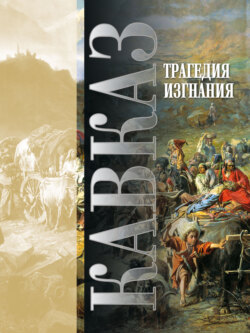Читать книгу Кавказ. Выпуск XVIII. Трагедия изгнания - Сборник - Страница 9
Адольф Берже. Выселение горцев с Кавказа
VI
ОглавлениеВыселение горцев с Восточного Кавказа. – Чечня. – Население. – Экспедиции в Чечню. – Наше положение на Восточном Кавказе в эпоху, предшествовавшую выселению горцев. – Предположение графа Евдокимова к обеспечению спокойствия в Чечне. – Восстание в Ичкерии и Аргунском округе. – Князь Святополк-Мирский и его система действий. – Учение зикр. – Станица Датыхская. – Два способа разрешения чеченского вопроса
1864 год
Обращаясь к выселению горцев с Восточного Кавказа, мы должны остановиться прежде всего на Чечне, как на том именно районе, который лишился наибольшего процента своего населения.
Под именем Чечни, составляющей, по последнему административному делению Северного Кавказа, часть Терской области, подразумевается все пространство между течением реки Аксай, горами Малой Чечни (последними террасами Главного хребта) и рекой Терек. Разделяясь рекою Гойта на Большую и Малую, она представляет местность частью плоскую, частью покрытую горами и обширными девственными лесами. Плоскость ее имеет приблизительно длины от подошвы Качалыковского хребта на запад до аула Газин-юрт, на реке Фартанга, 70 верст; ширина – от конечных уступов Черных гор с юга до реки Сунжа на север – средним числом 40 верст, а всего 2800 кв. верст. Все это пространство населено чеченским народом, заключающим в себе следующие племена:
а) назрановцев, или ингушей (они сами себя называют ламур, от слова лам – гора), обитавших на низменных местах, орошаемых реками Камбилейка, Верхняя Сунжа и Назрановка, по течению этих рек до впадения реки Яндырка в Сунжу и на Терской долине;
б) карабулаков. Они населяли равнину, орошаемую реками Асса, Сунжа и Фартанга, по течению которых и были расположены их аулы;
в) галашевцев – по рекам Асса и Сунжа;
г) джерахов – по обоим берегам Макалдона;
д) кистов – по ущельям рек Макалдон и Аргун;
е) галгаев – у верховьев реки Асса и по берегам реки Тоба-чоч;
ж) цоринцев – в верховьях восточного истока реки Ассы;
з) ако, или акинцев, – по берегам Ассы, Сунжи и Гехи;
и) пшхоев, или шопоти, – около истоков реки Мартан;
й) шубузов, или шатой, – по Аргуну;
к) шаро, или киалал, – по верховью Шаро-Аргуна;
л) джан-бутри, чабирлой и тат-бутри – по Аргуну;
м) ичкеринцев (нахчой-мохкхой) – по верховьям рек Аксай и Хулхулау;
н) качалыков – по северному скату Качалыковского хребта;
о) мичиковцев – по Мичику;
п) ауховцев – по верховьям рек Акташ и Ярык-су;
р) сунженских чеченцев – по Сунже, между Аргуном, Гудермесом и Ассой;
с) брагунских чеченцев – по правому берегу Терека, при впадении в него Сунжи.
Но деление это самим чеченцам неизвестно. Они называют себя нахчуй (в единственном числе нахчуо, то есть народ), и это относится ко всему народу, говорящему на чеченском языке. Упомянутые же названия перешли к ним от аулов или от рек и гор, по которым расположены их аулы.
В нашей отечественной истории имя чеченцев впервые встречается в 1708 году, а именно в «договорной статье калмыцкого Аюки-хана, учиненной на реке Ахтубе с ближним министром, казанским и астраханским губернатором Петром Апраксиным о вечном и верном Российскому государю со всеми улусами подданстве, о всегдашнем при Волге кочевании, о защищении низовых городов от всех неприятелей, о неперехождении ему на горную сторону реки Волги, об удержании Чеметя и Мункотемиря от набегов и о преследовании чеченцев и ногайцев»[54].
Для усмирения чеченцев предпринимаемы были еще со времен Петра Великого экспедиции, из которых особенно замечательны походы 1718 и 1722 годов донских казаков на Сунжу и Аргун; в 1758 году ходили к ним и регулярные войска, а в 1770 году генерал де Медем покорил сунженских чеченцев, взяв у них аманатов. Движение отряда нашего в 1785 году, предпринятое для усмирения чеченцев, взволнованных тогда Шейх-Мансуром, не имело успеха. Генералу Булгакову удалось покорить некоторые их общества, а А. П. Ермолову привести их к покорности, но в 1840 году они снова восстали и в течение почти 20 лет вели против нас ожесточенную борьбу, пока, наконец, в 1859 году не сложили окончательно оружие.
С дальнейшим положением Чечни и вообще всего Восточного Кавказа в эпоху, предшествовавшую выселению горцев, мы познакомимся из помещаемой вслед за сим записки, представленной в 1864 году помощником главнокомандующего Кавказской армией военному министру и составляющей часть бывшего в моем распоряжении материала, которым я воспользовался в самых широких размерах.
«Западный Кавказ заселением гор русскими станицами был поставлен в положение, совершенно обеспеченное. На 100 тысяч горцев, выселенных на плоскость и разобщенных друг от друга, мы имели 220 тысяч казаков, также вооруженных и также воинственных; следовательно, при нужде можем вовсе обойтись без войск.
Совершенно в ином положении находимся мы на Кавказе Восточном. Восьмисоттысячное горское население Терской и Дагестанской областей составляет тут почти сплошную массу. Масса эта занимает местность, самую неприступную из всех, какие только обитаемы человеком. Проникнутая мусульманским фанатизмом, распаленным продолжительной войной, она продолжала ненавидеть нас, как недавних еще заклятых врагов, как неверных, и будет сохранять это чувство, до тех пор пока мы останемся в ее глазах гяурами[55]. Чтобы мы ни делали для горцев, как бы ни благодетельствовали их нашим управлением, всякое добро, им сделанное, они будут принимать, как ненавистный дар гяура. Никакие самые мудрые законы, никакая самая искусная администрация не в состоянии изменить этих отношений, до тех пор пока цивилизация не ослабит фанатизма горцев и экономическое развитие не разовьет в них новые потребности жизни. Мы должны стремиться к этому и стремиться сколько можем. Но до тех пор, пока цель эта не достигнута, мы только силой можем сдерживать вражду. Дороги, которые мы прокладываем, укрепления и штаб-квартиры, которые строим, – все это служит только для удобнейшего приложения силы к месту действия, для того чтобы в случае нужды войска наши могли удобнее проникнуть в ту или другую часть края. Без войск, достаточных для действия, все эти средства останутся мертвыми и война, пять лет назад оконченная, может возобновиться в прежних размерах, с прежней силой.
Управляя горцами человеколюбиво, принимая все меры к постепенному образованию их и к улучшению материального быта, мы должны зорко следить за ними и держать в постоянной готовности такие силы, которые могли бы подавить при самом начале всякую попытку к восстанию. Малейшая неудача и даже промедление в наказании виновных может отразиться на всем крае самым гибельным образом.
Но не все части Восточного Кавказа одинаково нам враждебны, и одинаково для нас опасны, следовательно, и не все они требуют одинаково строгих мер предосторожностей. В западном отделе Терской области разноплеменность населения, давняя привычка к русскому управлению, а частью и разность религий населения делают власть нашу почти упроченной; тут возможны только частные мелкие беспорядки. В округе Кумыкском и свойство местности, повсюду ровной, и материальный быт народа, достигший под нашим управлением весьма значительной степени благосостояния, также устраняют опасность восстания.
Дагестан уже находится в ином положении. Искони воинственное и фанатическое население его ненавидит нас, может быть, более, чем кто-нибудь. Скудная, суровая природа страны подает мало надежды на развитие материального быта населения и на смягчение нравов его. Но эта же природа и сложившийся под ее влиянием быт народа облегчает нам управление этим краем и удерживает его в повиновении. Она приучила дагестанцев к труду. Здесь, на скалистых, безлесных горах, каждый клочок земли, способный к обработке, добыт трудами поколений, передается из рода в род и составляет единственное обеспечение существования семьи. Дагестанец дорожит этим достоянием и местом, в котором родился, более всего на свете. По ограниченности мест, сколько-нибудь удобных для жизни, дагестанцы искони привыкли жить большими аулами, привыкли дорожить семейными связями и общественными отношениями, сознали необходимость порядка и власти. По всем этим причинам, никак не рассчитывая на преданность нам дагестанского народонаселения, мы можем, по крайней мере, надеяться, что без важных побудительных причин, без видимых вероятностей успеха, восстания в Дагестане не произойдет.
К сожалению, ни одной из тех причин, которые упрочивают нашу власть в Дагестане и в двух крайних отделах Терской области, не существует в среднем отделе сей последней, населенном чеченским племенем. Тут все сложилось против нас: и характер народа, и общественный быт его, и местность. От природы восприимчивый и до крайности легкомысленный характер этого народа при всяких, даже благоприятных, обстоятельствах представлял бы большие затруднения для того, чтобы управлять им. Продолжительная война, которую чеченцы вели с нами, не возвысила и не улучшила их характера; поставленные между ударами наших войск и деспотической властью Шамиля, не имея сил ни защищаться от нас, ни свергнуть иго шамилевского управления, чеченцы в течение 20 лет старались только о том, чтобы увертываться от грозивших опасностей, употребляя и свое оружие, и разные ухищрения то против одной, то против другой стороны и всегда друг против друга. В этой двойной войне и усобице они утратили почти всякое понятие о долге, об уважении к собственности, о святости данного слова. Привычка к опасностям и к хищничеству развилась в них до такой степени, что сделалась почти потребностью. В течение 20 лет ни один из чеченских аулов не был уверен в том, что он останется на месте до следующего дня: то наши колонны истребляли их, то Шамиль переселял на другие места по мере наших движений. Благодаря необычайному плодородию почвы, народ не погиб от голода, но потерял всякое понятие об удобствах жизни, перестал дорожить своим домом и даже своим семейством. К жизни общественной чеченцы и прежде были мало способны. Демократизм у них всегда был доведен до крайних пределов; не только понятия о сословиях и власти наследственной, но и понятия о какой бы то ни было власти почти не имели. Даже в языке чеченцев нет слова «приказать». Шамиль, несмотря на важную опору, которую представлял ему религиозный фанатизм, никогда не считал свою власть в Чечне довольно прочной и поддерживал ее только страхом казней, периодически повторявшихся против всех, кто навлекал на себя малейшее его подозрение.
54
См.: Полное собрание законов Российской империи. Т. 4. С. 2207.
55
Гяур – неверный.