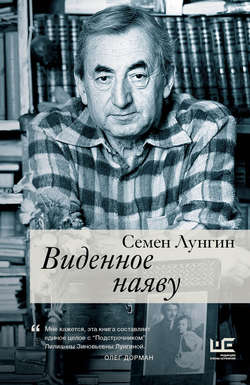Читать книгу Виденное наяву - Семен Лунгин - Страница 6
Немного о магии театра
О том, как я понял, что нам ничего не остается, как только верить на слово свидетелям
ОглавлениеУ нас дома была дореволюционная пластинка фирмы «Граммофон» с записью монолога Марии Тюдор в исполнении М. Н. Ермоловой. К сожалению, пластинка эта пропала. Так вот, что-либо более удручающее, чем это «остановленное мгновение», чем этот тремолирующий голос контральтового тембра, мне, пожалуй, редко доводилось слышать. А ведь моя бабка, для которой Ермолова – ее крылатая юность, вся трепетала при воспоминании о том, как вдохновенно играла Мария Николаевна Марию, и, когда у нас заводили граммофон, я видел, что в глазах моей бабки начинали сменять друг друга тени воспоминаний, и даже выражение лица у нее делалось такое, каким оно бывает только в театре. А я при всем старании фантазией своей хоть немного скрасить огорчительное впечатление от этой граммофонной записи ничего, кроме механического пустозвучания, расслышать не мог. Не раз я заводил эту пластинку своим друзьям, пытливо вглядывался в их лица и видел, что им тоже безнадежно скучно.
Я вспоминаю, как на пушкинском юбилее, кажется, в 1949 году, А. А. Остужев читал «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», как это было замечательно-возвышенно и наивно-звонко, как лучились его глаза, как руки его жили своей особой, словно подчеркнутой, жизнью, как седой хохол дрожал над бледным челом его, как старомодно был завязан на нем галстук, какой чистотой и благородством веяло от всего облика этого великого артиста, каким искренним волнением от «Памятника» и восхищением перед Пушкиным он был озарен. И много лет спустя в одной радиопередаче я снова услышал запись того самого концерта, немыслимый остужевский голос. Я закричал на весь дом, сзывая своих сыновей, чтобы они восхитились вместе со мной остужевским чтением и разделили мою радость свидания с давно покинувшим наш мир артистом… И что же? Да ничего… Иронические улыбки и переглядки. Все им казалось пустым, вычурным, нарочитым, а у меня голос пресекали восторженные ностальгические слезы…
А как было с Яхонтовым, который в годы моей юности просто-напросто формировал вкус всего нашего поколения? Вкус к театру. Эх, да что говорить!.. Помните – те, кто могут это помнить, – как Яхонтов читал «Медного всадника»? Как он в сцене безумия Евгения воздымал над головой согнутую в локте руку так, что напряженная пятерня зависала над его головой, как он в неподдельном страхе вскидывал глаза и видел над собой не руку, нет, но взметнувшееся копыто гигантского коня, как он в отчаянье стремился укрыться от удара смертоносной подковы, как он втягивал в плечи беззащитную свою голову, как старался оборонить ее другой рукой… И куда бы он ни двигался, копыто нависало над ним.
Боже, как все это было точно и устрашающе! Слиянность звучащего пушкинского слова с искусством артиста, пробуждение ассоциативного дара зрителей. Эффект получался удивительный. Вздыбленный чудовищный конь и, словно воплощенный страх, согбенный маленький человечек…
Когда я вернулся домой и, подстегнутый бесом подражания, перед зеркалом по-яхонтовски поднял над головой напряженную, согнутую в локте руку, нацелил растопыренные пальцы в темя и вскинул вверх глаза, впечатление, представьте, было то же – тяжелое копыто, зависшее над моей головой, казалось, вот-вот опустится, оно угрожало мне.
Но и Владимир Николаевич Яхонтов, наш кумир тех незабвенных довоенных лет, с его юной живой мыслью, с жестом-метафорой, со всем его неповторимым театром, владевшим умами целого поколения, тоже ушел вслед за другими крупнейшими артистами в царство великих теней. И нашим детям и внукам ничего не остается, как только поверить Н. Крымовой, написавшей монографию о Яхонтове. А я, живой свидетель почти всего, о чем там написано, готов им, скептикам, подтвердить, что все это правда.
Эту невозможность сохранить во времени великие создания великих артистов, я особенно остро пережил, когда готовился к работе над сценарием о Вере Федоровне Комиссаржевской. Я, конечно, прекрасно понимал, что театральный образ перестает существовать, как только кончается спектакль, но одно дело знать это в общем смысле, а другое – лично с этим столкнуться. И я был поражен, что, пересмотрев груду материалов, рецензий, мемуаров, написанных, к слову сказать, часто вполне художественно, и обладая известной фантазией, я все же оказался решительно не в состоянии представить себе живую игру Веры Федоровны. Но еще больше поразило меня, что и сама Вера Федоровна об этом много думала. Она знала, пожалуй, как никто другой, что ее создания, обладающие, по свидетельству современников, неслыханной силой воздействия, сохраняются лишь в памяти людей, смертных, как и она, и память их уйдет вместе с ними.
Я пытался представить себе, как Вера Федоровна произносит монолог в «Чайке» или «Бесприданнице» – мне ведь стоило прикрыть глаза, и я четко видел Хмелева в роли Каренина или Яншина в роли сэра Питера Тизла, – но тут мое внутреннее зрение не включалось, воображение отказывало. И множество известных мне фотографий из сборника «Солнце России» я никак не мог оживить.
Так я на собственном опыте убедился, что тривиальная истина не перестает быть истиной: да, театральный образ умирает навсегда. Тому, кто сам не видел великого артиста, ничего не остается, как поверить на слово счастливцам, которым довелось его видеть. И мне показалось, что я понял тогда – почему. Потому что все мгновения театра либо в будущем (вот-вот! сейчас-сейчас…), а значит, еще не существующие, либо свершенные, то есть уже не существующие, а промежуток между еще не и уже заполнен не впечатлением, которое можно законсервировать в памяти, но ожиданием впечатления, то есть не столько театральным фактом, сколь твоим личным состоянием. И стоит хоть на миг замереть, остановиться мгновению театрального прекрасного, как тут же теплокровное искусство актера превращается в некий муляж человеческих страстей.
Ну а как же, допустим, Высоцкий? – спросите вы.