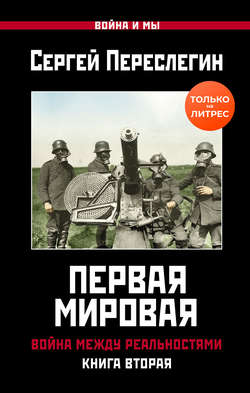Читать книгу Первая Мировая. Война между Реальностями. Книга вторая - Сергей Переслегин, Сергей Переслегин - Страница 4
Интермедия 1: «море» и «суша»
Стратегия морской силы: управление пространством
ОглавлениеВойна на море сложнее сухопутного конфликта, потому красивых «учебных» примеров здесь почти нет. Прежде всего, такая война носит многоуровневый характер, и ее предпосылками являются развитая мировая торговля и выраженное господство на море одной державы.
Собственно, это и есть первый уровень стратегии. В отсутствие мировой торговли морская мощь бессмысленна и бесплодна. Суть дела состоит в том, что международная торговля во все эпохи носит преимущественно морской характер. Ни караваны «шелкового пути», ни современная авиация не способны справиться с объемом перемещаемых между странами грузов. Морские перевозки требуют избытка коммерческих судов. Эти суда приносят деньги и сами по себе (фрахт, торговая прибыль), и через формирование открытых экономик с высокой нормой прибыли.
Почти всегда львиная доля международных коммерческих перевозок выполняется судами, принадлежащими одной стране. В действительности, это и есть господство на море.
Страна, обладающая господством на море, может исключить своего противника из системы международной торговли. Если у него открытая экономика, это сразу приводит к разрушению кооперативных связей и промышленному кризису. Уровень жизни падает немедленно, военное производство – чуть позже. Страна проигрывает из-за открытости своей экономики, то есть прямой зависимости от международной торговли.
Если противник добился автаркии, то у него преобладают хозяйственные, а не экономические механизмы[1]. В этом случае он проигрывает из-за нехватки ресурсов и меньшей эффективности закрытой экономики по сравнению с открытой. События развиваются медленнее, но в конечном итоге результат тот же: падение уровня жизни если не абсолютное, то относительное[2], и военное отставание.
Таким образом, первым уровнем морской стратегии является обеспечение положения мирового перевозчика, то есть создание преобладающего коммерческого флота.
Но у статуса «мирового перевозчика» есть свои минусы. Прежде всего, его экономика с неизбежностью избыточно открыта. Поэтому действия, направленные против его торговли (контрблокада, крейсерская война), создают непропорционально высокие риски.
Такие действия в мирное время являются пиратством, в военное – каперством. Здесь нужно заметить, что пиратство в тех или иных формах всегда является теневой стороной морской торговли.
До середины XIX столетия не было особой разницы между пиратскими кораблями и военными кораблями, предназначенными для ведения крейсерской войны, более того, пираты в военное время просто поступали на соответствующую службу, получали каперский патент и продолжали заниматься привычным делом уже на законном основании.
Понятно, что угроза морской торговле вынуждает мирового перевозчика ее защищать. Он строит собственный крейсерский флот. Причем требуется избыточность: нужно прикрыть все возможные направления действия неприятельских каперов. Великобритания в годы, предшествовавшие Первой мировой войне, предполагала иметь в отдаленных водах не менее двенадцати станций со ста двадцатью крейсерами, на них базирующимися. Считалось, что это количество сможет защитить английское судоходство от немецких рейдеров, количество которых в море оценивалось, самое большое, в двадцать кораблей[3].
Далее возможны варианты.
Действуя с позиции силы, «защитники торговли» уничтожают неприятельские рейдеры или оттесняют их с маршрутов океанской торговли. Господство на море полностью сохраняется.
Если сильнейшей стороне не удается достигнуть такого результата, приходится прикрывать торговые суда крейсерским сопровождением. Для этого нужно переходить к системе конвоев. Конвоирование резко снижает потребность в военных кораблях, но при этом падает трафик. Конвои формируются сравнительно медленно, и торговые суда вынуждены простаивать в портах, иногда месяцами, скорость конвоя меньше скорости самого медленного корабля, кроме того, грузы начинают поступать в порты назначения неритмично. Такое положение дел не подрывает господство на море, но ставит его под сомнение. Война теряет для мирового перевозчика всякое очарование.
При особо неблагоприятных обстоятельствах перевозчик оказывается не в состоянии защитить свои конвои. Тогда он теряет господство на море, что оборачивается национальной катастрофой.
Это – второй уровень морской стратегии: борьба «защитников торговли» с рейдерами, крейсерская война, блокада и контрблокада, попытка поставить позицию мирового перевозчика под сомнение.
Третий уровень связан с тем, что крейсера нуждаются в пунктах базирования.
Даже в эпоху парусного флота, когда пиратские суда могли месяцами действовать в открытом море, им требовался ремонт, пополнение запасов воды и пищи, пороха и ядер. Да и добычу нужно было где-то продавать. Иными словами, даже пиратство, не говоря уже о каперстве, предполагает поддержку со стороны некоторого государства или группы государств.
Такое государство всегда претендует на господство на море. Как правило, «страна-претендент» обладает вторым или третьим флотом в мире.
Поэтому мировой перевозчик не обязан гоняться по всем океанам планеты за неприятельскими рейдерами. Достаточно нейтрализовать флот претендента. Этого можно добиться либо за счет сухопутной войны, либо прямой атакой его военно-морских баз.
Как правило, страна, обладающая господством на море, не может иметь еще и сильную сухопутную армию. Нормальной является и периодически воспроизводится геополитическая структура, когда «перевозчик» сильнее на море, а «претендент» – на суше. Исключением служит моноцентрический мир, но подобная геополитическая конфигурация возникает даже не каждое тысячелетие и существует недолго.
Островное положение идеально для мирового перевозчика, поскольку страхует от немедленной атаки превосходящими наземными силами. Но даже и в этом случае необходим сильный союзник на континенте, услуги которого приходится тем или иным способом оплачивать.
Далее, мировой перевозчик должен быть постоянно готовым не только к рутинной крейсерской войне, но и к блокаде неприятельских портов и их последующей атаке.
Верно и обратное: блокада портов страны, владеющей морем, и, тем более, их успешная прямая атака сразу решает все проблемы морской войны для страны-претендента.
Таким образом, даже отдаленная перспектива возникновения крейсерской борьбы на коммуникациях создает оперативное напряжение между военно-морскими базами метрополий перевозчика и претендента.
Действия на коммуникациях требуют быстроходных кораблей с высокой автономностью. Их вооружение предназначено, прежде всего, против коммерческих кораблей, что предполагает скорострельные орудия сравнительно небольшого калибра. Защита должна выдерживать кратковременное боевое столкновение с кораблем подобного же класса. Понятно, что требования к рейдерам и «защитникам торговли» несколько различаются, но в обоих случаях речь идет об универсальных кораблях умеренного водоизмещения – крейсерах.
Для защиты базы можно использовать все, что угодно, например, устаревшие корабли. Но блокада баз и, тем более, их обстрел требуют линейного флота – самых больших, самых защищенных кораблей, обладающих самым мощным наступательным вооружением. И такие же корабли нужны, чтобы воспрепятствовать блокаде.
Третий уровень морской стратегии: исход крейсерской борьбы решает линейный флот. Причем в бою линейных сил стороне, владеющей морем, нужна только победа, в то время как ее противнику достаточно ничьей. Достаточно продемонстрировать способность устоять под ударами флота «мирового гегемона»[4].
Уровни морской стратегии разделены в пространстве. Первый охватывает мировой океан, то есть всю землю или, по крайней мере, доступную Ойкумену. Второй может рассматриваться, как дискретный граф, включающий основные морские торговые пути и «особые точки» – ключевые коммерческие порты и военно-морские базы. Третий локален и ограничивается территорий метрополии и окружающими морями.
Предложенная схема носит общий характер и может быть использована для анализа действия морской силы при любых привходящих обстоятельствах. Принципиально важно, что страна-претендент сама обязана иметь коммерческий флот, какую-то долю в мировых перевозках и мировой торговле и, тем самым, некоторую открытость экономики. Но не чрезмерную: чтобы продержаться в критические годы, предшествующие войне, ей нужна автаркия. А это подразумевает преобладание на суше – иначе не создашь жизнеспособную замкнутую экономику.
Это – обязательный «расклад». Каждая конкретная ситуация добавляет свои особенности.
Троянская война. Полулегендарный конфликт между микенской Грецией и Хеттским государством, которому содействовали Египет и пунийцы (финикийцы). В годы, предшествующие войне, греческое морское пиратство подорвало финикийскую морскую торговлю. Далее в течение войны, растянувшейся на многие годы или десятилетия, сохранялся шаткий баланс: греки удерживали короткую коммуникационную линию в Эгейском море, атакуя своим полупиратским флотом ключевые точки финикийской морской торговли, то есть длинные коммуникационные линии Ойкумены. При этом греческий флот нес серьезные потери, и к концу войны он практически прекратил свое существование. Троянская война привела к разгрому Хеттской державы и поддерживающих ее малоазиатских городов, в том числе Трои. Но Микены не пережили этой победы: в последующие десятилетия страна была полностью опустошена дорийским вторжением и на столетия погрузилась во тьму.
Пелопонесская война. Спарта во главе Пелопонесского Союза неоспоримо преобладает на суше, Афины возглавляют Делосский Союз и господствуют на море. Армия Спарты может блокировать Афины с суши, но не способна овладеть городом или лишить его связи с морем. Флот Афин может блокировать Пелопонесс. Боевые действия продолжаются 27 лет, причем первый период войны не принес успеха ни той, ни другой стороне. Исход конфликта предрешило поражение Афин в Сиракузах, окончательную черту подвел разгром при Эгоспотамах, где стоящий на якоре афинский флот был уничтожен полностью. Война привела к истощению обоих противников, в конечном итоге гегемония в Греции перешла сначала к Фивам, а затем Македонии.
Пунические войны. Столкновение Рима и Карфагена за господство на Средиземном море. Для любителей военного искусства наиболее интересна Ганнибалова война, но решающий характер носила предшествующая ей первая пуническая война (264 – 241 гг. до н. э). Карфаген господствовал на море, Рим – на суше. Обе стороны правильно оценили значение Сицилии, «острова Деметры», житницы Средиземноморья и центра позиции, «особой точки» войны на море. Рим одержал победу, сумев в короткий срок выстроить флот по образцу выброшенной на берег карфагенской пентеры. Как правило, из подобных попыток ничего не получается: можно быстро построить корабли, но нельзя так же быстро воспитать опытных моряков. Однако римляне сумели «перенести на море тактику войны на суше», изобретя абордажный мостик. После этого экипаж римского корабля стал состоять из двух манипул. Морские бои у Милы, у мыса Экном, у Эгатских островов ознаменовали переход господства на море к Риму[5]. Результатом войны стало присоединение Сицилии к Риму, создание первой в истории мировой державы.
Борьба Англии и Испании. Длительный конфликт с неопределенными хронологическими рамками (начало XVI столетия – конец XVII столетия, основные события произошли между 1588 и 1659 годами). После открытия Америки Испания построила колоссальную колониальную империю, существование которой поддерживалось только господством на море. Отовсюду в метрополию идут корабли с очень дорогим грузом. Это приводит к распространению пиратства – прежде всего, в Карибском море. Со временем пираты начинают атаковать испанские одиночные военные корабли и даже нападать на конвои и защищенные военные поселения. «Береговое братство» формально не подчинялось никому, но значительная часть пиратских кораблей строилась в Англии и имела английские экипажи. Что же касается Ф. Дрейка (захват 30 тонн испанского серебра на Панамском перешейке, атака Вальпараисо, Виго, Санто-Доминго, Картахены, Сан-Августина, Кадиса), то он был подданным королевы и английским адмиралом. В 1588 году Испания попыталась примерно наказать Англию, но морское сражение у Гравелина, известное, как разгром Непобедимой Армады, закончилось с неопределенным результатом[6], что предопределило распад Испанской колониальной империи и упадок Испании. Господство на море перешло к Англии.
Борьба Великобритании с Францией. Еще один вековой конфликт (1670–1815 гг.), насчитывающий три фазы борьбы: с французской монархией, с французской республикой, с наполеоновской империей. Классический пример, на котором А. Мэхэн построил свою модель: четкое преобладание Франции на суше и Англии на море, привлечение Англией континентальных союзников и создание широких антифранцузских коалиций. Со своей стороны, французы добились полного господства в Европе, готовили прямой военный десант на побережье Англии, пытались организовать экономическую контрблокаду Британских островов. Ключевым моментом войны стала Трафальгарская битва, генеральное сражение по А. Мэхэну. Победа Г. Нельсона в этом бою обесценила все успехи Наполеона, в том числе – будущий Аустерлиц. Великобритания сохранила господство на море.
Все перечисленные здесь войны носили длительный характер, иногда они продолжались столетиями. Проигравшая сторона в лучшем случае теряла положение великой державы и приходила в полный упадок, в худшем – прекращала существование. Но и победителю успех обходился очень дорого, причем воспользоваться им в полной мере удавалось лишь следующим поколениям.
Главным риском при использовании стратегии морской силы является обоюдное поражение, когда «перевозчик» теряет господство на море, а «претендент» настолько истощен борьбой, что не может его захватить. Исторический опыт показывает, что в этом случае война может вызвать кризис цивилизационного масштаба.
К началу Первой мировой войны учение А. Мэхена господствовало безраздельно и было сведено к следующим семи простым принципам:
• Закрытая экономика всегда проигрывает открытой. Открытая экономика базируется на международной морской торговле.
• Получение выгоды от морской торговли предполагает наличие торгового флота и обретение статуса «перевозчика».
• Статус «перевозчика» создается и поддерживается морской мощью, то есть военным флотом.
• Морская мощь определяется, прежде всего, линейными кораблями, затем – сетью морских баз и лишь в последнюю очередь крейсерскими силами.
• «Первой линией противодесантной обороны являются неприятельские порты»[7]. Война на море должна вестись наступательно, «оборона есть смерть морской стратегии».
• Статус владения морем разыгрывается в генеральном сражении.
• Исход крейсерской войны предопределен генеральным сражением.
В наше время первые три принципа А. Мэхэна считаются актуальными, еще бы! они же являются основанием геоэкономики, а четыре последних подвергнуты критике и объявлены устаревшими.
В действительности, термин «линейный корабль» употреблялся А. Мэхэном в англоязычном смысле: «корабль линии баталии», то есть генерального сражения, «capital ship». В русском языке «линейный корабль» понимается как «линкор», «дредноут», «броненосец», то есть броненосный корабль, вооруженный тяжелой артиллерией. А. Мэхэн, разумеется, не имел этого в виду. Его «линейный корабль» может подразумевать и трирему, и галеон, и трехдечный парусный корабль, и дредноут, и авианосец, и современный атомный крейсер с гиперзвуковыми ракетами.
Генеральное сражение – это сражение с участием главных сил, то есть «линейных кораблей», меняющее структуру войны на море. Это совсем не обязательно будет Армагеддон, вовлекающий в свою орбиту все линейные силы. Как справедливо заметил Р. Исмаилов, внимательно прочитавший и А. Мэхэна, и К. Клаузевица, в генеральном сражении может в некоторых случаях участвовать и всего один линейный корабль.
Генеральное сражение следует рассматривать, как «испытание», «эксперимент», взвешивающий возможности сторон. Результат этого испытания предопределяет победителя и побежденного, хотя война может продолжаться еще десятилетия. В первой Пунической войне генеральным сражением был бой при Милах в 260-м году до н. э., когда Гай Дуилий разбил эскадру Ганнибала (сына Гискона), после чего взял сицилийский город Эгеста, продемонстрировав, что Рим может свободно действовать в сицилийских водах. Война продлилась еще 25 лет, Рим претерпел в ней немало поражений, в том числе и на море, но эти поражения произошли уже в Африке, у карфагенских берегов. Рим захватил и более не отдавал инициативу в войне.
А. Мэхэн первым обратил внимание на сходство морской и горной войны. В обоих случаях мы имеем дело с местностью, крайне бедной узлами коммуникаций, в связи с чем значение этих узлов резко возрастает. Еще Ф. Энгельс заметил, что горная война вроде бы благоприятствует обороне, но, в действительности, ключом к успеху является максимальная активность. В этой войне выигрывает тот, кто первым захватывает или нейтрализует ключевые точки позиции. На море такими точками являются порты и военно-морские базы, колониальные станции.
Особое неприятие у критиков вызывает тезис о недостаточности крейсерской войны. Дело в том, что построить крейсерский флот, по крайней мере, выглядящий опасным для страны, владеющей морем, сравнительно нетрудно, недолго и недорого. И бывают случаи, когда угроза применения крейсерских сил вынуждает сильнейшую сторону идти на уступки.
Альфред Тайер Мэхэн (27 сентября 1840 г. – 1 декабря 1914 г.), контр-адмирал, один из основателей геополитики.
Родился в Уэст-Пойнте в семье преподавателя Военной академии.
Окончил Военно-Морскую Академию США вторым на курсе по успеваемости.
В 1861 г. произведен в лейтенанты. Участвовал в войне Севера и Юга на стороне Севера. С 1885 г. – преподаватель истории в военно-морском колледже в Ньюпорте, в 1892 – 1893 г. – президент этого колледжа. Добился для училища статуса центра теоретической подготовки старших офицеров.
В 1886 – 1888 и 1893 – 1895 гг. командовал крейсером «Чикаго». С 1896 г. – в отставке.
Во время Испано-Американской войны – член Морского комитета по стратегии, в 1899 г. – член американской делегации на Гаагской мирной конференции.
С 1902 г. – президент американской исторической ассоциации.
В 1906 г. присвоено звание контр-адмирала.
Создатель доктрины морской мощи, первой (и, в сущности, по сей день единственной) обобщающей теории, описывающей морскую стратегию.
Оказал значительное влияние на президента Т. Рузвельта и через него – на развитие военно-морского флота США. Один из инициаторов достройки Панамского канала в рамках концепции «два океана – один флот». А. Мэхэн выступал за приобретение Соединенными Штатами баз на Гавайских, Филиппинских островах, на Кубе.
После Испано-Американской войны сенат ассигновал на создание межокеанского канала 115 миллионов долларов, в 1902 г. США за 40 миллионов долларов купили у французской компании Панамского канала концессию, выполненные работы и оборудование. В том же году Конгресс США обязал Президента приобрести имущество компании, акции железной дороги и полосу земли шириной 10 миль для сооружения, поддержания и управления каналом с правом юрисдикции на упомянутой территории. Колумбийский сенат отказался ратифицировать соглашение с США (поскольку, по их договору с компанией Панамского канала, если канал не начнет функционировать в 1904 году, все имущество компании безвозмездно переходит к Колумбии). США при прямой поддержке флота осуществили отделение Панамы от Колумбии. Новое государство было провозглашено 4 ноября 1903 г., 18 ноября оно уже подписало договор с США. Строительство канала велось под руководством военного министерства США, первый пароход прошел по нему 15 августа 1914 года, но официальное открытие состоялось только 12 июня 1920 года.
Для обороны зоны Канала США приобрели у Панамы, Дании, Никарагуа, Колумбии ряд островов.
Книги:
Флот в Гражданской войне. 1883 г.
Влияние морской силы на историю. 1890 г.
Адмирал Фаррагут. 1892 г.
Интересы Америки в области морской мощи: настоящее и будущее. 1890 – 1897 гг.
Жизнь Нельсона: воплощение британской морской мощи. 1897 г.
История войны в Южной Африке. 1890 г.
Типы морских офицеров в истории британского флота. 1891 г.
Морская мощь и ее влияние на войны 1812 г., 1905 г.
Влияние морской силы на французскую революцию. 1905 г.
От паруса к пару: воспоминания о жизни на флоте. 1906 г.
Основные морские операции в войне за независимость. 1913 г.
Таких случаев немного и, как правило, в этом случае угроза крейсерской войны, скорее, повод, чем причина. Да, действительно, русские крейсерские эскадры, пришедшие в 1863 году в Нью-Йорк и Сан-Франциско, изменили позицию британской прессы. Но правительство Ее Величества и не собиралось воевать с Россией из-за польского восстания. После Крымской войны отношения Великобритании и Российской Империи определялись логикой Большой Игры, «война Кита и Медведя» была признана нецелесообразной и снята с повестки дня.
Но после Крымской войны Россия и не рассматривалась Великобританией как угроза ее морской мощи. Это создавало возможность «игры вместо войны».
Так что, основные положения теории А. Мэхэна пережили Вторую мировую войну. До некоторой степени они актуальны и сегодня, хотя появление ракетно-ядерного оружия и спутникового наблюдения вносит определенные коррективы. Вероятно, в ближайшие десятилетия роль господства на море займет господство в Космосе.
1
Экономика производит товары, продающиеся на рынке. Хозяйствование производит продукты, потребляемые территорией.
2
В СССР в 1970–1980-е годы абсолютный уровень жизни рос. Но у противника он рос гораздо быстрее, что, в конечном счете, привело к системному кризису советского общества.
3
К началу войны Германия имела в своем распоряжении 38 крейсеров. Их одновременное использование в операциях против торговли было, разумеется, невозможно, поскольку на легкие крейсера возлагались также задачи прикрытия основных сил флота, разведки и т. д.
4
В принципе, все вышеизложенное следует из пионерской работы А. Мэхэна «Влияние морской силы на историю», но четкие формулировки взаимных связок различных уровней борьбы на море, включая заключительную теорему, согласно которой в генеральном морском сражении линейных флотов сильнейшей стороне нужна только победа, в то время как слабейшей достаточно ничьей, принадлежит Р. Исмаилову («Флот и стратегия непрямых действий», в книге Б.Лиддел-Гарт «Энциклопедия военного искусства», «Стратегия непрямых действий», М., АСТ, 1999 г.)
5
Здесь требуется уточнение. Абордажный ворон как корабельное вооружение, обладал значительными недостатками. Его использование снижало мореходность и остойчивость кораблей. Этим объясняются огромные потери римского флота в штормах. По мере улучшения подготовки своих моряков римляне начали отказываться от этого оружия, одинаково опасного и для своих кораблей, и для неприятельских. Всего за 23 года войны Рим потерял 700 кораблей, а Карфаген – 500. Так что, карфагеняне выиграли войну на море, но с минимальным преимуществом, причем генеральное сражение было ими проиграно.
6
В ходе самого сражения потери сторон были незначительными. Но испанская эскадра, командующий которой герцог Медина-Сидония принял решение возвращаться домой кружным путем вокруг Британских островов, не успела укрыться в портах до начала осенних штормов, была рассеяна неблагоприятными ветрами, потеряла половину кораблей и 3/4 личного состава.
7
(с) У. Черчилль.