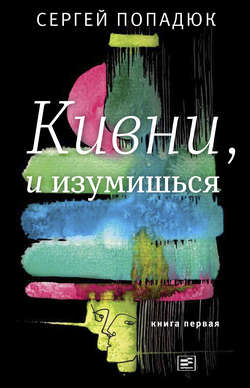Читать книгу Кивни, и изумишься! Книга 1 - Сергей Попадюк - Страница 3
1970
Оглавление* * *
15.06.1970. Начиная эту новую тетрадь, я ставлю перед собой прежнюю цель – спасти насколько возможно то, что уходит навсегда: происшествия, впечатления, встречи, разговоры, мелькнувшую в голове мысль, затянувшееся переживание – все эти осколки, на которые распадается моя реальность. Пусть сами по себе и бесформенные, они сохраняют аромат проходящего времени. Подбирая и складывая их, я надеюсь хотя бы частично эту реальность воссоздать. При теперешнем положении вещей такая апология частной жизни, всего мимолетного и необязательного в ней способна, мне кажется, уберечь человека от нивелировки.
«Тайной свободой» называл это Пушкин. Теперь это называется: внутренняя эмиграция.
Но тут вот какое «но». Дело в том, что, когда пишу, словно кто-то другой пишет вместо меня. Для своих впечатлений, для пережитого мною, только мною, как будто подбираю я приблизительно похожие готовые отпечатки. Чужой текст легко и непроизвольно ложится под колеса; я качу, как по рельсам, давно кем-то проложенным, вместо того чтобы идти своей дорогой. И нет у меня ощущения, что я из ничего делаю что-то.
Вот она – власть штампа!
Неповторимый вкус минуты исчезает бесследно. Остается только знак.
Я все еще не вылупился из-под маски.
Я стараюсь высказаться искренно и точно, глядь – а на мне маска. Чья-то. Я ее сдираю, а под ней – другая. Потом стыдно все это перечитывать.
Ну что ж, разрабатывать руку. Писать для себя, не заботясь о том, что это будет кем-то прочитано, не боясь и не избегая повторов и непоследовательности.
Давай писать набело, impromptu, без самолюбия, и посмотрим, что выльется. Писать так скоро, как говоришь, без претензий, как мало авторов пишут, ибо самолюбие всегда за полу дергает…
Батюшков. Опыты в стихах и прозе
Писать свободно и обо всем. Изживать литературщину и манерность. Делать себя.
* * *
«Хороша святая правда, да в люди не годится»; «изжил век, а все правды нет» – говорят русские пословицы. Совдепия не в семнадцатом году началась, а в семнадцатом веке. Безнадежность в кровь нам вошла.
У нас лицо всегда было подавлено, поглощено, не стремилось даже выступить. Свободное слово у нас всегда считалось за дерзость, самобытность – за крамолу; человек пропадал в государстве, распускался в общине.
Герцен. С того берега
Вот и осталось тешиться отвлеченными идеалами, юродствовать, сравнивая их с действительностью, пьянствовать, куролесить и без конца возвращаться к одному и тому же вопросу: что делать? как вести себя, чтобы оправдать свое существование, чтобы совесть не мучила?
А выходов всего два: либо открыто протестовать, подписывать коллективные письма в защиту несправедливо обвиняемых, выходить на Красную площадь, получать по морде от мальчиков-добровольцев, вылетать с работы, садиться в тюрягу, в психушку, либо скромно, добросовестно, не обращая внимания на государство, политику, идеологию, игнорируя их, делать свое «маленькое дело» – то, которое ты сам себе выбрал, которому обучился и в которое способен вложить душу, – делать как можно лучше, очищая его по возможности от лжи и злобы. «Советскую власть, – говорит Белинков, – уничтожить нельзя. Но помешать ей вытоптать все живое – можно. Только это мы в состоянии сделать».
Но что бы ты ни выбрал, от общих проблем не уйти, как не уйти от повсеместного произвола и какой-то обоснованной тупости государственного механизма. Вот и остается надеяться, что где-то все ж таки есть Бог или какая-нибудь абсолютная совесть, – что теперешние наши упования оправдаются же когда-нибудь.
Вся русская жизнь – ожиданье от Бога
какой-то неясной амнистии.
Губерман. Гарики
* * *
Служил у нас в Тамбове такой парень (вернее, не у нас, а в пехоте, но поскольку дивизия была кадрированная, мы были соседями), такой маленький человечек, самострел. Он в себя стрелял, чтобы отмазаться от службы. Выбрал, так сказать, свободу. В карауле, на посту он выстрелил себе в ногу. В караулке, услыхав автоматную очередь, подняли отдыхающую смену и кинулись на пост. Он уверял, что в него стреляли с проходившего мимо поезда (пост находился неподалеку от железной дороги), но обуглившийся – от выстрела в упор – валенок часового сразу все объяснил. Парня судили. Суд был показательный, всех нас согнали в клуб – для науки, чтоб другим неповадно было. Парень был уже без ноги, на костылях, так и сидел на виду у всех и послушно вставал, отвечая на вопросы. Перед залом зачитывали его отчаянные письма домой, в которых ясно просвечивал задуманный поступок. Жалко было его, дурака. Лица его я не запомнил. Ему дали семь лет.
* * *
Нетрудно быть логичным, но логика служит, скорее, убедительности, чем истине. К ней прибегают, когда хотят обосновать решение, не связанное с насущной жизненной задачей, или когда подспудно чувствуют себя неправыми.
Обосновывается только сомнительное, маловероятное, то есть то, во что мы, вообще говоря, не верим.
Ортега-и-Гассет. Искусство в настоящем и прошлом
Человек, уверенный в своей правоте, повторит следом за Камю: «Что же говорить, когда так оно и есть».
Я больше доверяю суждениям темным на первый взгляд, противоречивым, фантастическим, но которые наводят на брезжущий смысл, чем таким, в которых меня волокут по частоколу бесспорных умозаключений. Русская мысль, мне кажется, тем и отличается, что всегда дерзает выразить истину не логическую, невыразимую, постигаемую, скорее, в молчании (hēsychía); тем не менее мы тщимся найти ей практическое применение. Отсюда и вечное наше богоискательство, и наше великое косноязычие. Тут смешиваются Восток и Запад: созерцательность и прагматизм. Нигде, верно, не было стольких и таких заплетающихся мечтателей, чудовищных в своем каменном упорстве.
Какая уж тут, к чертовой матери, логика!
– Посудите сами, какую, ну какую, скажите на милость, какую пользу мог я извлечь из энциклопедии Гегеля? Что общего, скажите, между этой энциклопедией и русской жизнью? И как прикажете применить ее к нашему быту, да не ее одну, энциклопедию, а вообще немецкую философию… скажу более – науку?
Тургенев. Гамлет Щигровского уезда
В стиле Хемингуэя
Мы встретились на станции «Белорусская – радиальная» в восемь утра. Пока дожидались Виталика с его подругой, я, усевшись на пол, читал «Охоту на сэтавра», а Леднев с Гореликом, опухшие со сна, читали газеты. Потом поехали в Химки.
Площадь перед речным вокзалом была залита солнцем; мы пересекли ее. Билеты были уже распроданы, поэтому мы прошли прямо к причалу и замешались в толпу пассажиров. На «Ракете» мы заняли корму, и пассажиры, спускаясь с верхней палубы, проходили мимо нас.
«Ракета» шла по каналу, на бетонированных берегах которого сидели рыболовы с удочками. Канал поворачивал, и солнечный луч, падавший на нас из люка, все время перемещался. Американец откинулся на спинку скамьи и подставил солнцу лицо. Было еще довольно прохладно. Нас обдувал ветер, смешанный с брызгами, и я предложил Тоне свою куртку, но она покачала головой. За шумом воды слов не было слышно. Мы с Гореликом, перемигиваясь, поглядывали на девушку, стоявшую у борта: ветер задирал ее юбку. Сашка сидел, закинув голову, с закрытыми глазами.
В Тишкове мы высадились на деревянную пристань. Красный катер дяди Миши покачивался в ста метрах. Мы помахали ему. Пассажиры двинулись вверх по тропинке, и «Ракета» отвалила. Тогда катер развернулся и подошел к пристани. «Здравствуйте, дядя Миша!» – закричали мы. Он зацепился багром, и мы спустились в катер. Все прошли в кабину и разместились в креслах, а мы с Американцем и Тоней остались на кормовом диванчике. Сашка сразу же подставил лицо солнцу.
Дядя Миша вел катер наискось через залив, а потом вдоль западного берега водохранилища. Перед следующим заливом мы увидели объявление на буйке: «Катание на водных лыжах запрещено». Дядя Миша обернулся и сказал:
– Ничего, я вас в другое место отвезу. Только вещи сначала положим.
– А почему? – спросил Виталик.
– Мальков, что ли, здесь развели, – пояснил Горелик. – А жаль: хорошо здесь было.
Катер сделал еще один поворот, и показалась база. Дядя Миша ввел катер в гараж, и выскочивший на палубу Американец зачалил его. Вылезая с двумя сумками – своей и Сашкиной, – я стукнулся головой о ржавую поперечную трубу. Мы прошли по мосткам над водой и стали подниматься по деревянной лестнице на берег. Пересекли лужайку, посреди которой торчал флагшток, – высокая трава была еще влажной от росы – и вошли в один из домиков на опушке леса. Здесь было шесть кроватей, печка и умывальник. Пока мужская часть нашей компании переодевалась, Тоня с Ниной сидели на лужайке, на столе для пинг-понга, а потом мы ждали их. Потом все спустились к катеру.
Я помогал Американцу распутывать и сматывать в бухту старый фал со множеством узлов. Остальные в это время сидели на мостках в гараже, опустив ноги в воду. Тоня разделась, нырнула с мостков и вскоре выплыла на середину залива. Потом пришел дядя Миша, и мы полезли на катер, передавая друг другу широкие лыжи с резиновыми креплениями и свернутый фал, – все это было сложено на корме.
Дядя Миша вывел катер из залива. Теперь он не огибал западный берег, а направил катер по диагонали к противоположному берегу водохранилища. Катер подошел к мосткам, и мы высадились. Солнце стояло уже высоко.
Первой стартовала Тоня, но неудачно. Горелик сидел на корме, выбирая фал. Задним ходом катер опять приблизился к мосткам, и Горелик издали бросил фал. Я поймал его и передал Американцу – он уже сидел на краю мостков с надетыми лыжами, а Тоня, смеясь, вылезала из воды.
Вода под катером вспенилась, фал в руках Горелика стал быстро разматываться, потом Сашку сильно дернуло и сорвало с мостков. Он сделал падающее движение, но удержался на ногах и, выпрямившись, понесся вслед за катером. Мы видели, как он мчится вдали, уклоняясь из стороны в сторону плавными зигзагами, а потом катер и он скрылись из виду в сверкании солнечных бликов. Тоня возле меня вытиралась махровым полотенцем.
Катер показался. Теперь он мчался назад, и Американец появлялся то справа, то слева от него, поднимая тучу пены при разворотах. Мы увидели, как он показал Горелику два пальца. Катер описал широкую дугу и пошел по второму кругу. И все повторилось: они исчезли вдали, в сверкании бликов, а потом снова возникли, быстро приближаясь, и Сашка мелькал справа и слева от катера, и катер стал описывать дугу перед мостками. Американец с фалом в одной руке тоже стал описывать дугу, еще более широкую, летя рядом с катером и стремительно от него отдаляясь, и на излете этой дуги бросил фал. Теперь он летел прямо к мосткам, опустив руки вдоль тела, на слегка согнутых ногах, сосредоточенно глядя на бурун под лыжами, а бурун все ослабевал и ослабевал, движение постепенно замедлялось, и, не дотянув шагов десяти, Сашка ушел под воду. Он вынырнул и поплыл к мосткам, толкая снятые лыжи перед собой, а катер, развернувшись, догонял его сзади.
Следующим по очереди был Виталик. Ему, видно, очень хотелось пофорсить перед своей Ниной, но тут фал стал рваться. Он оборвался в первый раз, и во второй, и в третий, и каждый раз Виталику приходилось возвращаться вплавь, в то время как мы быстро сращивали оборванные концы, но фал был старый, и мы решили наконец плюнуть на это дело. Горелик с дядей Мишей умчались на базу за новым фалом.
Виталику все-таки удалось показать класс: он поднимал фал над головой, зажимал его между колен – а руки в это время свободно лежали на бедрах, – прыгал на волнах и прямо-таки виртуозно разворачивался. Финишировал он лихо: подлетел прямо к мосткам и с ходу уселся на них. Неприятно было то, что ничего этого он не стал бы делать, не будь здесь этой Нины, или нас, или зрителей на берегу. Неприятно было то, что он не стал бы это делать просто так.
А потом настала моя очередь. Впервые в жизни я встал на водные лыжи. Я зарылся в воду сразу же, как только меня сорвало с мостков, но, не желая выпускать фал из рук, долго волочился под водой, пока лыжи не соскочили. Во второй и в третий раз повторилось то же самое, но мне не давали передышки: вновь усаживали на край мостков, помогали нацеплять лыжи и снабжали полезными советами. Уж очень они хотели, чтобы я научился. Наконец я замотался и пересел на катер, а на лыжи встал Горелик. Вот тут-то и началось самое главное.
Клоун в цирке – это артист самого высокого класса. Потому, во-первых, что он умеет все то, что умеют и другие, но, если канатоходец только ходит по канату, жонглер только жонглирует, акробат только крутит сальто, клоун делает и то, и другое, и третье. А во-вторых, он делает это лучше. Ибо пародирует.
Я начал хохотать сразу же, как только катер тронулся и натянувшимся фалом Вовку сволокло (именно сволокло) с мостков. Я сидел на корме мчащегося катера, и в туче брызг передо мной маячила, моталась и билась на конце фала донельзя перепуганная дурацкая харя в дурацкой белой шапочке с пластмассовым козырьком. Горелика бросало из стороны в сторону, подкидывало волнами; стараясь удержать равновесие, он нелепо размахивал руками и ногами, садился на пенный бурун, почти опрокидывался, но в последний момент овладевал стихией, делал зверское лицо и залихватски сдвигал шапочку козырьком назад. Убедившись, что бояться нечего, он переругивался с досаждавшими ему волнами и отплевывался от них. Затем, почувствовав полную безнаказанность и впав в дурацкий бесшабашный азарт, он летал вокруг катера, почти обгоняя его, разевая рот в самодовольной ухмылке, пока какая-нибудь волна не наносила ему предательского удара, и тогда снова начиналась безумная борьба со стихией. Он пытался заговаривать с рыбаками в лодках, мимо которых мы проносились, причем некоторые из этих лодок оказывались между ним и катером, и ему приходилось молниеносно перебрасывать фал через головы озадаченных собеседников, но фал увлекал его дальше, и он, оборачиваясь, только недоуменно кивал им на катер, как на досадную помеху. Несколько раз дурацкую шапочку сдувало у него с головы, но он ловил ее на лету, а потом сдуло совсем, и он хотел броситься за ней, но фал дернул его, и, встряхнувшись, едва не упав, он понял, что навсегда потерял ее, и горько заплакал.
Я катался по корме, царапая обшивку, и хохотал до слез. Когда катер вывел Горелика на финишную дугу, он вдруг задрал ногу с лыжей и начал стаскивать крепление. Волны колотили его, а он, стоя на одной ноге, втянув голову в плечи, пытаясь на бешеной скорости справиться с креплением, весь ходил ходуном и стал похож на летящее к берегу мельничное колесо. Он так и вылетел из дуги к мосткам – на одной лыже, держа другую двумя руками под мышкой и размахивая свободной ногой, с выражением дурацкого энтузиазма на лице. Это было представление!
Потом все опять стартовали по разу. Тоня, сделав круг, призналась:
– Не смогла я второго круга сделать: ноги устали – ужас!
– А ты их не расставляй, – посоветовал Горелик, – ты их вместе держи.
Я становился на лыжи еще раза три, но все неудачно. Добился лишь того, что меня выносило из воды, но, не умея координировать движения, я импульсивно брал фал на себя и преждевременно выпрямлял колени; в этот момент фал, лишенный нагрузки, ослабевал, и я заваливался на спину. Несколько раз пыталась стартовать Нина, но у нее, как и у меня, ничего не получалось.
Потом мы проголодались и, погрузившись в катер, отправились на базу. Мы достали из сумок вино, мясо, сыр, хлеб, помидоры, огурцы, консервы и разложили все это на столе среди деревьев.
– Ну как, шашлыки будем делать? – спросила Тоня.
– Ни к чему, – решили. – И так всего много, да и ждать неохота.
– Дядя Миша, идите к нам! – позвала Тоня.
Она резала хлеб, а я, раскрыв нож, вынимал пробки из прохладных бутылок. Тут оказалось, что Виталик с Ниной куда-то исчезли. Мы долго кричали им, поворачиваясь во все стороны и дурачась, а потом они вышли из леса, и мы, притворившись, что не замечаем их, двинулись к столу.
– Извините, парни, так уж получилось, – сказал Виталик, когда Нина прошла вперед.
Мы сели вокруг стола и разлили вино по кружкам.
После обеда мы разлеглись на траве, а Виталик с Ниной снова скрылись в лесу. Отдохнув, играли в футбол: мы с Гореликом против Американца и Тони. Мы сначала одолевали, но Сашка не сдавался – он фактически играл против нас один, хотя Тоня тоже очень храбро играла, – и скоро я задохся и перестал бегать. Дядя Миша смотрел на нас издали и смеялся. Мы с Гореликом больше кричали, чем играли. В общем, мы проиграли.
Мы были красные и потные после игры и пошли купаться. Спустились вниз, к мосткам, и с лодок бросились в воду. Дядя Миша тоже спустился с нами. Пока мы плавали, брызгаясь, по заливу, с берега спустились и Виталик с Ниной.
– Что, Виталик, пора охладиться? – кричал Горелик с середины залива.
Они уплыли туда с Тоней, а мы с Американцем к этому времени уже вылезли из воды и сидели в лодках, обсыхая на солнце. Потом мы пошли играть в волейбол, потом снова купались, и наконец настало время уезжать. Солнце уже низко висело над деревьями.
Мы собрали вещи и спустились к катеру. Катер шел по гладкой розовой воде водохранилища. Он срезал своим ходом верхний слой этой глади, и две волны смыкались за его кормой, образуя высокий пенистый бурун, который вновь разваливался на две стороны, и две волны, опадая пенистыми гребнями, далеко разбегались, тревожили розовую гладь, заставляя плясать неподвижные лодки рыбаков, а внутри вытянутого треугольника за кормой бушевал цилиндрический поток воды.
– Ну, Леднев, – сказал я Сашке, – отдыхать с тобой – вариант беспроигрышный!
– Имеешь право, – ответил он.
Мы вылезли со своими сумками на деревянную пристань и попрощались с дядей Мишей, потом стали подниматься по тропинке. Мы прошли через лес, пересекли поле и вышли к автобусной остановке. Автобус довез нас до железнодорожной станции. Там мы купили по пакету молока и в ожидании электрички выпили его.
* * *
27.06.1970. Остался один: Молчушка укатила в Болгарию на месяц, мама – в Переделкине, а Мика – в Малеевку с детским садом. Брожу по дому, размышляю, беру то одну книгу, то другую, разговариваю сам с собой, вслух ругаюсь… И вот что я думаю.
Я ленив. Я настолько ленив, что ленюсь поднять даже то, что плохо лежит. Чего-чего мне только не попадалось: большие деньги, которые можно было заработать без особенных усилий, хорошие местечки, куда легко было пристроиться, женщины, которых оставалось только взять, и многое другое, что я пропустил в своей жизни.
И причина этого не в философском презрении к благам земным и преходящим; я вовсе не отличаюсь настолько возвышенным вкусом и ценю их, самое малое, по их действительной стоимости; нет, причина тут в лени и нерадивости, непростительных и ребяческих.
Монтень. Опыты. III. 9
И иногда становится жаль всего этого.
…Он почувствовал то, чего пошлее нет на свете: укол упущенного случая.
Набоков. Дар
Как все лентяи, я сваливаю на судьбу, но и привычка сваливать – все от той же проклятой лени, от стыда самому себе в ней признаться. Это не раблезианская героическая праздность, не освежающее плодотворное бездействие между трудами, не спокойное, созерцательное безделье, не far niente, – это просто тупая и угнетающая, пропитанная раскаянием апатия, которая поражает тело и душу, одуряющее болезненное состояние, которое липнет, как дурной сон, и от которого невозможно избавиться, так же как невозможно изменить почерк. Действительно, судьба!
Великолепная увертка человеческой распущенности – беспросветное свое свинство сваливать на звезды!
Шекспир. Король Лир. I. 2
У таких, как я, любовь, страсть заменяются воображением. Я привык вожделеть ко всему, что мне так или иначе приглянулось, не задумываясь в то же время о реальных средствах и результатах достижения желаемого. Я начинаю фантазировать, я подменяю действительность собственными фантазиями; реальные средства и результаты лежат вне сферы моего внутреннего опыта: сталкиваясь с ними, я утрачиваю всякий интерес к увлекшему меня предмету. Отсюда моя нерешительность и пассивность, когда доходит до дела, отсюда женственное непостоянство, отсутствие твердых принципов в моем поведении. Отсюда, наконец, бурная развращенность моей фантазии.
Вот о чем я думаю, бродя в одиночестве в сваливающихся штанах по дому и мечтая о полированном теле негритянки.
И сквернословьем душу отвожу,
Как судомойка!
Тьфу, черт! Проснись, мой мозг!
Шекспир. Гамлет. II. 2
Лето: в пустых квартирах впустую надрываются телефоны.
* * *
Когда Мику отправляли в Малеевку с детским садом, он крепился, как настоящий мужчина. Правда, поинтересовался вначале, нельзя ли этого как-нибудь избежать. Мы объяснили ему, что у нас нет другого выхода. Он сказал:
– Ладно, поеду, пока я маленький. А как вырасту большой, я стану домашним ребенком.
Он и при отправке держался отлично. Когда их построили в пары, чтобы сажать в автобусы, и все детишки ударились в рев, он вместе с другом-сорванцом прыгал на месте и кричал во все горло:
– А на даче хорошо! А на даче хорошо!
– Подкупленные, – сказала про них Молчушка.
Потом, уже в автобусе, он смотрел на нас, прижавшись носом к стеклу, и Молчушка сказала ему, чтобы он не вертелся, а он крикнул в ответ: «Не слышу!» – и тут произошло ужасное. Личико его как-то вдруг перекосилось, задрожало, он сорвался с места и кинулся к дверям, но двери уже захлопнулись. Мы видели, как он метнулся к окну на противоположной стороне и стал смотреть в него, повернувшись к нам спиной. Мы побежали на ту сторону, но автобус тронулся, и мы не успели.
* * *
И еще я думаю о своей профессии, которую получил вместе с дипломом и которая стала мне чужой как никогда. Я думаю о ней теперь, как о лишней, одной из лишних, вторичных, ничего не производящих, а лишь подхватывающих то, что уже создано другими. Нуждается ли оно, это созданное, в том, чтобы им занимались, его изучали, вместо того чтобы просто воспринимать его, пускать в дело, использовать по назначению?
Моим героем всегда был Левша – мастер, умелец, молчаливый ремесленник, который создает вещи и делает это лучше других, без «мелкоскопа», а так, «глаз пристрелявши». И те, кто выхватывает у него созданные вещи, чтобы наговорить по их поводу множество необязательных слов («тухлых», по выражению рыкачевского приятеля), окружить их туманом глубокомыслия, представляются мне какими-то назойливыми мухами, вьющимися вокруг мастера, бездельниками и дармоедами, живущими за счет чужого труда. И вот, проучившись пять лет, чтобы стать такой же мухой, я сам теперь к ним принадлежу.
И не умней я стал, в конце концов,
Чем прежде был… Глупец я из глупцов!
Гете. Фауст. I. 1
Наше время отбивает у нас уважение к теории.
* * *
23.07.1970. В последний момент выяснилось, что Миша Трунов не может поехать со мной, и я пригласил в напарники Викинга. Он бросил работу, семью, быстро собрался, и мы выехали в Ярославль.
Мы переночевали в гостинице, в шикарном двухместном номере (другого не нашлось), а на следующее утро явились к Тяну. Он вручил нам список объектов, и мы отправились в реставрационные мастерские за инструкциями. В 14.30 выехали в Гаврилов Ям и в четыре были на месте. Перерисовывали схему в горсовете, клянчили машину, сидели на крылечке крошечной районной гостиницы в ожидании хозяйки, а наутро приступили к работе.
Работать пришлось в ужасающей духоте; горячий воздух обжигал легкие. Мы доехали автобусом до деревни Ступино, а от нее пошли на Творино. При выходе из деревни облились водой у колодца. К полудню в Творино все было кончено, но мы долго сидели на крыльце конторы, в тени, курили и слушали болтовню мужиков о муравьях и пчелах, о женщинах и о любви. По очереди мы заходили в контору напиться воды и никак не могли решиться выйти на солнце. Нам предстояло пройти около десяти километров до Холма-Огарева, а потом вернуться к шоссе. Наконец мы решились и вышли.
Множество грачей усыпали выбеленную зноем пашню. Все они, повернувшись в одну сторону, ловили раскрытыми клювами каждое колебание горячего воздуха. Это напоминало заседание монашеского ордена. Они стояли совершенно неподвижно, пока мы проходили мимо; а когда мы остановились, привлеченные зрелищем, они стали медленно, неохотно один за другим взлетать, провисая на своих тяжело машущих крыльях.
Хорошо все же идти по земле, расстегнув ворот гимнастерки и чувствуя неровности сухой почвы сквозь тонкую подошву кед; смотреть, как земля постепенно поворачивается перед тобой и из-за одного горизонта выплывает другой, совсем голубенький; угадывать направление, следить за солнцем, держать в уме пройденное расстояние, учитывать наклон рельефа и тысячи других признаков, составляющих портрет местности, – и вот ты уже знаешь ее так, будто родился здесь, знаешь даже, что будет дальше, еще до того, как оно откроется; и все-таки оно появляется неожиданно, и чувствуешь удовлетворение от того, что оно не такое, как ты думал, и от того, что все идет правильно.
На эти случаи, кажется, есть особые глаза и уши, зорче и острее обыкновенных, или как будто человек не только глазами и ушами, но легкими и порами вбирает в себя впечатления, напитывается ими, как воздухом.
Гончаров. Фрегат «Паллада»
Потом, окончив работу, прыгаешь в воду с мостков, на которых женщина полощет белье, и плаваешь туда и обратно, разгребая зеленую тину, перемешивая своим телом теплые и холодные пласты в застоявшемся пруду. А потом старик выносит нам молоко в кувшине, который тут же покрывается бусинками росы, и косой ломоть хлеба с пористой мякотью, а солнце висит уже низко, и пора подниматься с бревен…
В прошлом году. Напарник
А потом появился Боб и сказал, что, по сведениям, полученным им от местных жителей, в пяти километрах отсюда, в Быкове, сохранилась еще одна деревянная церковь. Мы развернули карту. Быково лежало в стороне от нашего маршрута, почти на границе района, и оставлять его на завтра не имело смысла. Завтра вечером, самое позднее, мы должны были встретиться с нашими в Усмыни, а до Усмыни было еще далеко. Мы прошли сегодня около пятнадцати километров по бездорожью и обмерили два памятника: помещичий дом в Пухнове (куда подбросила нас машина, выделенная нашей бригаде сельсоветом за помощь в скирдовании сена) и эту, белавинскую, церковь. День клонился к вечеру, и через час уже невозможно было бы снимать.
– Надо идти, – сказал Боб, испытующе глядя мне в лицо. – Ничего не поделаешь. Все равно ночевать здесь придется.
– Идти так идти, – вздохнул я.
И мы двинулись. Проходя по селу, увидели группу мальчишек, сидевших под забором. Они молча смотрели на нас. Вокруг них валялись на траве велосипеды.
– Ребята, – сказал Боб, – нам нужно по-быстрому смотаться в Быково. Если не успеем до темноты, Серега, – он кивнул в мою сторону, – не сможет фотографировать. Выручите нас, дайте два велосипеда.
Мальчишки, нахохлившись, молчали. Мы переминались в ожидании. Потом один из них, старший, сказал с досадой:
– Что же вы, жиды, молчите! Жалко вам, что ль?
– Тебе не жалко, ты и давай, – ответили ему.
– И дам!
Он вскочил и подкатил нам свой старый голенастый велосипед с шоферской баранкой вместо руля.
– Эх, и я дам! – воскликнул другой.
Его велосипед был дамским, приземистым. Я сел в седло. Цепь прокручивалась, и, изо всех сил работая педалями, я почти не двигался с места. Мальчишки хохотали.
– Ладно, – решил Боб, – бери этот и езжай вперед. Главное – сфотографировать, а обмерить можно и в темноте.
Мы поменялись велосипедами, и я помчался. Шел «пёр», как мы выражались, шла удача – ее не следовало упускать.
Меня трясло на корнях, колючие ветки хлестали по лицу; когда начинался песчаный подъем, я бежал, толкая тяжелый велосипед перед собой. Аппарат колотил меня по спине, а экспонометр раскачивался на груди из стороны в сторону. Промелькнула одна деревня, другая. Какая из них Быково, я не знал: пора сенокоса, и спросить не у кого, а соскакивать с седла, разыскивать «языка» времени не было. Я просто искал глазами силуэт церкви. Навстречу – паренек вскачь на лошади.
– Где Быково?
– Вы ее проехали, дяденька. Во-он она!
Вернулся. И сразу стало ясно, что делать нам здесь нечего. Я все же сфотографировал то, что осталось от церкви, – для отчетности. Подъехал Боб. Мы навели справки, перекурили и не спеша двинулись обратно. Когда въехали в Белавино, Боб сказал:
– Давай зайдем тут к одной… Познакомлю.
(Он уже всюду здесь побывал, пока я возился с кроками у церкви.)
Мы прислонили велосипеды к забору, прошли мимо пылившихся на штакетнике кувшинов и стеклянных банок и поднялись на крыльцо. Боб уверенно толкнул дверь, и мы вошли в темные сени.
– Держись за меня, – сказал Боб и постучал.
За столом у окна сидела старушка, не по-деревенски прямая, опрятная, в накинутом на плечи вязаном платке.
Это была учительница здешней школы. Шестьдесят лет назад юной выпускницей Бестужевских курсов приехала сюда из Петербурга «вместе с товарищами» (как она выразилась), сжигаемыми, как и она, святой любовью к народу. «Товарищи» устроились на работу по соседству, в барановской усадьбе Родзянко, которую, кстати, спасли в семнадцатом от мужицких поджогов и вырубок, а она с тех пор так и жила здесь, в Белавине, сначала стоически свыкаясь с деревенским бытом и одиночеством, а затем и не замечая всего этого: отсутствия электричества, элементарных удобств, мыла, сахара, интересных воспитанных людей, мужской ласки… Весь энтузиазм нескольких поколений русской интеллигенции ушел на вскапывание огорода, выращивание картошки, запасание дров и керосина, топку печи, таскание воды из колодца, полоскание белья в проруби, да еще на обучение грамоте белоголовых «скобарей», которые уходили потом на Гражданскую и на Отечественную, в город и в лагеря, и никто не возвращался обратно, а «товарищи» померли давно или были ликвидированы; от прошлого остались лишь пожелтевшие кружевные воротнички, прямая спина, лучистая доброта в выцветших глазах. Она одна теперь тихо наблюдала ход истории в его обыденном преломлении – седая мышка, бессребреница, мудрый тростник…
(А вот старик из Встеселова, рассказавший, как в двадцатом, когда он служил в Москве, к ним в Спасские казармы затесался однажды маленький лысый человечек и все приставал к солдатам: как да что? Солдаты отругивались от дурака и гнали его прочь, а потом появился громадный матрос и бухнул, что сейчас перед ними выступит Ленин…
А вот коренастый мужчина, который возле замечательной лукинской церкви XVIII века, спокойно глядя на нас светлыми глазами, рассказал о том, как просидел в этой церкви все лето сорок первого, дожидаясь своей очереди: немцы регулярно расстреливали военнопленных, когда их накапливалось слишком много и не хватало для них места… Рассказывая, он прикасался пальцами к кирпичной стене и словно поглаживал ее, как, наверное, поглаживал и тогда. И каждое утро он проходит мимо нее по дороге на ферму…)
– Где бы нам переночевать? – обратились мы к Ване, возвращая ему велосипед с шоферской баранкой вместо руля.
– Да хоть у меня.
Он так и сказал: «у меня». Это был угрюмый паренек лет четырнадцати. Введя нас в избу, он объявил:
– Мать, они у нас переночуют.
Она налила нам молока («Пейте пока это, а сейчас парное будет») и нарезала черный глинистый хлеб.
– Что бы вам еще-то дать, нет у нас ничего.
– Принеси им сала, – сурово проговорил Ваня из угла.
Мы пили молоко из белых эмалированных кружек и ели хлеб с салом, а она вышла к корове. За окном скользили последние лучи солнца, но в доме было уже сумрачно. На лавке, укрытый с головой грязной овчиной, похмельным сном спал мужчина: из-под тулупа виднелся протез вместо ноги. Стены были оклеены пожелтевшими газетами 48-го года. Ваня возился по хозяйству: выходил и возвращался, шаркая сапогами.
Вернулась мать и налила нам парного.
– Пейте, не стесняйтесь, ишь как исхудали!
Она присела за стол и стала смотреть, как мы едим. Нам с Бобом и впрямь досталось сегодня. Она вздохнула несколько раз, потом сказала:
– Пойти воды, что ли, принести…
– Сиди, я принесу, – сказал Ваня.
Когда мы допили молоко, она заговорила с нами. Она спросила, что нового в Москве. Мы ответили, что уже давно оторваны от цивилизации и не знаем, что делается в мире.
– А вот по радио передали: американцы на Луну высадились. Неужто правда?
– Все может быть, – сказал Боб, посмотрел в окно и прибавил задумчиво: – Глухомань у вас тут. Леса, озера… Ни дорог, ничего. Как же немец сюда добрался?
– Добрался, – ответила она. – Их здесь человек десять стояло, в Белавине. А нас – одни бабы (мужиков-то на войну позабирали). Когда враг близко подошел, нам из центра приказали коров на восток гнать. Мы и ушли с коровами. Но недалеко ушли: уж все вокруг занято было. Две недели, наверное, по лесу мыкались, потом голодать стали. Вернулись, а тут уж эти. Потом, когда наши пришли, разбираться стали: кто виноват, что коров немцам отдали? Виновных стали искать…
Ваня возвратился с водой и, взяв топор, опять вышел. Мы тоже вышли на крыльцо. Ваня в сумерках постукивал топором. Мать вынесла нам две телогрейки и овчину:
– Постелите себе на сеновале.
Сеновал оказался тут же, в доме, на чердаке; мы взобрались туда по приставной лестнице. В потемках, наугад, расстелили на сене телогрейки и мою штормовку, в головах бросили наш небольшой мешок с теплыми вещами, рулеткой и папкой, потом спустились и, присев на крыльце, закурили перед сном. Появился Ваня:
– Может, клуб наш хотите посмотреть?
Даже в густых уже сумерках я почувствовал, как ему хочется, чтобы мы с ним пошли.
– Пошли, Боб?
– Чего я там не видел?
– Пошли-пошли!
Клуб размещался в бывшем поповском доме – в избе, которая была чуть больше и лучше остальных. На крыльце сидели несколько девушек лет пятнадцати-шестнадцати, и бегали, задирая их, мальчишки. Ваня широко повел рукой:
– Вот наша молодежь.
Нас разглядывали и пересмеивались. Ваня отомкнул замок на двери, и мы вместе с «молодежью» ввалились. Зажгли две керосиновые лампы. Вдоль бревенчатых стен стояли лавки. Одна стена была выпилена посередине, и комната за ней с поднятым полом служила сценой.
– Там и зарезался наш поп, когда церковь закрыли, – сообщили нам мальчишки. – Косой зарезался.
– Не косой, а ножом. Горло себе перерезал.
– А под церковью он, говорят, клад спрятал перед смертью. Только найти никто не может.
– Говорят, он сам иногда приходит и проверяет, цело ли. И плачет по ночам.
– А чего ж он плачет?
– Кто его знает… Жалко, наверное, что без дела лежит.
– У нас тут один хотел найти, да свихнулся. Федя-дурачок…
– А там, говорят, золото…
Мы расселись по лавкам вдоль стен, и началась игра в «ремешок». Посередине комнаты поставили табуретку, на нее положили чью-то подпояску. (Долго препирались, кто именно пожертвует свой ремешок, – это, видимо, входило в ритуал игры.) Наперебой объяснили нам правила. «Водящий» ударяет ремешком кого-нибудь из сидящих (парень ударяет девку, а девка – парня, при этом сил они, надо сказать, не жалеют), после чего, бросив ремешок на табуретку, должен успеть занять свое место на лавке до того, как вскочивший «осаленный» вернет ему удар, – тогда «водить» начинает «осаленный». Если брошенный ремешок падает на пол, остальные кидаются поднять его, и, если это им удается, «водящий» и «осаленный» (парень с девкой) должны выйти на крыльцо и поцеловаться.
Боб выходил один раз, но вернулся разочарованный: девушка сказала ему, что целоваться не обязательно. Я же, не поняв поначалу, что вся соль игры – в ее двусмысленности, играл слишком добросовестно, пока мальчишки шепотом не посоветовали мне бросить ремешок им, но было уже поздно: стали подходить старшие, и игра сама собою закончилась.
Прибывавшие парни были в черных костюмах и белых сорочках с расстегнутым воротом. Они входили по двое, по трое и, двигаясь вдоль лавок, за руку со всеми здоровались; дойдя до нас с Бобом, они вежливо представлялись, потом сами усаживались, сдвигая мелкоту в сторону. Многие были навеселе, но держались чинно. Девушки усаживались сразу, как входили. Хорошие платьица, белые туфельки на каблучках – должно быть, они шли сюда босиком и обувались только у клуба. Все они приходили из окрестных деревень за десять-пятнадцать километров. Было уже около полуночи, и Ваня сказал, что танцуют обычно часов до четырех. Он все время держался рядом с нами, молчал и ревниво прислушивался к нашим разговорам.
– Ваня, – сказал я, – мне очень нравится у вас. Кроме шуток, я первый раз такое вижу.
– Ха, горожанин! – сказал Боб, сам родом из весьегонской деревни, а ныне студент знаменитой Бауманки. – Пошли отсюда, спать охота!
– Погоди-погоди, – просил я, – еще немножко.
Они танцевали под баян: то двигались парами по кругу, притопывая и распевая частушки, то кружились в вальсе и покачивались в танго… Я смотрел разинув рот.
– Ну, Серега, ты раскочегарился, – пробормотал Боб. – Ты прямо в разнос пошел.
– У нас не всегда так, – объяснил Ваня. – Бывают и драки. Только наши ребята – самые здоровые, всегда драчунов выставляют.
– Хорошо, Ваня, хорошо!
– Скоро твой разнос кончится? – ворчал Боб.
Потом мы возвращались из клуба в полной темноте, сопровождаемые толпой мальчишек. Пугая друг друга, они рассказывали нам о церкви, которая стояла неподалеку отсюда, на озере, на острове, и вдруг однажды на Пасху провалилась под землю с попом и прихожанами. И теперь, если приложить ухо к земле, во всякое время можно услышать пение и звон колокольный…
– Если хотите, мы свозим вас туда на лодке.
– Мы уходим завтра, ребята. Нам нельзя задерживаться.
Мы покурили еще перед тем, как лезть на сеновал, – молча, вздрагивая от ночной сырости, – и влезли, растянулись наконец на сене, укрывшись овчиной. Ваня забросал нас сеном для тепла и сам улегся рядом. Перед сном – так уж у нас повелось – я прочел «технарю» Бобу коротенькую лекцию об архитектурных стилях; на этот раз речь шла об ампире. Боб с жадностью и быстро схватывал новые знания и сразу же применял их на практике, а днем, в пути, нам некогда было разговаривать.
Чем же мы занимались? Тут был тройной интерес. Во-первых, благородная общественная польза. В том году в Институте истории искусств в Козицком переулке начал действовать возглавленный И. В. Маковецким сектор Свода памятников истории и культуры. И вот множество таких же экспедиций, как наша, разошлось по России, прочесывая район за районом и область за областью в поисках уцелевших церквей, бывших помещичьих усадеб, ценной исторической застройки, фотографируя, производя архитектурные обмеры, расспрашивая старожилов, делая записи. Предполагалось, что собранные материалы лягут в основу многотомного энциклопедического издания, которое отразит полный состав и состояние нашего исчезающего на глазах культурного наследия и, кроме того, будет способствовать его сохранению.
Во-вторых, деньги. Комплект материалов по одному объекту (паспорт, кроки, обмерные чертежи, негативы и фотоотпечатки) стоит около 30 рублей, так что за месяц полевых работ при известной сноровке можно свободно заработать по 1500 на человека – деньги немалые для студентов, из которых главным образом вербуются экспедиционные кадры. (Правда, следует учесть еще и камеральную обработку собранных материалов: заполнение паспортов, вычерчивание планов, комплектацию и т. д.) Вот почему, приехав вшестером в Псков по направлению министерства, отправленные областным управлением культуры в глухой Куньинский район, мы расходились в разные стороны звездными маршрутами – с тем, чтобы встретиться в намеченной точке и затем снова разойтись. Вот так мы с Бобом оказались напарниками.
И, наконец, отдых. Где еще, скажите, вы сможете так отдохнуть? Валяясь на пляже, вы консервируете накопившуюся за год усталость, а не избавляетесь от нее. И только в активном переключении нервной деятельности, в азартной погоне за сокровищами, резко сменив привычный образ жизни, отдыхаешь по-настоящему. Затерявшись среди лесов и полей, на дороге под открытым небом – и наплевать на погоду! – в движении, имея перед собой конкретную цель, физически выматываясь, питаясь чем бог послал и ночуя где придется, вступая в непринужденное общение с людьми, о существовании которых минуту назад не догадывался…
…Земля пахнет своим запахом, и все вокруг становится, как будто слушаешь сказку мира: в некотором царстве, в некотором государстве, при царе Горохе и так далее. Одним словом, человек заблудился, а ведь это-то и нужно художнику для восприятия реальности мира.
Пришвин. Дневник
Разве сравнятся с этим какие-нибудь Гагры!
Мы поднялись рано, когда в селе стоял туман и все было черным на белом; мы поднялись рано, но все-таки позже, чем намеревались.
– Вот тут у меня твои разносы, – ворчал Боб, когда мы миновали клуб и пересекали небольшой луг за селом, приближаясь к темнеющей впереди опушке.
– Ходить надо побыстрей, – отозвался я, – тогда и успевать будем больше.
– Правильно. Мы же романтики, мы же деньгу зашибаем…
Сарай возник из тумана и остался позади; мы набирали скорость.
Утреннее солнце только еще начинало пробиваться сквозь туман, когда мы, быстро пройдя по лесу десяток километров, вышли к деревеньке Бараново. Усадьба Родзянко находилась несколько в стороне, на самом берегу озера.
– Вот он, ампир! – восхитился Боб, всмотревшись. – Всем ампирам ампир. Его ни с чем не спутаешь.
– Браво, Боб! Ты уже настоящий ампирметр.
Он ухмыльнулся:
– Давай, крокодел, покажи, на что ты способен.
Мы разделились: я направился к барскому дому – вычерчивать кроки для обмеров, а Боб – в деревню, отыскивать ключ от дома и собирать сведения. У Боба рука была легкая. Он умел найти и разговорить нужного человека, вежливо, но твердо направляя его воспоминания, отсекая лишние подробности.
На этот раз он отыскал старика, бывшего родзянкина кучера, и женщину, мать которой служила в усадьбе. Эта женщина повела нас к себе и накормила – после того как мы весь день промучились с обмерами (сложный план дома, да еще и парк пришлось мерить). Мы ели блины со сметаной, а ее муж, директор бездействующей летом школы-интерната, потчевал нас разговорами о деревенской жизни.
Уже вечерело, когда он перевез нас на своей лодке через озеро.
– Так вам короче будет, чем по берегу огибать.
Высадив нас на другом берегу, он еще раз вкратце перечислил ориентиры, которых нам надлежало придерживаться. Мы попрощались с ним, поднялись на круглый травянистый берег и зашагали по дороге на Дымово.
Дорога – поначалу различимая – быстро выродилась в едва заметную тропинку и вскоре совсем исчезла. Мы уже привыкли к таким эффектам и привычно заспорили, выбирая направление.
– Идем вот так, – решил Боб и показал рукой. – Не спорь, Серега, я же вырос в лесу.
Дороги не было. Мы шли глухим лесом, спешили, потому что солнце садилось, но все-таки замедлили шаг, когда почувствовали ритмично повторявшиеся кочки под ногами. Мы опустились на корточки и разгребли землю руками. Это были бревна, уложенные поперек пути вплотную друг к другу.
– Он же говорил, что здесь должна быть мостовая, – вспомнил Боб.
Электричества не было, дорог между деревнями не было в этом медвежьем краю, но была брошенная, почти забытая 15-километровая гать – мостовая, проложенная… бог знает когда!
Мы двинулись дальше. Теперь мы шли, ощущая под ногами древнюю «мостовую», по которой идти было неудобно, как по шпалам, но мы уже не покидали ее. Плечом к плечу мы ломились сквозь чащу и бурелом, с головой пропадали в зарослях щучки на полянах, спускались в овраги, переходили вброд ручьи, оставляя в стороне ядовитую болотную растительность, шли все дальше и дальше, и «мостовая» вела нас. И вывела наконец к дымовской усадьбе.
Солнце тем временем село, и все потемнели дороги.
Гомер. Одиссея. III. 497
Кирпичный заброшенный дом, ничем не примечательный, стоял на высоком холме; в двух километрах дальше виднелась деревня на берегу широкого озера, а за озером, на том берегу, мерцали огонечки большого села Усмыни – конечный пункт нашего маршрута.
– Ну ее к черту, эту водокачку, – сказал я. – Время только потеряем.
– Ничего-ничего, – сказал Боб. – Не ампир, конечно… Ты давай тут, а я мигом…
И он исчез, сбросив мешок на землю. (Он был прав: материалы по этому дому у нас потом с руками оторвали в Козицком.)
Я сделал несколько снимков на предельной выдержке, затем вычерчивал кроки, а когда все было кончено, позвал: «Боб!» Никто не откликнулся. Я еще покричал, но было тихо. Лес вплотную подступал к мрачному пустому дому, и деревня была далеко, и уже почти ничего не было видно в темноте. «Может, он где-нибудь тут убился, отыскивая лаз в запертый дом?»
– Борька-а!
Я чувствовал, что он не мог уйти далеко. Становилось страшновато.
Около получаса я бродил в темноте вокруг дома, кричал, присаживался возле нашего мешка, закуривал, но тут же опять вскакивал и снова ходил, ожидая невесть чего. Потом раздался треск мотоцикла, стремительно взлетела на холм и надвинулась ослепившая меня фара, и Боб прошел мимо, бросив на ходу:
– Вот Петр Иванович, бригадир, отопрет нам и поможет обмерять. И подбросит до Усмыни.
Рослый паренек лет восемнадцати, в телогрейке и кепке, пожал мне руку и степенно представился:
– Петр Иванович.
Мы обмеряли дом, чиркая спичками, оступаясь и матерясь, – Петр Иванович «держал ноль» и послушно перемещался от одного угла к другому, я считывал показания мерной ленты, а Боб заносил их на кроки, – после чего Петр Иванович смущенно сказал:
– Двоих сразу не смогу: рессоры у машины слабоваты. Давайте по одному.
– Езжай, – сказал мне Боб, – ты тут натерпелся. Бери мешок, а я пешком пойду.
Я сел на заднее седло мотоцикла и взялся за бока Петра Ивановича; мотор взревел, мы помчались.
– Не бойся! – кричал сквозь ветер Петр Иванович. – Держись только крепче! А то ухабы, знаешь…
Мы пронеслись по деревенской улице, где уже ни одно окно не светилось, и полетели по берегу озера.
– Хорошая вещь – мотоцикл! – кричал мне через плечо Петр Иванович. – У вас на каких марках ездят? У нас тут нельзя без него: видишь, какие расстояния. Как праздник какой-нибудь – съезжаемся на кладбища, гуляем… Бабушки в церковь подаются, в Великие Луки, два дня добираются, а мы – на кладбища. Ближе-то нет ничего. Все церкви позакрывали да поломали. Вы церкви тоже обмеряете? Хорошее дело… Вот она, Усмынь! Тебе куда, к интернату? Приехали… Сейчас я за твоим дружком сгоняю.
И вот я вхожу в комнату с бревенчатыми стенами. За окнами глубокая ночь, а здесь горит свеча на столе в окружении пустых бутылок, раскрытых консервных банок, объедков; в углу свалены рюкзаки, а с коек приподнимаются, поворачиваются ко мне и радостно улыбаются знакомые рожи.
– Привет!
– Мы уж не ждали вас сегодня.
– А где Боб?
Я прохожу к столу.
– Всё выпили уже, подлецы?
– Конечно… нет, ну что ты, – говорит Мишка Андреев и лезет под койку.
За окнами треск мотоцикла, и входит Боб, улыбаясь от уха до уха:
– Мы с Серегой…
* * *
3.08.1970. «Родной мой мальчик! Вот уехала от тебя, а чувство такое, словно предала, словно изменила. Словно Красную Шапочку бросила в темном лесу. Нет человека, о котором я думала бы больше, чем о тебе. И не помню, чтоб я думала о тебе когда-нибудь с большей тревогой, чем сейчас.
Я помню, как я рвалась из Переделкина: пожить вдвоем, дружить на всю катушку, говорить о главном – целые вечера. Не вышло. Не хочу говорить, почему не вышло. Было трудно, было оскорбительно. Ты кричал, я обижалась. Я всего-навсего человек: я обижаюсь, когда на меня кричат. И когда ты уехал в Ярославскую область, я вздохнула с облегчением: теперь никто, никакой Сергей Попадюк не мешал мне любить моего единственного сына. Я не спала ночь после твоего отъезда от звериной тоски по тебе. А на следующий день написала тебе письмо, очень большое. И не отдала его тебе – потому что там было слишком много эмоций. А надо было писать спокойно и вразумительно, и не о том, что меня обижает или выбивает из колеи, а о том, что мне внушает тревогу. Потому что я прежде всего жалею и понимаю тебя. Потому что я очень о многом хочу написать. О твоем будущем – как я его представляю. О твоей работе. О твоем характере. О твоей семье. Видишь – о многом. Я не хочу ни торопиться, ни комкать. А вот так буду потихоньку беседовать с тобою – изо дня в день. А может, напишется как-то иначе… Что я могу знать заранее?
Итак, о твоем будущем или, вернее, о твоем призвании. О самом главном сейчас для тебя.
О самом главном, потому что, как это ни странно, ты в третий раз в жизни – в третий! – вновь выбираешь, вновь мучительно прикидываешь свою судьбу. Бедный мой сын, которому, по самым глубинным свойствам его характера, за глаза хватило бы и одного раза. Ты думал об этом после школы, думал после армии… Думаешь теперь, после получения диплома, “когда не думает никто”. В тайниках своей души ты готов все переломать и все начать сызнова – и сделал бы это, если б не чувствовал ответственность перед всеми нами и если б знал совершенно точно, ради чего можно пренебречь даже этим.
Если б ты знал, как тебя выдает даже твой почерк: этот максимализм, это несытое честолюбие, эта жадная впечатлительность – и сомнение, неуверенность в своих силах, душевная зыбкость, ужас внутренний перед тем, что притязания твои могут на поверку оказаться жалки и неправомерны. Меньше всего ты хотел бы стать пошлейшим комментатором чужого творчества, бессильно претендующим при этом на что-то свое… Человек, умеющий работать, – ты с ужасом встречаешь каждый новый день, который требует определенности и каких-то решений, – и втыкаешься в чтиво или в телевизор или нагоняешь полный дом гостей, чтоб как-то поскорее его избыть. Во всяком случае, при мне было так. Я бы счастлива была узнать, что ясная моя умница, моя гордость, мой сын выбился наконец из этого маразма.
Но будем говорить по существу. Я не знаю точно, но мне кажется, что человек ты, прежде всего, пишущий. Ты все равно будешь писать, и все метания твои сейчас – это метания человека, пожирающего внешние впечатления – для того, чтоб писать. Ничего тебе, в сущности, не нужно, кроме встреч, разговоров, душевных касаний, нечаянных контактов и прочих радостей пишущего бродяги, открытого всему. Почему я понимаю все это – не потому ли, что сама такая? Я очень легко угадываю все это в тебе.
Но я и другое знаю. Знаю, что в так называемом творчестве ты начинаешь с того, чем я заканчиваю. Время такое. Для того, чтоб писать всерьез, нужна вера в себя, нужен успех, а успех сейчас может прийти только через банальность. И нужно иметь мужество отказаться от успеха. От признания. От всякой возможности писательской профессионализации. Сейчас это невозможно – при твоем неординарнейшем душевном складе. В нем твое счастье, но в нем же твое несчастье. Это все-таки не фраза: стоящие люди никогда не живут легко. И талантливые всерьез не живут легко, особенно сейчас. И потому не думай-ка ты о профессионализации. Хочешь писать – пиши. Пиши, вставая в 6 утра. Пиши, ложась в 4. Писала же я, кормя грудного ребенка. Уезжая в эвакуацию и возвращаясь оттуда. Не бросая работы в школе ни на минуту. Все свои книги – все! – не бросая работы в школе.
И это – второе, мой милый. Необходимость профессии. Профессии не слишком противной. Профессии, в которой ты тоже сможешь что-то такое дать. Эта профессия у тебя в руках, как я понимаю. У тебя – диплом. У тебя – возможность учиться дальше. Ты видишь искусство по-своему, говоришь о нем по-своему, пишешь по-своему. Это то, что даст тебе возможность занять свое место в обществе. Зарабатывать деньги. Кормить семью. Самое главное – это то, что даст тебе в конечном счете возможность самовыражения – свободного, независимого, то есть незаурядного, – высокого творчества.
Я ничего нового тебе сейчас не пишу. Мы говорили об этом тысячу раз. Но я вынуждена писать об этом снова, потому что ты снова и снова мечешься. Потому что ты каждый день все решаешь сызнова и живешь сызнова, и это самая мучительная черта у тебя. Голубчик мой, успокойся хотя бы в этом – в определении жизненного своего пути. Успокойся, все правильно. Ты все правильно выбрал когда-то и все правильно рассчитал. Закрепляйся на достигнутых рубежах, реализуй накопленное: упования профессуры, интерес к тебе, уважение к твоей работе… Это все уже твое – и это очень немало. Ты много имеешь в свои 27 лет: любящую жену, очаровательного сына, прекрасных друзей. Ты образован, умен, талантлив. Михандр[1] говорит мне в интимной беседе: “Он далеко пойдет”. Тебе – одному из многих – дана рекомендация в аспирантуру. То, что ты пишешь для себя, читается всерьез. Что нужно, чтобы избавить тебя от подростковых комплексов и юношеских метаний? Ты уже состоявшийся человек, а чувствуешь беспрестанную потребность самому себе что-то доказывать…
Повторяю еще раз: не мечись, не суетись, – все правильно. Это ужасно трудно, что жизнь огромна, что возможности ее неисчерпаемы, и переполненное возможностями сердце так же тяжело нести, как перетруженные за день руки…»
* * *
Косо, как падающая бумажка,
Пролетела бабочка за окном.
Пока жива мама,
Я бессмертен.
* * *
Что же я умею на этом свете? Умею я многое, но что я умею, как никто? В чем заключается мое особое ремесло, мастерство, в котором я превосходил бы всех прочих? Где тот случай, то кульминационное стечение обстоятельств, когда должны позвать меня – только меня и никого больше?
Не напрасно (воспоминание)
Одна за другой машины притормаживали перед воротами КТП, затем сворачивали влево по шоссе: колонна двинулась в сторону Бокина. Остались позади кирпичные корпуса казарм, прямые дорожки в лозунгах, плацы, столовая, баня с высокой трубой, склады, финские домики военного городка, караульное помещение и гауптвахта. Мелькнули за колючей проволокой серебристые цилиндры ГСМ, и шоссе вынеслось в степь.
Колонна растянулась. Грузовики шли с равными интервалами, и казалось, что не катятся они, а неподвижно стоят на несущейся к горизонту ленте шоссе. Потом началась гонка.
Моторы взвывали, увеличивая скорость. Задние машины подтягивались и, настигая, обгоняя одна другую, приближались к передним, а те, маневрируя и газуя, не давали задним вырваться вперед. Колонна сбилась в плотный грохочущий ком. Азарт шоферов передался и нам – мы стояли по трое в каждом кузове.
– Давай, давай! – колотили по кабинам.
Мы держались друг за друга и пружинили ногами, когда кузов подбрасывало. Пилотки пришлось запихать в карманы, ветер рвал отросшие за зиму волосы. В кузовах гремели лопаты. Мы ехали в Котовск, за шлаком.
Шоссе было прямое и сверкало против солнца. Встречных не было, грузовики шли рядами. Отстающие медленно уползали назад и грозили кулаками, потом так же медленно ползли вперед, и тогда мы им грозили. Ничего не было слышно, кроме рева моторов.
– Давай! Давай!
Ряды ломались. Чтобы обогнать, вылетали за обочину и мчались без дороги. Степь неслась навстречу. Потом свернули с шоссе на проселок, и грузовики рассыпались в степи, как конница.
Грузовики мчались по степи, кренясь на поворотах, проваливаясь в низины и отчаянно взлетая на бугры. Машины бросало. Мы стояли в треплющихся кузовах, мы пригнулись к самым гривам и летели, гремя бортами, тройка за тройкой, обнявшись на широко расставленных ногах. Ветер оглушал, гимнастерки надувались шарами.
– Дава-ай!..
Котовск прятался в сосновом лесу, словно на дне колодца. Тихий городок наполнился громом, замелькали заборы. Машина за машиной врывались на территорию маленького завода, натужно карабкались между горами шлака и наконец остановились. Запахло перегретым металлом. Мы попрыгали на землю с лопатами в руках.
– Ого! – сказали. – Бери больше, кидай дальше…
Присвистнули. И полезли наверх.
Гора шлака, на которую мы влезли, была повыше заводских построек, но ниже сосен; мы облепили ее. Отсюда весь городок был – как на ладони. Мы стали бросать шлак, он громко ударился в пустые кузова.
Как только мы бросили первые лопаты, шлак под нашими ногами задымился: он был еще свежий и не прогорел. Серный запах перехватил дыхание.
– Понятно, – проговорил Сашка Платицын. – Других охотников не найдется. Эх, начальники!..
Но было не до разговоров. Скорость дороги все еще владела нами, и азарт гонки не прошел.
– Давай, чего там!
Дымящиеся горсти шлака так и полетели. Дым пошел гуще, стало трудно дышать. Вся наша гора окуталась дымом. Мы работали в сплошном дыму.
– Дымишься, гадина?
Гора кишела нами. Мы копали ее, как сумасшедшие, не видя друг друга, кидая наугад; шлак душил нас. Кто не выдерживал – скатывался, съезжал с горы, а отдышавшись, опять лез наверх, в пекло. Слышен был лишь спешный скреб лопат – он заглушал проклятия и кашель.
– Давай! Давай!
Лопаты захлебывались.
Конечно, это было глупо – так спешить, потому что работать предстояло весь день, и завтра, и послезавтра тоже; не работа была нам определена, а количество рабочего времени; торопясь, мы только прибавляли себе работы. Но мы спешили изо всех сил и в полчаса закончили погрузку.
– Хорош! – закричали снизу шоферы. – Хватит! Поехали!
Мы спустились, волоча лопаты. Гора дымилась, как действующий вулкан. Залезая в кузова, оборачивались: снизу наша работа представилась нам исполинской.
– Ну и ну! – удивились. – Как мы ее…
– Правду, значит, говорят: два солдата бульдозер заменят, а три – экскаватор.
– Ты-то, Генка, и за патефон сойдешь.
– На шлак не садитесь, – предупредил Сашка Платицын, – без порток останетесь.
Машины тронулись. Покачиваясь и гремя бортовыми цепями, выкатились в городок. Потянулись мимо заборов, крылечек, окошек с занавесками и геранью, развешанного на веревках белья. За каждой машиной вился дымок тлеющего шлака. Под голубой вывеской остановились, как по команде, и мы опять спрыгнули на землю.
Грязные, потные, ввалились в магазин. Там было темно и прохладно и было пусто.
– Сбрасываемся, парни!
– Ну, погнали!..
Пили у магазина, на улице. Бутылки, переходя из рук в руки, задирались донышками кверху.
– Давай!..
Выпили и пошли вдоль заборов.
– Ну и городок! Одни заборы. Хоть бы навстречу кто попался.
– А воздух! Тишина! Хорошо-то как, братцы!
– Попрятались они, что ли? Эй, люди!
– Смотри: чувиха! Девушка, идемте с нами! Ишь ты, улыбается…
– Ты на рожу свою погляди, Святой.
– А Жан прожег-таки задницу. Ты чего, Жан?
– Да так. Повело меня что-то с непривычки.
Мы гурьбой шли по улице, по самой середине. Шли, обнявшись, Наташов и Олежка Купалов, загорланили песенку из польского фильма:
Мы сидели близко, близко,
А бармен пел нам по-английски…
О, Сан-Франциско!
Нам было весело. Мы хорошо поработали и выпили, а теперь гуляли. В ушах все еще стоял грохот отчаянной гонки; от сумасшедшей погрузки гудели плечи. Это было не так уж глупо – что мы спешили.
Наши ЗИЛы, нагруженные доверху шлаком, ждали нас в конце улицы, на выезде из городка.
…По лесистому склону машины спустились к мосту. За рекой виднелась деревня, женщины полоскали на песчаной отмели. На мосту затормозили, и прямо с грузовиков мы бросились в воду.
Мы быстро раздевались и прыгали. Машины подходили одна за другой. Мост был уже забит, останавливались на спуске и, соскочив, бежали к берегу. На бегу срывали грязные гимнастерки. С хохотом и свистом врывались в реку, и река выплескивалась из берегов. Словно вихрь налетел: женщины с того берега исчезли.
– Дава-а-ай! – неслось над рекой.
Вода кипела между горячими телами. Блестящие, разные, все белые, только лица и руки черные – коротко мелькали с моста, с берега и с плеском и смехом выскакивали по пояс – разинутые рты, мокрые волосы, сверкающие брызги до неба… Выбегали и снова кидались. Лето было в разгаре.
Вода ласково обнимала – тугая, прохладная. Она была совсем не такой в начале апреля, когда грузовик свалился с понтона. Двое наших утонули тогда.
Весна в этом году пришла стремительно. Мы возвращались из дальнего караула, а река вскрылась за одну ночь и затопила пойму. Плыли льдины, заборы, деревья, было сильное течение. Мост снесло, но навстречу нам выслали саперов с амфибией и понтоном. Мы все оказались в воде: цеплялись за льдины, за вынырнувший понтон – кидали автоматы, потом вылезали сами. Объятия воды были злыми тогда и не хотели разжиматься. Двое не вылезли. «Двух автоматов не досчитались», – сказал Генка Черкасов. Длинный ряд сапог выстроился в коридоре санчасти. Через неделю выловили Гришку Сомова, и гробы стояли в клубе, но мы туда не ходили. С тех пор снимаем пилотки, когда случается проезжать по новому мосту. Это ниже по течению, на рассказовском шоссе.
…Смеясь и отплевываясь, выходили на берег. Толкались, шлепали друг друга по голым спинам. Разыскивали одежду и натягивали на мокрое. Грузовики ждали нас на мосту. За мостом виднелась деревня, а дальше лежала степь, по которой мы мчались утром. Это было совсем не глупо – что мы так спешили.
В этот день я, подобно Фрэнсису Макомберу, впервые почувствовал себя мужчиной.
* * *
30.11.1970. Экзамены я сдал. И вот сижу, размышляю: неплохо бы к аспирантской стипендии какой-нибудь приработок. Какой? Самое лучшее, думаю, – преподавать в своей художественной школе, которую окончил ровно десять лет назад… И тут – телефонный звонок: Нина Николаевна, директриса, отследив каким-то образом мою карьеру, предлагает вести историю искусства в старших классах. Вот это совпадение!
Сегодня я побывал там – занес трудовую книжку – и неожиданно встретился с Гераскевичем, которого помню по МГПИ: он учился на курс старше. Вернее, помню еще по вступительным экзаменам в Суриковском: мы с ним работали в одной мастерской, а потом, сталкиваясь в коридорах и на лестницах Худ-графа, просто раскланивались как знакомые. Зато сегодня, спустя восемь лет, мы бросились друг к другу как старые товарищи. Он ведет живопись в младших классах. Мы зашли в его класс и на этот раз познакомились по-настоящему.
Он крепок и медлителен, как штангист. У него темные волосы, гладко убранные назад в косичку, и темные блестящие глаза с застывшей в них напряженной отрешенностью, отчего они кажутся немного сумасшедшими. Все, кто сдавал тогда в Суриковский, знали, что он не поступит, и сочувствовали ему: слишком уж смело он работал; даже из других мастерских приходили смотреть.
* * *
24.12.1970. Сообщение в газетах: помер Шверник. Выбывают старики, на их место приходит третье, что ли, по счету поколение партийной бюрократии, выдвинувшееся во времена коллективизации и «развернутого строительства», те, кто сумел совместить идейность с волчьими законами и быстро шел вверх, распространяясь по каждой ступеньке, вытесняя, скидывая устаревших, не таких проворных, не таких беспринципных, – кто добрался наконец до самого сладкого пирога и теперь благодушествует, зорко при этом высматривая, как бы кто из соратников не отхватил больше положенного. Короче говоря, сейчас правят узкие, прямолинейные администраторы, которые, в отличие от предшественников, исповедовавших марксизм как религию, усвоили лишь несколько наиболее элементарных истин марксизма применительно к своему деловому и придворному опыту.
Марксизм – идеология практичной и прагматичной, главное – активной серятины. Он чрезвычайно удобен для нищих духом – своей простотой, убедительностью, чисто внешним сведением концов с концами, «диалектическими» возможностями, примитивными и громкими лозунгами – всей той осточертевшей поебенью, которая создает у серого человека иллюзию самостоятельной мысли, проницательности, несокрушимой правоты.
Есть истины, которые лучше всего познаются посредственными головами, потому что они вполне соответствуют им; есть истины, кажущиеся привлекательными и соблазнительными посредственным умам…
Ницше. По ту сторону добра и зла. VIII. 253
Читая «Вехи», я поразился 60-летней пропасти, провалу в нашем мышлении. На той стороне пропасти была – мысль. Она была свободна и смела, она не боялась ошибиться, а главное – она жила, она двигалась…
С тех пор мыслители разделились на две категории: попки без конца повторяют одни и те же затверженные формулы, упирая главным образом на то, что «учение Маркса всесильно, ибо оно верно», а дятлы уныло долбят в одну точку, пытаясь приспособить эти формулы к новым веяниям. Они правы, они всегда правы, прав любой тупица, постулирующий, что «бытие определяет сознание» или «история есть борьба классов», – это правота стены, выстроенной идиотом поперек проезжей дороги.
– Соблазнительно ясно, и думать не надо! Главное – думать не надо! Вся жизненная тайна на двух печатных листках умещается!
Достоевский. Преступление и наказание. III. 5
«Начинаешь ненавидеть все правдоподобное, когда его выдают за нечто непоколебимое», – говорит Монтень. Черт возьми! уж лучше верить в то, что заведомо нелепо.
– Да, я сознательно выбрал эту упрямую слепоту в ожидании того дня, когда буду видеть яснее.
Камю. Чума
Но дятлы несомненно умнее попок. Вынужденные противостоять мыслящему, то есть гибкому и разнообразному противнику, но связанные в то же время необходимостью приходить к заранее известным выводам (вроде того, что коммунизм есть неизбежная цель всемирной истории, а сталинщина была лишь временным искажением ленинских идей), они превратили марксизм в изощренную схоластику; до «бога» им уже дела нет, да они в него и не верят, – с лихорадочной поспешностью перехватывают они чужую терминологию, по-своему интерпретируют чужие успехи и одерживают пирровы победы в идеологических боях. Они уступают пядь за пядью, маскируя уступки потоком софистических тонкостей. Приспосабливая марксизм, они его видоизменяют и постепенно изменят до неузнаваемости – до того, что его нельзя будет и дальше называть марксизмом. В конце концов принципиальные установки и предопределенные выводы полностью отделятся от самого хода усложнившегося мышления.
Когда-нибудь это «развитие» взорвет догматизм изнутри. Может быть, это произойдет незаметно. Может быть, на смену этому догматизму явится другой, более утонченный и вместе с тем более откровенный, который прямо скажет: я господствую не потому, что прав, а потому, что за мной сила, и оттого я прав, а вы мне покоряйтесь, хоть я и знаю, что вы не только думаете, но и не можете не думать иначе. Вероятно, это произойдет лет через 10–20, когда сегодняшние старики будут вытеснены поколением нынешних молодых карьеристов, лицо которых уже вполне определилось. Их откровенное стремление к правовой и моральной вседозволенности сочетается со своеобразной «прогрессивностью» – идеологической гибкостью, переходящей в цинизм (хорошо все то, что позволяет пользоваться неограниченными благами, а для этого власть – лучшее средство). Короче говоря, окончательно сложился тот специфически советский тип шкурника, о котором предупреждал Бердяев как о закономерном следствии господства бюрократии.
Критерий качества державы –
успехи сук и подлецов;
боюсь теперь не старцев ржавых,
а белозубых молодцов.
Губерман. Гарики
Теперь это господство все откровеннее заявляет о себе как о самодовлеющей цели, и тот, кто осознал это, не нуждается уже не только в «идеях», но и в устаревших догмах, – он просто пользуется прямыми средствами для достижения цели. Даже демагогия ему не нужна (если он и пользуется ею, то только для формального приличия), потому что в своем стремлении к власти он опирается на сложившийся социальный слой таких же шкурников. Их и обманывать не надо, их устраивает все, что содействует личному благополучию. К остальному они равнодушны, они просто не желают ничего знать.
1
Мама употребляет наше студенческое прозвище моего научного руководителя Михаила Андреевича Ильина (1903–1981), выдающегося ученого, историка искусства, доктора искусствоведения, профессора отделения истории искусств Исторического факультета МГУ.