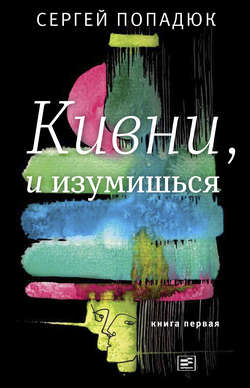Читать книгу Кивни, и изумишься! Книга 1 - Сергей Попадюк - Страница 4
1971
Оглавление* * *
26.01.1971. Вот уже полтора месяца провожу занятия в художественной школе. Ребята, как я и ожидал, замечательные; отсидев полдня в общеобразовательной школе и другие полдня – на живописи или рисунке, вечером они являются ко мне, в угловую комнату с полукруглой стеной, хотя никто их не неволит (занятия факультативные); и уж для тех, кто приходит, я выкладываюсь полностью, до донышка, ничего не оставляю про запас. Слушают внимательно, а когда я, потеряв, по неопытности, самообладание, проваливаюсь в косноязычие или, запнувшись, долго мычу в поисках нужного слова, они ободряюще мне кивают. Некоторые даже конспектируют лекции, хотя трудно различить – конспектируют или пользуются мною как бесплатной моделью для набросков.
Читаю им историю древнерусского искусства. Очень удачно получилось: книга, которую мне заказали в «Искусстве», – популярное издание, предназначенное как раз для таких же мальчиков и девочек, – движется параллельно с моими занятиями. Три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам – повторяя одно и то же (для разных групп), я постепенно совершенствую свой импровизированный текст и, кроме того, прихожу к его пониманию. Когда объясняешь что-то, что, как тебе кажется, ты отлично знаешь, – только тогда и начинаешь понимать это по-настоящему.
Да, да, сначала объясним, а потом поймем – слова за нас думают. Начнешь человеку объяснять, прислушаешься к своим словам – и тебе самому многое станет яснее.
Вагинов. Козлиная песнь
Когда перед ожидающими глазами аудитории ты вынужден сейчас, сию минуту найти нужное слово, все твое существо, сконцентрировавшись, делает неимоверное усилие, и слово находится быстрее, чем за письменным столом. И садясь в субботу к письменному столу, я записываю уже почти готовое.
* * *
С тех пор, как я приступил к этим занятиям, жизнь моя вошла в колею, стала внутренне оправданной.
Оправданий для бездействия всегда можно найти сколько угодно, одно только дело само себя оправдывает.
…Увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это – доля его…
Екклесиаст. III. 22
Постоянно, изо дня в день, с душой и с полной отдачей сил выполняемое дело становится твердой основой поведения, которая в любых обстоятельствах позволяет действовать однотипно, а вместе с тем и свободно, и не колебаться при выборе.
– Добудьте Бога трудом; вся суть в этом, или исчезнете, как подлая плесень; трудом добудьте.
Достоевский. Бесы. II. 1. 7
В наши дни это особенно важно. Нет, кажется, человека, который был бы согласен с существующим порядком, вернее беспорядком, вещей: нравственная природа не может с ним мириться. Но и те, кто пытается противодействовать ему (абсолютное меньшинство), и те, кто к нему приспосабливается, действуя в его духе, лишь увеличивают беспорядок. (В данном случае не важны мотивы, двигающие теми и другими, – важно общее направление происходящего «прогресса», которое они вряд ли сознают, ослепленные своими ближайшими целями, но которому, тем не менее, объективно способствуют.) Я уж не говорю об аморфном, равнодушном большинстве, которое своей социальной тяжестью стабилизирует существующее положение, но в критический момент способно сразу значительно усилить амплитуду противоречий, превратив беспорядок в хаос.
Что толку, что моя политическая проницательность предугадывает пришествие какого-нибудь Бонапарта? Я, значит, должен немедленно стать бонапартистом и включиться в борьбу за ускорение и успех этого пришествия? А если я якобинец и мои убеждения заставляют меня всеми силами противодействовать бонапартизму? Тогда, включившись в борьбу на противоположной (обреченной) стороне и побуждая таким образом противника к консолидации его сил, я все равно – как это становится ясно задним числом – буду способствовать победе Бонапарта. Такова логика истории.
А вот ее мораль: если ты предвидишь неизбежный ход истории, ты должен сделать так, чтобы твои интересы совпали с этим движением, ты должен связать их с идущей наверх и побеждающей силой; только тогда ты окажешься на гребне событий и сможешь подчинить их себе, только тогда твоя воля получит полное применение. Такова свобода по Энгельсу. Учение «марксидов» и впрямь всесильно… ибо оно конформно.
Нет ничего более лживого, чем порочное суеверие, оправдывающее преступления волей богов.
Тит Ливий. История от основания Рима
(Не надобно забывать, что любимым героем Маркса был Прометей – единственный из титанов, кто сражался на стороне богов, потому что предвидел их победу. Правда, это не помогло ему обмануть Зевса, когда настало время делить жертвенного быка.)
Но Бонапарты приходят и уходят, революционеры уничтожают контрреволюционеров, потом друг друга, потом их уничтожают рвущиеся к власти последователи. Эти приспосабливаются к любым условиям и в любых условиях выплывают на поверхность.
Плоды смуты никогда не достаются тому, кто ее вызвал; он только всколыхнул и замутил воду, а ловить рыбу будут уже другие… Но если зачинатели и приносят больше вреда, нежели подражатели, то последние все же преступнее первых, ибо они следуют образцам, зло и ужас которых сами они ощутили…
Монтень. Опыты. I. 23
И остаются бесчисленные безликие массы, силами и интересами которых пользуются и манипулируют преходящие Бонапарты – тот самый мифический «народ», который кровью своей без конца оплачивает политические игры…
Послушаем лучше Герцена: «…Я не советую браниться с миром, а начать независимую, самобытную жизнь, которая могла бы найти в себе самой спасение, даже тогда, когда весь мир, нас окружающий, погиб бы. Я советую вглядеться, идет ли в самом деле масса туда, куда мы думаем, что она идет, и идти с нею или от нее, но зная ее путь; я советую бросить книжные мнения, которые нам привили с ребячества, представляя людей совсем иными, нежели они есть. Я хочу прекратить “бесплодный ропот и капризное неудовольствие”, хочу примирить с людьми, убедивши, что они не могут быть лучше, что вовсе не их вина, что они такие». И дальше: «Вместо того, чтоб уверять народы, что они страстно хотят того, что мы хотим, лучше было бы подумать, хотят ли они на сию минуту чего-нибудь, и, если хотят совсем другое, сосредоточиться, сойти с рынка, отойти с миром, не насилуя других и не тратя себя. Может, это отрицательное действие будет началом новой жизни. Во всяком случае это будет добросовестный поступок».[2]
А затем следует великолепный этюд об «иностранцах своего времени» – позднеримских философах, живших между умирающим языческим миром и нарождающимся христианством, одинаково чуждых тому и другому, чувствовавших себя «правее обоих и слабее обоих»: «…Разве те, которые… были тверже характером и умом и не хотели спасаться от одной нелепости, принимая другую, достойны порицания? Могли ли они с Юлианом Отступником стать за старых богов или с Константином за новых? Могли ли они участвовать в современном деле, видя, куда идет дух времени? В такие эпохи свободному человеку легче одичать в отчуждении от людей, нежели идти с ними по одной дороге, ему легче лишить себя жизни, нежели пожертвовать ее. (…) Неужели человек менее прав оттого, что с ним никто не согласен? да разве ум нуждается другой поверки, как умом? И с чего же всеобщее безумие может опровергнуть личное убеждение? (…) Мудрейшие из римлян сошли совсем со сцены и превосходно сделали. Они рассеялись по берегам Средиземного моря, пропали для других в безмолвном величии скорби, но не пропали для себя – и через пятнадцать столетий мы должны сознаться, что собственно они были победители, они единственные, свободные и мощные представители независимой личности человека, его достоинства. Они были люди, их нельзя было считать поголовно, они не принадлежали к стаду – и не хотели лгать, а, не имея с ним ничего общего, – отошли. Одно благо, остававшееся этим иностранцам своего времени, была спокойная совесть, утешительное сознание, что они не испугались истины, что они, поняв ее, нашли довольно силы, чтоб вынести ее, чтоб остаться верными ей.
– И только.
– Будто этого не довольно? Впрочем, нет, я забыл, у них было еще одно благо – личные отношения, уверенность в том, что есть люди, так же понимающие, сочувствующие с ними, уверенность в глубокой связи, которая не зависима ни от какого события…»[3]
…И сия есть победа, победившая мир, вера наша.
Ин. I. 5. 4
Не Прометей наш герой, но Геракл – странник и добросовестный труженик, истребитель чудовищ, богоборец.
Скобари
Они совершенно таковы, какими увидел и описал их Герберштейн в XVI веке и какими сами они предстают в своих летописях, – мягкие, терпимые, открытые всему, умеющие, в отличие от самолюбивых, взрывчатых новгородцев, подтрунивать над собой. Вот, хотя бы, пассаж о начале военных действий 1407 года: «Князь Данила Александрович и посадник Юрьи Филипович, подъемше всю свою Псковскую область, поидоша в Немецкую землю… и поимаша на рубежи на Серици 7 немчинов»[4]. (Стоило ли поднимать всю Псковскую область, стягивая ополчение из Порхова, Гдова, Изборска, Опочки и других «пригородов», чтобы поймать в результате семерых «немчинов»…) Так и чудится простодушно-ироническая усмешка! Но за простоватой внешностью – живой, практичный ум, такт и врожденная культура, за уважительной уступчивостью – бесстрашие и стойкость. Чего стоит одна только история с несчастным Александром Михайловичем, тверским князем, искавшим в Пскове защиту от Калиты, который подступал к городу с войском, выполняя повеление хана Узбека – изловить и доставить беглого мятежника. Но псковичи сказали: «Не ходи, князь, в орду, и аще что будет на тебе, то изомрем с тобою во едином месте». И стояли бы до конца, если бы не встречное благородство князя Александра.
Местный тип… Это мое бескорыстное увлечение, «наука для себя».
Везде, где бы я ни оказывался, я стараюсь составить о нем представление – о его облике и характере, о его далеких предках, которые впервые пришли сюда, смешавшись с коренным финским племенем, позаимствовав у него названия рек, озер, оврагов, урочищ и дополнив их своими именами, протоптали дороги, наполнили окрестности своим говором и оставили в наследство потомкам отличительные родовые черты. Эти «типы» сохраняются еще в российской глубинке, не затронутой демографическими перемещениями последних столетий; но даже в райцентрах и более крупных городах среди попадающихся навстречу прохожих вдруг какое-то лицо привлекает внимание особой индивидуальностью, потом другое, третье, а через некоторое время замечаешь, что эти особенные лица чем-то сходны между собой… Это и есть местный «тип»: медлительный, надежный, положительный переславец с сильными надбровными дугами, коротким прямым носом и длинной подвижной верхней губой; или вздорный белоголовый ростовец с сужающимся книзу лицом, белесоватыми голубыми глазами и бестолковой речью; или бойкий, деловито-лукавый ярославец, явный пришелец с юга, сохранивший темные волосы, темные брови и темную опушку светлых глаз; или беспокойный, подозрительный, насмешливый курянин (потомок служилых москвичей) с крикливый матерной скороговоркой…
Но лучше всех – псковичи, простодушием, честностью, отсутствием всяческой фанаберии заслужившие свое пренебрежительное прозвище, приветливые, восприимчивые, отзывчивые, строители милостью божьей, умевшие так приспособить свои постройки к разнообразным потребностям жизни, что Ле Корбюзье с его «машиной для жилья» умолкнул бы от зависти, да еще несколькими штрихами, свободными и точными, придать им особенную изящную теплоту и так же легко, при случае, согласовать свой язык с чужим и на этом новом языке опять сказать нечто свое, неповторимое… И только многопролетные звонницы, похожие на отрезки неприступных крепостных стен, с живописной непринужденностью прикомпонованные к скромным псковским храмам, вдруг обнаруживают скрытую сущность псковичей, которые в одиночку в продолжение трех веков стойко сдерживали непрерывный, изо дня в день, натиск Литвы и Ливонского ордена, заслоняя западные рубежи нашей Родины.
Пустошь Ширинье
Это был первый день, когда вслед за ударившим морозом повалил снег. Мелкая белая крупа то носилась, гонимая студеным ветром, перед лобовым стеклом «газика», то исчезала, уступая место унылому черно-белому пейзажу.
Прошел уже час, как мы поняли, что заблудились. Наш «газик» рыскал в нескончаемом лесу где-то на стыке трех районов. Ухабистый проселок бежал навстречу, виляя, время от времени раздваиваясь. Ни деревень, ни путника, у которого можно было бы спросить дорогу… Водитель Серега Зайцев уже не сыпал анекдотами; на заднем сиденье, где Каменев балагурил с двумя девицами, тоже примолкли. «Газик» с трудом выбирался из каждой новой рытвины, Серега вел машину с подчеркнутым безразличием – после того как холодно объявил нам, что бензина осталось километров на пять, не больше. Я сидел рядом с ним, на месте Комеча, который на субботу-воскресенье укатил читать лекции в Новгород. Воспользовавшись его отсутствием, Коля с Серегой пригласили в эту поездку своих ярославских подружек.
Проселок опять раздвоился. Я только открыл было рот, чтобы сказать: «Давай налево», – как Коля сзади скомандовал:
– Вправо езжай!
Дорога пошла вниз, и там, на дне лощины, чернела в снегу большая лужа. Серега медленно подвел к ней машину, высматривая объезд, а потом дал газ.
Это была не лужа, а заболоченный ручей, слегка подмерзший и присыпанный снежком. Мы завязли в нем, погрузившись в жидкую грязь по самые дверцы. Черт меня дернул махнуть на все рукой и уступить Колиному легкомыслию! Пришлось вылезать прямо в воду и приниматься за извлечение «газика».
Первые усилия ничего не дали. Чем больше мы толкали и раскачивали буксующую машину, тем безнадежнее она увязала. Тогда мы послали Люду с Мариной вперед по дороге – искать помощь, а сами взялись за дело всерьез. Мы копали ил на дне ручья, таскали из леса охапки хвороста и подсовывали под колеса, Серега газовал вперед и назад, поднимая фонтаны грязи, – все было бесполезно. От ледяной воды сводило руки, вода захлестывала за голенища, и промокшие ноги стыли в сапогах… Так продолжалось часа два, и конца не предвиделось. Падал снег, начинало темнеть. Мы выбились из сил и не знали, что делать. Тут-то она и появилась – Тарова Анна Ивановна, тетя Нюша.
Это было как в сказке. Совсем павшие духом, но еще бьющиеся над намертво увязшим «газиком», мы не сразу заметили, что она давно стоит, наблюдая за нами, – неизвестно откуда взявшись в окружающей нас глухой чащобе, – высокая старуха с яркими голубыми глазами, в сапогах и телогрейке, опираясь на длинный посох. Потом я услышал, как она негромко проговорила про себя:
– Люди в беде – надо помочь.
И полезла в воду. Позже, познакомившись с нею поближе, мы поняли, что она вся была в этой непреклонной фразе.
Вместе с нами она стояла в ледяной воде по колено, плечом стараясь вытолкнуть машину из густого ила, таскала охапки хвороста, материлась от бессильной ярости, даже колотила нас по спинам своей клюкой, чтобы мы работали дружнее и не опускали рук. Убедившись в тщетности всех усилий, она приказала мне:
– Пошли-ко со мной!
Неприметной тропинкой она вывела меня к брошенной деревушке километрах в двух от нашего бедствия и, пошарив в одном из сараев, сунула мне в руки ломик:
– На-ко фомич, лезь на крышу, доски отдирай.
Нагруженные досками, мы вернулись к машине.
Но и доски не помогли. Крутящиеся колеса «газика» мгновенно загоняли их в ил, и одна за другой они исчезали бесследно. Было уже совсем темно, и Серега включил фары. Со всех сторон из леса доносился треск: появились дикие кабаны. Чтобы отпугнуть их, а нам заодно хоть немного согреться, Анна Ивановна разложила на берегу большой костер. Ночь сгустилась.
Девчонки наши все-таки не зря ходили. Несмотря на воскресенье, они разыскали где-то шофера с ЗИЛом-цистерной, который согласился прийти нам на помощь, приехал, мотаясь фарами по лесу. Он остановил машину на противоположном берегу ручья, не выключая фар, светивших навстречу фарам нашего полуутонувшего «газика», и выпрыгнул из кабины. Это был совсем молодой детина, огромный, широкоплечий, сразу видно, привычный к передрягам вроде той, в которую мы попали (в отличие от нашего Сереги, лихого гонщика на шоссе, но неопытного в условиях российского бездорожья).
– Как же это вас угораздило в бочаг? Надо было левее брать, там и труба положена, а здесь у нас даже трактора не ходят…
По бокам цистерны были принайтовлены бревна. Отвязав их, мы под руководством детины занялись «вывешиванием мостов», причем основную работу выполнял он, так как мы к этому времени совсем выдохлись. Перед его силой, энергией, сноровкой как-то отступили холод, лес, темнота, кабаны, угрожающе трещавшие по кустам, и сама безнадежность нашего положения.
Мы складывали бревна перед радиатором «газика»: два коротких вдоль и одно длинное поперек; опираясь на эти козлы четвертым бревном, мы подсовывали его конец под бампер и, навалившись, как рычагом, приподнимали им передний мост машины. Оставшимися досками и хворостом гатили дно ручья под «вывешенными» колесами, потом разбирали козлы и повторяли всю операцию с задним мостом. После чего детина залезал в кабину ЗИЛа, задним ходом сдергивал «газик» тросом с гати на полметра вперед, и все начиналось сначала: передний мост, задний мост, доски, хворост, рывок и еще полметра.
Через несколько часов такой работы «газик» был дотянут до берега и уперся бампером в глинистый откос. Мы срыли откос лопатами, но дальше машина не шла. Помочь мог только сильный рывок тросом, но тонкий трос для этого не годился; приходилось тянуть мягко, с места, а на это мощности ЗИЛа не хватало. Обе машины рычали, впустую крутя колесами, тряслись от напряжения и не двигались, а мы, совсем обессиленные, просто висели на «газике», делая вид, что толкаем. Потом раздавался треск, летели искры, и ЗИЛ по инерции отлетал в кусты – трос не выдерживал. Так повторялось много раз. Я связывал оборванные, разлохмаченные, колющиеся концы и, зажав их в кулаках, ждал, когда ЗИЛ, отъехав, натянет трос. В перекрестном свете четырех фар я тупо смотрел, как мои посиневшие бесчувственные кулаки вместе с концами троса вползали в затягивающийся узел… Узлов появлялось все больше, и трос становился все короче; наконец он укоротился настолько, что ЗИЛ начал соскальзывать с глинистого откоса, рискуя тоже завязнуть в ручье.
Еще бродили, шлепая по воде, освещенные фарами фигуры, еще ездил я с детиной на его ЗИЛе к каким-то заброшенным сараям в поисках хорошего троса, но уже ясно было, что ничего больше сделать нельзя. Восемь часов прошло, как мы засели в этой трясине.
– Давай-ко, Федор, вези их ко мне, – решила Анна Ивановна. – Смотри, как продрогли… До утра «газон» никуда не денется. А утром трактор найдем.
Коля с Серегой и девчонки кое-как пристроились на цистерне, Анна Ивановна села в кабину, я встал на подножку, и мы помчались. Машину трясло и бросало, изо всех сил я цеплялся за дверцу кабины, обледеневшие подошвы соскальзывали на ухабах.
Была уже глубокая ночь. Анна Ивановна зажгла керосиновую лампу и приказала нам лезть на печь – греться, а сама занялась приготовлением ужина. Я помогал ей: чистил картошку, резал лук, – за это, должно быть, она меня и полюбила. А может, просто пожалела за одиночество. Не отрываясь от готовки, она доверительно рассказывала мне о себе.
Отец ее – знаменитый И. Е. Кузнецов, бывший фабрикант фарфора и фаянса, сама она работает парикмахером в Ярославле, а эта ее избушка, в которой она нас приютила, – что-то вроде дачи.
– Хорошо здесь летом. Многие у меня гостят. И Валентина с Андрианом не раз бывали…
– Что за Валентина? – насторожился я (это имя не в первый раз всплывало в ее рассказе).
– Терешкова, племянница моя. Простая, работящая была девка, да слава ее испортила…
Соседей своих деревенских она не любит.
– Вы пойдите-ко сейчас, постучите кому-нибудь в окно: мы, мол, голодны, замерзли, ночевать негде, – думаете, впустят вас? И не надейтесь. Они больными скажутся, несчастными: у самих, мол, ничего нет… Отговорятся. А по мне – помогать надо людям. Для того и живем. Что ж, что нет… А у того, кто в беду попал, еще больше нет. Поделись с ним хоть чем-нибудь – уже ему легче. А еще лучше – сними с себя последнюю рубашку. Вот как я думаю. Да вы знаете ли, – неожиданно закончила она, повышая голос, чтобы все слышали, – знаете ли, куда вас занесло? Ведь на том месте, где вы в трясине завязли, татары когда-то Василька Константиновича ослепили, князя нашего. Битву проиграл, но врагам не покорился. И веру чужую не принял. Вот так-то.
После ужина, устраивая нас на ночлег, Анна Ивановна спросила насмешливо:
– Да вы хоть женаты между собой?
Ей ответили что-то невнятное. Коля с Людой опять полезли на печь, а Серега с Мариной устроились на единственной кровати; мне пришлось лечь с краю. Для себя Анна Ивановна разложила раскладушку и погасила лампу. Послушав начавшуюся в темноте возню, она воззвала ко мне:
– Сережа, тебе же спать не дадут. Перебирайся, что ли, сюда, на раскладушку…
Я притворился спящим и тут же действительно заснул. Я заснул так крепко, что не почувствовал, как ранним утром, еще до света, Серега перелез через Марину, через меня, оделся и ушел за трактором.
Убедившись уже на своем опыте в действенной силе тети Нюшиной философии, мы продолжали убеждаться в ней и на следующий день. Когда Серега подогнал к дому оживший «газик», Анна Ивановна попросила подбросить ее до шоссе. В деревнях, через которые мы проезжали, она останавливала машину, и вокруг нас тотчас собиралась толпа. Люди выходили приветствовать Анну Ивановну, в этих местах все были ее знакомцами. Одна женщина говорила ей:
– Тетя Нюша, помоги, ради бога. Девчонка моя, Танька, – ты ведь знаешь ее – в Ярославле на завод устроилась. Жить-то надо, любую работу делать готова. А ее в вохру определили – на вышке ночью с ружьем стоять. Она же молоденькая совсем, ей восемнадцати нет… Приезжала – плачет: мама, не могу, мама, страшно!..
– Завод – какой? – перебивает Анна Ивановна. – А, знаю. Там Паша Савинов директором. Я скажу ему.
– Скажи, тетя Нюша, скажи, уж мы в долгу не останемся.
– О чем ты говоришь, Марья! – сурово произносит Анна Ивановна, и мы трогаемся дальше.
Но больше было облагодетельствованных: Анну Ивановну благодарили за помощь, за хлопоты и зазывали в гости.
* * *
29.10.1971. Эта экспедиция проложила во мне какой-то рубеж, не слишком резкий (видимо, уже подготовленный), но достаточно заметный. Я вернулся оттуда не совсем таким же, каким уезжал.
Перемене, кроме всего прочего, способствовали жестокие споры с Комечем. Жестокими, вероятно, они казались только мне, поскольку не было у меня той уверенности в своей правоте, какой обладает Алексей Ильич. Я умолкал, чувствуя всю глубину и принципиальность наших разногласий, не обнаруживая никакой возможности их примирения; а может быть, больнее всего на меня действовала самоуверенность тона – тон истины в последней инстанции. Ну ни малейшего сомнения, ни малейшего допущения другой точки зрения! И даже не в Комече дело. Все они – мои теперешние так называемые коллеги – судят столь же безапелляционно, прямо авгуры какие-то, обладатели внушенного свыше знания… И ни с кем из них нет у меня согласия.
Они казались мне людьми какой-то высшей природы, высшего постижения, высшей учености, чем я, и в то же самое время одной половинкой мне стыдно было за себя и другой половинкой за них: я и уважал их, и тяготился ими, и даже потихоньку смеялся над теми, кто из них был выше других.
Пришвин. Дневник. 14 октября 1926 г.
Но нет, повторяю, и уверенности в своей правоте.
Эти споры утвердили меня в моем окончательном одиночестве. Если раньше я мог позволить себе смотреть на искусствоведов как бы из лагеря художников, а до споров с Комечем – на художников из лагеря искусствоведов, то теперь почувствовал полное с обеих сторон отчуждение и с этим теперь живу.
* * *
30.11.1971. Лег вчера спать с мыслью начать жизнь сначала. Секрет возникновения подобных решений состоит в том, что в самой последней точке своего падения человек, коснувшись дна и поняв, что дальше падать некуда, отталкивается от него и опять выплывает.
Для тех, кто пал на низшую ступень,
Открыт подъем и некуда уж падать.
Шекспир. Король Лир. IV. 1
Воли, самостоятельности во всем этом мало, а скорее, имманентное развитие жизни, которая подсовывает человеку повод, изменяющий внутреннее состояние. Вчера таким поводом стало внезапно напавшее на меня сильное недомогание и крайний маразм, в котором я пребывал целый день, а вслед за тем столь же неожиданное загадочное выздоровление и «Жизнь Толстого» Ромена Роллана, которую я раскрыл где-то в час ночи.
Так активность рождается из пассивности, так лошадь стучит копытом – и так приходит воспоминание – рождается греза: между действиями. Усталость чувств исполнена творческой силы.
Валери. Тетради
Но уже и мое «я» перестает меня заботить. Без особенной горечи, как-то до обидного незаметно, пережил я крушение всех своих надежд. Я просто расстался с ними. Я даже не заметил, когда они вышли из поезда. В какой-то момент я оглянулся и увидел, что я – один.
* * *
Возобновились мои занятия в художественной школе. Одна из сквозных идей, которые я пытаюсь внушить ученикам, – стилистическое единство каждой рассматриваемой нами эпохи, единство, связывающее между собой разные виды искусства.
Воистину поразительно и таинственно то тесное внутреннее единство, которое каждая историческая эпоха сохраняет во всех своих проявлениях. Единое вдохновение, один и тот же жизненный стиль пульсирует в искусствах, столь несходных между собой.
Ортега-и-Гассет. Дегуманизация искусства
Когда я замечаю, что мои слушатели утомились, я позволяю себе отвлечься на посторонние сюжеты, далекие от нашего материала. Казалось бы, далекие. Потому что на самом деле далеких сюжетов не бывает. Все стороны жизни, все свершения людей каждой эпохи связаны между собой неким характерным единством – общим кругом идей и способов их воплощения. Это единство с особенной наглядностью выступает при сближении «далековатых» явлений.
Вот, например, фаланга. Когда дорийцы противопоставили этот четко организованный линейный строй беспорядочной массе нападающих варваров, сразу добившись качественного преимущества, это знаменовало торжество архаического стиля над первобытным натурализмом. Затем Эпаминонд при Левктрах, растягивая свою жиденькую фалангу против внушительной (вследствие численного превосходства) фаланги спартанских гоплитов, выстраивает позади левого фланга глубокую, в 50 шеренг, колонну и ударом этой колонны, а также маневром «священного отряда» из глубины сокрушает фланг Клемброта. (При Мантинее он уже все свое войско выстраивает колонной и проламывает ею фалангу антифиванских союзников.) Одоление сильнейшего противника достигается сосредоточением и перевесом сил в одном только пункте – это свободное, асимметричное перераспределение и сопоставление усилий, завершившее эпоху классики и само ставшее классикой тактического искусства, так же отличается от жесткого геометрического схематизма архаики, как «Дорифор» Поликлета от «Аполлона Тенейского». И наконец, Александр, который при Гавгамелах, пропустив сквозь свои ряды налетающие серпоносные колесницы персов, контратакует плотным кавалерийским строем с загибающегося назад фланга охват превосходящих конных масс противника и раскручивает сражение в обратном направлении широким завитком, вихреобразным рейдом по тылам персидского войска от одного фланга к другому, на помощь теснимому Пармениону, а затем, оставив македонскую фалангу довершать дело на месте, гонит Дария 80 километров, до самых Арбел, – разве не находит это стилистического соответствия в разомкнутой в пространство живой подвижности «Апоксиомена» и леохаровой «Дианы-охотницы», открывших эпоху эллинистического «барокко»?
Можно еще сравнить «классицизм» Суворова, прямо, стремительно, этап за этапом, идущего к победному результату (Рымник), с «романтизмом» Кутузова, который сложными, парадоксальными маневрами заманивает противника в ловушку (Рущук)… Подобные экскурсы, пусть рискованные и поверхностные, будят, мне кажется, воображение ребят, приучают их к широте взгляда, заставляют отыскивать новую, неожиданную сторону известных явлений.
* * *
А те «проклятые» вопросы, которые волнуют нас в юности, – они ведь уходят не потому, что мы нашли ответы на них. Они просто замещаются другими вопросами, более узкими, более конкретными, более трезвыми и прозаическими. А к старости, должно быть, вдруг увидишь, что их и вовсе нет – тех «проклятых» вопросов, – что они сами собой как-то решились всей прожитой жизнью. И с ласковой снисходительностью будешь слушать, как твой внук задает тебе эти же вопросы.
Бухара
«О, надкусанный Восток!» Я старался не замечать его экзотики, вернее не воспринимать его как экзотику, хотя С. Н. Юренев, с которым я провел вечер в его комнатке в Кош-медресе, признался, что за всю свою жизнь в Бухаре так и не утратил ощущения экзотики Востока.
Но меня прельстил стиль жизни.
Тысячи людей, собравшихся на пятничную молитву и заполнивших просторный двор мечети (снятая обувь, аккуратно разложенная, покрывает всю улицу перед входом), ровными рядами в полном молчании сидят, опустившись на пятки, на своих ковриках-намазлыках. По возгласу муллы они разом надолго сгибаются в общем поклоне и снова опускаются на коврики. Здесь только мужчины – сплошь голубые халаты и скрученные вокруг головы розовые платки. Каждый сам по себе, но все вместе – единое целое. Поражает дисциплина и сосредоточенная тишина многолюдного – плечом к плечу – намаза. (Сравните с нашей теперешней церковью, где шушукаются, переходят с места на место, злобно толкаются, вразнобой бухаются на колени и – кто в лес, кто по дрова – завывают молитву.) Огромный пештак входа, вдруг возникающий в узкой улочке среди глинобитных стен, да еще купол над михрабом – больше ничего. Небо над головой – и ничего! Ничего, что навязывалось бы как зрелище, как принудительная направляющая инстанция между человеком и Всевышним.
В чайхане они сидят кружком, поджав под себя ноги, и прихлебывают чай, как бы продолжая молчаливый ритуал, – коричневолицые, бородатые, с остановившимися глазами, похожими на драгоценную инкрустацию. Проходишь, пересекая линию взгляда, – ни веки, ни зрачки не реагируют. Каждый погружен в себя в отрешенной неподвижности, допускающей право соседа на такую же сосредоточенность или наркотическое забытье; но при этом чувствуется общая готовность мгновенно опять сплотиться в единое целое – внезапным и непонятным (для нас) всплеском страстной жестокости.
Они живут в крошечных замкнутых двориках, тесно прижатых друг к другу, но полностью изолированных и от улицы, и от соседей. Полная противоположность нашей широко разбросанной деревне, где пристрастно и не всегда по-доброму наблюдают за жизнью соседа, в подробностях знают его привычки, обсуждают слабости, считают достаток, где общественное мнение вторгается в самые интимные углы, подчиняя себе каждый шаг человека, – совсем другой механизм формирования национальной психики.
…Тут непременно проведешь параллель, которая и есть искомый результат путешествия.
Гончаров. Фрегат «Паллада»
Понятно, почему Юренев за долгие годы жизни среди них так и не утратил ощущения экзотики. Разыскивая его в заброшенном медресе в глухой части города, я наугад постучался в одну из худжр; средних лет узбек долго не мог понять, кто мне нужен, потом, сообразив, воскликнул: «А, Ата!» (именно так – почтительно, с большой буквы: Отец!). Сам проводил к Сергею Николаевичу и, кланяясь в пояс, передал меня ему, так сказать, с рук на руки. А старый лагерный волк, прежде чем начать со мной общаться, долго, придирчиво расспрашивал о «наводке» и, записав мои показания на бумажке, нанизал ту бумажку на торчащий из стены гвоздик.
* * *
Дашенька, по-моему, принадлежит к числу тех женщин, которых добиваются не ради обладания ими. Здесь возможно метафизическое объяснение: ее тело представляет такое совершенство, более того – сладостное совершенство, что само по себе обладание им кажется кощунством, оно просто несоизмеримо с теми – эстетическими – возможностями, которые заключены в этом теле.
Но человека лицо и вся его яркая прелесть
Тела насытить ничем, кроме призраков тонких, не могут.
Лукреций. О природе вещей. IV. 1094–1095
Тут надобно просто «смотреть за ограду», и только борьба за обладание и связанные с нею «мильон терзаний», а главное, сладостная надежда, постоянно питающая эту борьбу, сами себя вознаграждают.
…Ибо в этой ужасной страсти все созданное воображением становится действительностью.
Стендаль. О любви
Но дело – проще. В действительности не могу я себе представить жизни с ней – тех нитей, помимо физической близости, которые соединяли бы нас. Она в моем отрезвленном старческом представлении – просто комнатная кошечка, хотя есть в ее характере некоторая странность, которая располагает искать глубины, быть может, не существующие. Странность заключается в сочетании красоты и грации – с врожденной, неподдельной порядочностью, детской непосредственности, наивности – со скрытностью и неожиданно проницательными, точными суждениями, чувствительности – с силой характера. Ведь это она, единственная из наших девчонок, на летней практике во Владимире отстирывала ночью под краном залитые кровью брюки и рубашку Сарабьянова. Нет, она не кошечка.
…Я ничего толком не знал, ослепленный той жгучей прелестью, которая все заменяет и все оправдывает и которую, в отличие от души человека, часто доступной нашему обладанию, никак нельзя себе присвоить, как нельзя к имуществу своему приобщить яркость облаков в ветреный вечер, или запах цветка, который тянешь, тянешь до одури напряженными ноздрями и никогда не можешь до конца вытянуть из венчика.
Набоков. Соглядатай
А может быть, все дело в том, что я мужчина неважный. Я просто боюсь того основного, что связано с настоящей любовью: боюсь ответственности. Как гриновский Скоби («Суть дела»), я всем своим существом чувствую необходимость и тяжесть этой ответственности; но я трус, я боюсь взваливать ее на себя и подозреваю, что могу быть жестоким, отбиваясь от самой любви, возлагающей ее на меня.
И быть жестоким легко, нужно только не любить.
Шкловский. Zoo, или Письма не о любви
А на любовь безличную, которая не выбирает, а просто пользуется случаем, я не способен.
Пословицы
«Смерть да жена – Богом суждена». Или: «Клад да жена – на счастливого». Или: «Замужество – что жребий: кто что вытащит». Или: «Суженую конем не объедешь». Или: «Стерпится – слюбится»…
Я сейчас вот о чем: можно выбирать и присматриваться, можно с размаху, можно и как в «раньшие» времена – вообще не видеть невесты до обручения, – черт один. Я хочу сказать, что не так уж дики были наши предки, предоставляя выбор невесты родителям и свахам. А женятся, – говорили, – не на лепоту зря, токмо по отечеству. «В древнерусском браке, – замечает Ключевский, – не пары подбирались по готовым чувствам и характерам, а характеры и чувства вырабатывались по подобранным парам».
А так называемая свободная любовь в «свободном обществе» должна уж развиваться до логических пределов – до любви всех со всеми.
Всего любезней смертным на земле
Жена, – но не в единственном числе.
Гете. Фауст. II. 4
Середина же, на которой мы остановились, – нелепа. Сейчас редко встретишь действительно счастливую семью, основанную на началах действительной свободы: либо взаимное стеснение, либо взаимная ложь, а если развод, то, как правило, неоднократный; мало кто ограничивается одним, да и счастливы ли они? «Вообще несчастье жизни семейственной есть отличительная черта во нравах русского народа», – говорит Пушкин. «Мы слишком идеально смотрим на женщин, – объясняет чеховский персонаж, – и предъявляем требования, несоизмеримые с тем, что может дать действительность, мы получаем далеко не то, что хотим, и в результате неудовлетворенность, разбитые надежды, душевная боль…»[5]
Если ты ищешь красивую и находишь (тебе кажется, что находишь), то знай: она все равно не будет самой красивой; ты же сам найдешь потом и красивее ее. То же самое – добрая, милая, отзывчивая и т. д. Какой бы нежной, тонкой, душевно близкой ни казалась тебе та, которую ты выбрал, знай: выбор твой случаен, и считай, что тебе сильно повезло, если все не окажется совсем наоборот. (И тут вот еще какая деталь. К тому времени, когда возникнет ситуация сравнения, т. е. ты нашел красивее, добрее, тоньше и т. д., тебя с твоей избранницей уже связали тысячи нитей взаимных забот, обязательств, общих воспоминаний, понимания с полуслова, привычек и интимных подробностей жизни, и рвать эту развившуюся кровеносную систему ради сомнительного нового увлечения может оказаться значительно болезненнее, чем претерпеть сложившуюся ситуацию, какой бы нестерпимой она ни казалась.) Так стоит ли искать, выбирать, бежать от хорошего к лучшему, тяготиться плохим (которое тоже поначалу казалось лучшим), если все зависит от случая.
Да и обмен нелепым надо счесть,
Когда предмет, имевшийся доселе,
Не входит в новый, как четыре в шесть.
Данте. Рай. V. 58–60
Это лотерея, рулетка, но нельзя же всю жизнь делать ставку за ставкой в безумной надежде на всеобъемлющий выигрыш. Поэтому первый же выигрыш прими со смирением; достаточно будет, если твоя избранница отвечает тебе взаимностью; но приготовься к тому, что любить тебя она будет по-своему, а не по-твоему, и сделай все от тебя зависящее, чтобы вы притерпелись друг к другу. Стерпится – слюбится.
Возможно, мы не способны любить именно потому, что жаждем быть любимыми, то есть хотим чего-то (любви) от другого, вместо того чтобы отдавать ему себя без всякой корысти, довольствуясь лишь его присутствием.
Кундера. Невыносимая легкость бытия. 7. 4
Я люблю свою жену и счастлив с ней, хотя временами мне и кажется, что это не так.
* * *
Жалок человек, который говорит: я не виноват, меня так воспитали, – или: это наследственность. Недостойна вообще всякая попытка оправдаться внешними обстоятельствами.
Но во-первых, наследственность действительно существует, причем в таких пропорциях, что становится подлинным счастьем или несчастьем человека. Во-вторых, воспитание также сказывается – положительно или отрицательно – на объективных свойствах характера. Даже самый неожиданный поворот судьбы может быть подготовлен в недрах совершенно противоположных результатов наследственности и воспитания. Нет человека, который мог бы сказать, что он сам себя сделал, – это мнимое хозяйничанье своей судьбой всегда ведь на что-то опирается и в иных случаях жестоко мстит за себя.
Но ссылаться и оправдываться, равно как и похваляться, – недостойно.
Моя житейская неразвитость, инфантильность, дожившие до недозволенных возрастных пределов, – разве это не плоды воспитания? Мои нетерпеливость и раздражительность, с которыми еще можно было бы мириться, если бы они не переплетались с подленькой осторожностью, с неуместной вежливостью, так гадко контрастирующей с неуместной грубостью, – разве это не подавленное самоутверждение моих предков? Но раз твое собственное развитие позволило тебе осознать то, что тебе недодано, постарайся сам использовать остальное и восполни, если можешь.
Подлинное мужество состоит не в героических усилиях, направленных на достижение внешних целей, а в решимости пройти через ужасный опыт столкновения с самим собой.
Гроф. За пределами мозга
Или – страдай молча. Но именно страдай, а не выставляй напоказ, не гордись своим страданием.
* * *
Кровь бессарабских крестьян смешалась во мне с кровью приазовских евреев, кровь какого-то пузатого древнеримского начальника (popa duc), побывавшего в Дакии[6], – с кровью сефардов, выходцев из Испании (Kabo). Должно быть, от последних я унаследовал аристократизм духа, которому еще большую ценность придает его плебейская основа[7]. Как подлинный аристократ, я не кичусь своим аристократизмом – я только недоумеваю, когда другие не понимают того, что понимаю я.
Единственный, кто понимает меня вполне, – это старина Дементий.
* * *
График, в котором кривая сначала круто восходит по оси ординат, означающей качество сделанного, а затем, плавно изогнувшись, движется с легким наклоном, почти параллельно оси абсцисс, означающей количество времени, – вот типичная картина успехов человеческой деятельности. Начиная в точке А с нуля, человек быстро наращивает качество, каждый день, каждый шаг вперед приносит новые и новые успехи, он видит перед собой непочатое поле возможностей и жадно использует их. Но чем выше качество, тем труднее продвижение, возможностей становится меньше, праздник взлета постепенно оборачивается будничной кропотливой работой, и в точке В (где кончается плавный изгиб) она полностью вступает в свои права. Человеку кажется, что он достиг потолка, и новый день почти ничего нового не приносит. Начинается количественное накопление, тут нужен не талант, а умение работать и терпение; уверенность в своих силах подвергается испытанию: будет ли впереди, в устремлении к ∞, новый взлет и стоит ли рисковать всю жизнь терпеть серую обыденность? Так во всем: в любом ремесле, в науке, в спорте, в изучении языка… в любви, – во всем.
* * *
Росши в профессорской семье, я поначалу намного опережал в развитии своих сверстников. Задолго до школы я умел читать, писать и считать, знал много стихов на память. Нарисовал однажды карту мира с маленькой черной Америкой в левом верхнем углу (после чего дедушка-географ купил мне глобус и объяснил заодно гелиоцентрическое устройство нашей планетной системы)… Ни с того ни с сего, в порыве вдохновения, я сочинил подробную техническую инструкцию по сборке грузового автомобиля (запомнились чертежи двигателя и упоминание о четырех досках, потребных для каждого из бортов кузова). Как-то, разглагольствуя перед приятелями о теории происхождения видов, в ответ на их изумление с апломбом заявил: «Подумаешь, моя бабушка была обезьянкой». (Логика безупречная: когда-то давно люди произошли от обезьян, бабушка живет давно – следовательно, она тоже была обезьянкой.)
Короче говоря, в школе мне нечего было делать, учеба в начальных классах давалась играючи. Но с четвертого класса, когда преподаваемый нам материал разросся за пределы моей осведомленности, я стал отставать. Привыкнув обходиться подкожными запасами, я оказался неспособен к труду усвоения нового. И отставал все больше и больше, кое-как удерживаясь на тройках (лишь по истории и литературе преуспевал). В начале каждого учебного года я давал себе обещание взяться наконец за ум. Старательно и красиво обертывал учебники цветной бумагой, ровной стопкой складывал новенькие, чудесно пахнущие тетради, подготавливал все аксессуары и горел нетерпением приступить к занятиям; но… надолго меня не хватало. На уроках, невнимательно слушая объяснения преподавателя, я покрывал свои тетради посторонними рисунками, а дома ленился вникать в учебники, предпочитая в сотый раз перечитывать «Марсельцев», «Трех мушкетеров», «Черную стрелу», «Приключения Тиля Уленшпигеля», «Рассказы о Шерлоке Холмсе», «Двенадцать стульев», «Золотого теленка», позднее – «Петра I», которому, между прочим, обязан развившимся во мне чувством истории…[8] Только в десятом классе, вдруг проникшись страстью к учебе, оценив красоту логических построений алгебры, геометрии, тригонометрии, физики, легко догнал одноклассников и вышел на отличный аттестат (за исключением четверки по так и не давшейся мне химии).
Позже, в университете, жадно набросившись после армии на учебу, я целых три курса был круглым отличником. И только на политэкономии сорвался…
Страсти по Андрею
22.12.71. Были с Молчушкой на «Рублеве» (после шестилетнего перерыва его наконец выпустили в прокат). Должно быть, я слишком многого ждал от этого фильма: он не понравился. Холодная, эстетская, надуманная вещь… А главное, лживая. И не только в мелочах: пила (в пятнадцатом-то веке!), породистые татарские кони, гонения на языческие празднества (начавшиеся лишь с середины XVI, со «Стоглава»), расправа со скоморохом (тогда как даже в XVII веке воевода Шереметев едва со света не сжил Аввакума за то, что тот поднял руку на скоморохов)… Кто и когда, скажите, выкалывал глаза мастерам? Это князья ослепляли друг друга, воспроизводя древний символический акт отрешения от власти. Смысл поздней легенды о зодчих совсем другой – наглядно подчеркнуть уникальность созданного ими, физическую невозможность повторения…
Художник ренессансного темперамента Феофан, «преславный мудрец, философ зело хитрый», образ которого так пластично донесен до нас Епифанием, превращен в заурядного сварливого старикашку, сам Рублев – в модернистского «гения», вроде манновского Леверкюна, смятенного неврастеника, болезненно тяготеющего к юродству, разве что сифилисом не зараженного (Манн не нашел другого повода, который мотивировал бы «гениальность»)… А уж отождествлять скомороха с сегодняшними диссидентами – это… простите, полная лажа. И эти сочиненные (на манер какого-нибудь Шукшина) пустопорожние диалоги с потугами на глубокомыслие, с надерганными цитатами из Писания…
Возможно, автор сознательно допускал анахронизмы, стараясь показать, что не в Рублеве дело, что речь идет о сегодняшнем дне, о вечном, о художнике вообще? Но тут ведь вот какая зависимость: «Чем больше мы проникаем в дух какой-либо эпохи, тем меньше она отличается от духа нашего собственного времени» (замечательное наблюдение Генриха Гомперца), то есть чем точнее, тем универсальнее. Положим, автор волен видоизменять материал в соответствии с извлеченной из него идеей; но здесь-то он не знает и знать не хочет материала[9], он просто вторгается в прошлое со своей уже готовой предвзятой «идеей», которая нуждается только в иллюстрациях. Она и прет из всех щелей, заставляя усомниться в какой бы то ни было правде изображенного, и впечатление такое, точно тебя колотят мухобойкой по лбу.
Всякий знает то чувство недоверия и отпора, которое вызывается видимой преднамеренностью автора.
Л. Толстой. Что такое искусство. 13
Но даже если принять всерьез эту плоскую, расхожую мысль о том, что художник живет в страшном мире, а создает прекрасные, «очищенные» вещи[10], то, спрашивается, откуда же тогда красота – та тихая, мягкая, мужественная, просветленная рублевская гармония, от которой в картине следа не осталось? О Сергии, о Куликовской победе – ни слова, зато ни к селу ни к городу приплетен длинный эпизод с Распятием, выстроенный то ли по Брейгелю, то ли по Сассетте, но на русской деревенской натуре (стало быть, все-таки «к селу»: ведь подметил же наблюдательный Карл Маркс, что Рембрандт «писал мадонну в виде нидерландской крестьянки»; ну, значит, и Рублев туда же). И повсюду – навязанное «гениальное» самовыражение автора, воспроизводящего лишь собственные инфантильные впечатления от художественных альбомов, нагнетая рафинированную символику (белое пятно молока, скользнувшее в ручье – в «потоке времени», надо полагать, – из одной сцены в другую, соединив два злодеяния общим направлением к «океану вечности»), прямо-таки заклиная каждым куском своей ленты: вот я! обратите на меня внимание! ради бога, оцените меня!.. Как сказал солженицынский персонаж по гораздо более серьезному поводу: «Так много искусства, что и не искусство уже. Перец и мак вместо хлеба насущного».
Жестокости, вырезанные из картона, нарочно, в угоду моде, нагроможденные, «чтоб страшнее», и иконы в конце – искусственно подшитый контраст, эстетское смакование фрагментов!.. Претенциозная «гениальность» оборачивается элементарной пошлостью.
Пошлость особенно сильна и зловредна, когда фальшь не лезет в глаза и когда те сущности, которые подделываются, законно или незаконно относят к высочайшим достижениям искусства, мысли или чувства.
Набоков. Николай Гоголь
Банальность, пустота в изысканной оболочке, и даже действительно прекрасная операторская работа (еще бы: Юсов!) не спасает.
– Да видел, видел я твоего гения, – говорил Боб, когда мы с ним совершали 15-километровый переход из Пухнова в Белавино. – И горящую корову видел, и лошадь с переломленными ногами… Особенно умилила меня сцена с поркой мальчика. Там такой сюжет: какой-то пацан, якобы владеющий секретом колоколенного литья, берется отлить большой колокол… Твой гений хоть слышал, что такое по-русски «колокол лить»? Ну ладно. Дают пацану в подмогу мастеров, взрослых мужиков. Никакого секрета он, конечно, не знает, но у него дар, интуиция. Тоже, стало быть, гений… Припадочный к тому же. Вот он и помыкает работягами. А когда они, озлившись, объявляют сидячую забастовку, он приказывает княжеским слугам пороть сынишку одного из них, пока не примутся за работу. Ну и колокол получается замечательный! Мы-то вроде воспитаны на том, что гений и злодейство – вещи несовместные, что никакая гармония не стоит слезы замученного ребенка… А оказывается – нет: гению все позволено. И коров, облив керосином, поджигать, и ломать ноги лошадям, и даже, как я слышал, подлинные фрески рублевские перегревать софитами…
Боб – молодчина, умница. Познакомившись с фильмом на каком-то закрытом просмотре, он сразу проник в самую суть. А я, увидев к тому времени лишь пару отрывков по телевизору, превозносил Тарковского до небес. И даже позволил себе свысока осудить моего научного руководителя Михандра, когда он рассказал мне, как его пригласили в научные консультанты фильма и как он, пролистав сценарий, с отвращением отказался.
* * *
31.12.1971. Третьего дня сдал «минимум» по философии; надеюсь, теперь-то с этим покончено навсегда.
Нам вбивают в голову марксизм-ленинизм, в результате чего мы оказываемся совершенно неспособными и неготовыми (когда доходит до дела) мыслить на современном философском уровне. Современная мысль и самый способ мышления нам чужды. В лучшем случае мы пробиваемся вперед только в своей узкой области – ощупью, наугад, чисто эмпирически доползаем до чего-то нового и осторожно изобретаем велосипеды.
В конце концов происходит самое страшное: появляется внутренний цензор. Мы можем сколько угодно фрондировать, и ворчать, и впадать в ересь, но в глубине души уже не сомневаемся в том, что материя первична, сознание вторично, базис «в конечном счете» определяет надстройку, а критерий истины – общественная практика. Наперекор всему мы верим во все это и не можем, не способны думать иначе.
Можно в чем угодно убедить
целую страну наверняка,
если дух и разум повредить
с помощью печатного станка.
Губерман. Гарики
Одновременно вырабатывается какой-то иезуитизм мышления, беспринципная гибкость, умственная увертливость (double thinking по Оруэллу). «Человек, – говорит Кант, – которому с детства внушены ложные убеждения, делается потом на всю жизнь софистом своих заблуждений». Даже зная цену всем этим плоским прописным истинам, он все же с самым непорочным видом будет твердить и убедительно доказывать их, когда его об этом спросят, будет основываться на них, даже когда его об этом не спросят, – в своих статьях и публичных выступлениях, – подчиняясь круговой поруке, устрашающей инерции. Слишком мало таких, кто решается на себе разорвать эту порочную цепь.
Говорить всего труднее как раз тогда, когда стыдно молчать.
Ларошфуко. Максимы
Даже сегодня, за несколько часов до Нового года, я не могу освободиться от ненависти. Это чувство еще усугубляется чтением «Лефа» (мне понадобилось расширить знакомство с русской формальной школой). Что за сальеризм! но сальеризм китайский, сальеризм муравья, выросшего до огромных размеров и начисто смахнувшего всю культуру, какая ни есть.
А то испорченное поправками, сообразными времени, нетворческое, ремесленное полуискусство, которое процветало в Лефе, не стоило затрачиваемых забот и трудов, и им легко было пожертвовать.
Пастернак. Люди и положения
Воинствующее отрицание культуры, оправданное во времена раннего футуризма, – когда оно было направлено против господствующего вкуса изысканных эстетов, – это отрицание стало подлостью в эпоху господствующего бескультурья, когда обратилось к безграмотным массам, поощряя их в их безграмотности, призывая отказаться от доставшихся в наследство ценностей, разжигая темные инстинкты. Это уже не зависть к Моцарту, а настоящая неприкрытая злоба – злоба вообще на всякую исключительность, необъяснимость, на все, что выделяется из толпы и из алгебры, злоба с засученными рукавами, с волосатыми кулачищами, вооруженная не ядом, а дубиной, и самоуверенно утвердившаяся на земле. Гранитные лозунги, бюргерское, пивное, тяжеловесное хамство, перенятое у немцев, у Маркса, – со смачными плевками в лицо, с абстрактной яростью и самодовольным хохотом. Они красивы и романтичны – вся эта взбесившаяся сволочь, – и могли бы даже показаться привлекательными, если забыть, чему они расчищали дорогу.
Я не христианин и никогда им, по-видимому, не стану, но и мне хотелось бы послужить воплощению скрытых в человеке божественных сил, твердо веря, что в их числе окажется и веселая, божественная ненависть ко всей сволочи мира – та ненависть, в которую необходимо перерастает действительная – не лицемерная, не слюнявая – любовь к ближнему.
Есть что вспомнить
А каково отшагали мы с Колей Журавлевым, моим учеником, кольцо по Борисоглебскому району – прошедшим летом, воспользовавшись школьной практикой, чтобы обмерить и отснять по просьбе Выголова несколько храмов для Свода памятников! Коля – супермен, марафонец, чемпион Москвы среди юношей; идти с ним было одно удовольствие.
…На дороге в поле догнала нас с грохотом телега, и мужик, увидев «Зенит» у меня на груди, крикнул с телеги: «Эй, сфотографируй!» Он стал в молодецкую позу у морды лошади, и я щелкнул; за это он подсадил нас до своей деревни.
Мужик оказался мрачным хулителем всего на свете. Каждую выбоину на дороге, каждый предмет, оказавшийся в поле зрения, он встречал такими сокрушительными проклятиями, что дух захватывало и поневоле жалость брала ко всем этим кочкам, камушкам, кустикам придорожным… Сидя рядом с нами боком на телеге (лошадью правил его сын), мужик так и поливал!
Вдруг послышались грохот и топот: нас догоняла повозка на паре, битком набитая ребятней. «Дорогу давай!» – вопили мальчишки. Наш мужик оживился. «Не пускай их! – крикнул он сыну. – Гони!» Тот погнал лошадь. Мальчишки тоже пустили своих вскачь. Тот из них, кто правил, вскочил на ноги и закрутил кнутом над головой. С хохотом и свистом они стали нас обходить. (Мы с Колей думали только о том, чтобы не вылететь на ходу из бешено трясущейся телеги.) Тогда мужик оттолкнул сына и сам схватил вожжи. Сын, стоя возле него на коленях, продолжал нахлестывать лошадь. Миг – и, не удержавшись, он уже катился в пыли за телегой. «Стой! – заорал я. – Парня потеряли!» Но мужик совсем остервенел, он даже не обернулся. Ругань неслась страшная! Дорога пошла вниз – в спускавшуюся к реке выемку. Мальчишки обходили нас выше по склону и, направив лошадей нам наперерез, ударили боком повозки по нашей телеге (мы с Колей едва успели подобрать ноги). Сбив нас с дороги, они пронеслись мимо, крича во все горло: «Сильно гонишь, дядя! Колесо потеряешь!» Тут, действительно, колесо отскочило, и мы на всем скаку вылетели из телеги…
2
Герцен. Письма из Франции и Италии.
3
Герцен. Письма из Франции и Италии.
4
Псковская 2-я летопись. Синодальный список. Л. 181 об. – 182.
5
Чехов. Ариадна.
6
Это, разумеется, шутка. Фамилия Попадюк, как выяснилось, не такая уж редкая. Мои предки по отцовской линии происходят из села Ломачинцы Сокирянского района Черновицкой области. Село (на месте древнерусского городка Кучельмина под Хотином, связанного с именами князя-изгоя Ивана Берладника и галицко-волынского князя Даниила Романовича) известно с 1650 г. В 1760 г. оно было пожаловано молдавским господарем своему дворовому Иордаки Крупенскому, потомки которого владели селом до начала XX в. Ломачинские Попадюки числились в реестрах запорожских казаков, участвовали в русско-турецкой и русско-японской войнах, в Хотинском восстании 1919 г. В «Исповедальной росписи Свято-Михайловской церкви села Ломачинцы» 1917 г. перечислены: мой прадед Илья Симеонович (1857 г.р.) и прабабка Анастасия Карповна (1861 г.р.), их сыновья Иеремия (1881 г.р.) с женой Марией Пантелеймоновной (1881 г.р.) и Стефан (1883 г.р.) с женой Еленой Фоковной (1883 г.р.), живущие уже отдельными хозяйствами, а также младшие сыновья Григорий, Михаил, Василий, Петр, Иоан, Никита, Симеон и дочка Александра. Дед мой, Степан Илиевич, вместе с бабушкой, Еленой Фоковной (в девичестве Червак), и детьми Василием (1910 г.р.), Иваном (1914 г.р.), Марией (1919 г.р.) и Семеном (1922 г.р.) в 1925-м или 1926 г. по неизвестной причине выехал из Ломачинец – вроде бы с намерением перебраться в Канаду – и осел под Бельцами, в селе Глодяны. Здесь у него родились еще две мои будущие тетки: Александра (1927 г.р.) и Вера (1930 г.р.). Младшего сына, Семена, отправили учиться в румынский сельскохозяйственный техникум в селе Гринауцы, где с ним и встретилась моя мама, приехавшая в 1940 г. в присоединенную Бессарабию преподавать русский язык и литературу. С тех пор число моих дядей и теток, естественно, удвоилось, вобрав в себя фамилии Романчуков, Попелянченков, Шабаршовых. Все они, за исключением старшего дяди Васи, отсидевшего в румынском лагере для военнопленных, а затем обосновавшегося в Бельцах, живут в Глодянах, породив двенадцать моих двоюродных братьев и сестер (шесть и шесть, считая только выживших). А умножающихся племянников и племянниц учитывать все труднее. О «молдавском» дедушке – замечательный рассказ моей мамы «Тата», о моем отце – повесть «…И не забывай, что я тебя люблю» (оба в сборнике: Любовь Кабо. …И не забывай, что я тебя люблю. М.: Сов. писатель, 1987). О маминой семье можно прочесть в ее самой трудной и многострадальной книге «Ровесники Октября» (М.: Пробел, 1998). Недавно мамин брат, дядя Володя, опубликовал в Австралии воспоминания родителей (Рафаил Кабо, Елена Кабо. Впереди – огни. Воспоминания. Канберра: Алчеринга, 2006).
7
Но отсюда же и горючая смесь еврейской нетерпимости с хохляцкой упертостью, которая, как я понял позже, так раздражала многих моих начальников.
8
Не любованием экзотикой исторических лиц и событий, как, например, в романах Дюма, а именно живым ощущением единства истории, своей кровной связи с «былым, далеким, общим, всегда расширяющим нашу душу, наше личное существование, напоминающим нашу причастность к этому общему» (Бунин. Жизнь Арсеньева. II. 1).
9
Насколько точность помогла бы автору, если бы, например, татары гарцевали не на породистых скакунах, а на низеньких, лохматых, мелко рысящих лошадках и фактура поленницы в кадре формировалась не спиленными, а обрубленными торцами.
10
Типично модернистская, эстетская установка на автономность, самозамкнутость искусства, совершенно искажающая представление и об искусстве «вообще» и, в особенности, о средневековом искусстве.