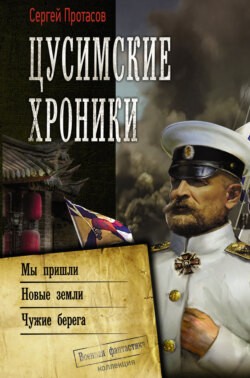Читать книгу Цусимские хроники: Мы пришли. Новые земли. Чужие берега - Сергей Протасов - Страница 28
Мы пришли
Точка
Глава 2
ОглавлениеВскоре показались наши миноносцы, вставшие под погрузку угля к борту своей базы «Корея» и транспорту «Анадырь». Из девяти эсминцев, бывших при эскадре еще сутки назад, на бункеровку пришли лишь пять. «Громкий» ремонтировал машину, идя на буксире у броненосцев, а «Буйный» и «Бедовый» затонули от полученных повреждений еще до ухода миноносцев от эскадры.
Одновременно с погрузкой топлива мастеровые с обеих плавмастерских и экипажи кораблей занялись исправлением повреждений. Пробоины, заткнутые подручными средствами на скорую руку, латались более основательно. Проверяли главные механизмы, рулевые приводы, вооружение. Заделывали дыры в трубах. Убыль в экипажах компенсировали матросами с транспортов. При этом отбирали лишь лучших из множества добровольцев.
Теперь все минные силы были сведены в один минный отряд под командованием капитана второго ранга Матусевича. У него имелся четкий приказ Рожественского немедленно после пополнения запасов и срочного ремонта выдвигаться в дозор к югу от стоянки, на пределе видимости с берега. Поэтому он лично обошел все корабли своего отряда, торопя с окончанием работ.
По пути, навестил раненого Андржиевского, отлеживавшегося на своем флагмане. С ним обсудили возможные дальнейшие действия русских минных сил, сойдясь во мнении, что для успешной дневной минной атаки миноносцев теперь явно недостаточно. К тому же все оставшиеся в строю корабли уже имели достаточно серьезные повреждения. Исходя из этого, офицеры прикинули возможные варианты использования минных сил эскадры для контратак вражеских миноносцев ночью. Это предложение взялся донести до командующего Андржиевский, вынужденный отправиться на «Белого Орла» из-за открывшейся раны.
В начале десятого из тумана на северо-востоке показались сначала дымы, следом мачты и корпуса остальных кораблей эскадры. «Изумруд» с миноносцами к этому времени уже выходили из гавани. Свой поврежденный, но не побежденный флот встречали тыловики, уже развернувшие катерные дозоры. Эскадра втянулась на внутренний рейд новой базы, следуя за двумя лоцманскими катерами. При этом каждому кораблю было сообщено его место стоянки, где уже ждали грузчики и готовые наполненные мешки с углем.
Едва войдя в пролив, Российский флот Тихого океана лег в дрейф, начав свозить раненых на госпитальные суда. «Камчатские» (так теперь называли всех мастеровых, без разницы, были они с «Камчатки» или с «Ксении») первыми поднялись на палубы, прикидывая возможные варианты срочных ремонтных работ, чтобы успеть ВСЕ. Хотя, конечно, понимали, что это невозможно в принципе. Но они знали и то, что успеть НАДО.
С величайшими предосторожностями раненых спускали в подошедшие шлюпки и катера. Больше всего пострадавших было, естественно, на «Суворове» и «Ослябе». Однако, несмотря на то, что флагманский броненосец гораздо дольше находился под огнем неприятеля и вынес на себе всю тяжесть второго боя, потери в его экипаже были в полтора раза меньшими, чем на менее защищенном собрате. Общие потери по эскадре составили 344 убитых (из них 32 офицера) и 693 раненых (из них 167 – тяжело). Часть раненых, чьи раны были не опасными, оставались на своих кораблях, не желая покидать их до прихода во Владивосток, и в общее число пострадавших не попали. Медики не возражали и оказывали им необходимую помощь на месте, так как плавучие госпитали были просто не в состоянии принять всех.
Пленных японцев с потопленных кораблей перевезли на два перехваченных японских транспорта, укомплектованных экипажами с погибших эсминцев. На них уже успели сбить с бортов японские иероглифы и хризантемы на форштевнях, написав суриком новые названия. «Бравый-2» и «Бедовый-2». А на мостиках установили по два пулемета – все, что успели перетащить со своих истребителей.
Все пять боеспособных миноносцев, выйдя южным выходом и развернувшись во фронт, двинулись вниз, вдоль побережья острова Шимаяма. Отойдя на восемь миль к югу-юго-западу от Сагано, они начали патрулирование, курсируя на переменных курсах, по линии с северо-запада на юго-восток от имевшейся на западном берегу Шимаямы рыбацкой деревушки, не допуская выхода из её гавани ни одного суденышка. Но сначала в самой деревне был высажен десант, доподлинно установивший, что она не имеет ни телеграфного, ни телефонного сообщения с остальным островом. Как только отсутствие телеграфа и телефона было подтверждено, десант вернулся на миноносцы, не тронув ни одной джонки из её рыбацкой флотилии. На «Громком», тем временем, заканчивали ремонт главных механизмов. К вечеру он уже должен был занять свое место в боевом строю.
«Изумруд» же двинулся сначала строго на запад, после развернувшись к северо-востоку и развив полный ход, прошел до самого пролива Дженкай-Нада, откуда развернулся на обратный курс, продолжая, однако, держаться максимально далеко от берега, чтобы лишь не потерять ориентиров. В свою временную базу крейсер вернулся только к пяти часам вечера, приведя еще один трофейный пароход примерно в семьсот тонн водоизмещения, груженный местным японским углем. Попутно было потоплено семь рыбацких джонок. Их экипажам давали возможность покинуть свои корабли, после чего пускали ко дну несколькими выстрелами в ватерлинию в упор из трехдюймовок. Боевых кораблей так и не было встречено.
А между тем во временной русской базе на японском берегу кипела работа. На пополнение припасов и ремонт в первую очередь вставали корабли действующего флота, чтобы быть готовыми к бою как можно раньше. В то время как подранки занимались перемещением своих грузов из поврежденных конечностей в противоположные уголки кораблей. Из-за этого их стоянка, названная ремзоной, являла довольно тревожное зрелище. Стоявшие вплотную друг к другу под самым берегом корабли были перекошены кренами и дифферентами, отчего со стороны могло показаться, что они приткнулись к отмели и лежат на грунте. Зато, благодаря таким радикальным мерам, удалось поднять все подводные пробоины выше уровня воды и приступить к их серьезной заделке. Изодранные японскими снарядами борта «России» и «Громобоя», с выгоревшей краской, обнажившей красную, еще заводскую, суриковую грунтовку, покрытые копотью, латали деревянными заплатами, срубая клочья искореженной стали, мешавшей работе, и заливая бетоном все, что было возможно. То же самое было на «Суворове» с «Александром III» и на «Ослябе».
На большинстве кораблей резервного флота контрзатоплениями и перегрузкой угля и прочих припасов удалось заменить отсутствовавшие при эскадре готовые кессоны и доки. Лишь на «Ослябе», пострадавшем больше всех, несмотря на все принятые меры нижний край самой опасной пробоины по-прежнему оставался под водой и полностью осушить затопленные отсеки в носу не удавалось. Поэтому было принято решение посадить максимально разгруженный броненосец носом на отмель в большую воду, с тем, чтобы при отливе он поднялся, показав пробоину. Заделав её и откачав воду, можно будет гарантированно сняться потом с мели.
На том и порешили, подыскав подходящее место с ровным каменистым дном. Все поврежденные корабли стояли плотной группой, вокруг «Осляби». Среди них нашли себе место «Камчатка» и «Ксения», шлюпки с которых курсировали между поврежденными кораблями, перевозя материалы, рабочих и оборудование.
Едва русские вошли в свою временную базу, Рожественский отправился в обход по своему искалеченному флагману. За ночь в палубах успели навести порядок, насколько это было вообще возможно при таких разрушениях. Смыли копоть, грязь и кровь. Убрали вниз стреляные гильзы, завалившие все палубы, где стояли орудия. Сбитые и закрученные трапы заменили временными деревянными, заделали наиболее опасные и близкие к воде пробоины. Все уцелевшие офицерские каюты (несколько помещений по правому борту), в том числе и каюта адмирала, были отведены для размещения раненых. Сам командующий, как и все офицеры его штаба, за ночь, прошедшую в совещаниях, так и не успел переодеться, и все были сейчас в тех же мундирах, что и в бою, лишь наскоро почищенных и подлатанных денщиками.
Обойдя все отсеки, Зиновий Петрович благодарил офицеров и матросов за службу. Проведал раненых, лежавшего в беспамятстве командира броненосца Игнациуса, выслушал доклад корабельного врача. Даже спустился в дышащие жаром котельные и машинные отделения, где обнял и расцеловал инженер-механика Обнорского и флагманского инженер-механика Стратановича, грязных, что черти, и совершенно валящихся с ног от усталости, как и все их люди.
Обратившись к машинной команде, Рожественский сказал: «Нашим успехом мы в большей степени обязаны вам и артиллеристам! Но если из башен и казематов виден враг, и от этого там легче, несмотря на огонь и смерть от вражеских снарядов, то у вас, в самых недрах корабля, лишь адский жар и смрад от топок и дыма пожаров наверху. Но вы выстояли, несмотря ни на что! Держали пар и обороты на винтах и не дали врагу уйти! Родина не забудет вашего подвига! А я тем более! Спасибо вам, братцы, и мой поклон!» И поклонился. А матросы, измотанные до последней крайности, слушали его, не шевелясь и почти не дыша. Казалось, они готовы были схватить своего адмирала на руки и так и нести его до самого Владивостока, а хоть и до Токио, куда прикажет. Прямо в этом иссеченном осколками и испачканном кровью и копотью мундире, чтоб японцам страшнее было. Здоровенные дядьки, сплошь в угольной пыли, мазуте и копоти, на чьих лицах белели лишь глаза, плакали как дети.
Закончив обход «Князя Суворова», Рожественский приказал штабу отдыхать три часа, а сам вызвал катер и обошел на нем все корабли своей эскадры, благодаря экипажи за службу и лично выслушивая доклады командиров и флагманов, как обычно, делая пометки в блокноте. При этом он в приказном порядке требовал от командиров максимально обеспечить отдых для экипажей, благо наличие при эскадре штатных грузчиков и большая численность экипажей транспортов позволяли освободить измотанные за последние сутки команды кораблей от погрузочных и прочих работ.
Вернувшись на «Суворов» к половине первого, он приказал разбудить его через час и прилег в свое парусиновое кресло, прямо на мостике, и тут же заснул, под грохот и визг грузовых лебедок. Топот сотен каблуков по палубам, издаваемый матросами транспортов и грузчиков, абсолютно его не беспокоил, так же как и большую часть команды, заснувшую прямо на своих постах после обеда с двойной винной порцией. На всех кораблях эскадры стоял жуткий грохот из-за непрекращающихся ни на минуту ремонтных работ.
Проснувшись через час, еще до того, как старший флаг-офицер лейтенант Сверебьев решился его разбудить, адмирал пригласил отобедать с ним и штабом эскадры офицеров броненосца и очень внимательно выслушал все мнения относительно дальнейших действий эскадры, превратив обед в совещание. Мнения высказывались самые разные: от предложения идти в Шанхай или Цындао, для более серьезного ремонта, чтобы потом повторить попытку прорыва, до «попытаться проскочить пролив ночью, отправив транспорты и подбитые корабли в нейтральный порт интернироваться».
В конце ужина командующий поблагодарил офицеров, сказав, что он горд тем, что ему довелось принять вчерашний бой вместе с ними, и, тепло простившись, отбыл на «Орел», назначенный новым флагманом. Этот броненосец пострадал в бою меньше всех. Несмотря на то, что он имел достаточно большие разрушения в надстройках и небронированных частях корпуса, его артиллерия и механизмы не пострадали. Все разрушения сказались лишь на условиях обитаемости на корабле, но это можно было и потерпеть. Подводных повреждений не было, если не считать несколько мелких отсеков, за броневым поясом, затопленных через ослабшие болты. Но самым главным было то, что минерам удалось восстановить сбитые осколками радиоантенны и «Орел», единственный из всех кораблей первого отряда, имел действующий беспроволочный телеграф, что позволяло руководить всей эскадрой.
Едва перебравшись на новое место, вызвали всех флагманов, и штаб продолжил свое совещание. Спорили до хрипоты, приводя всевозможные доводы и рассматривая вопрос со всех сторон.
Однако, после обсуждения всех вариантов, удалось выработать единое мнение, что просто проскочить во Владивосток мало. Слабые ремонтные мощности этого порта не позволят быстро восстановить боеспособность эскадры, а ограниченность запасов угля быстро поставит на прикол большую её часть. В то время как японцы довольно легко смогут исправить свои повреждения и снова получат, на этот раз подавляющее, превосходство.
О катастрофических потерях объединенного флота в корабельном составе никто тогда еще не знал и даже не догадывался. А практически поголовное уничтожение нами японских легких крейсеров сулило противнику лишь небольшие тактические неудобства, учитывая ограниченность театра боевых действий.
Исходя из этого, было принято решение, что японцев нужно добивать сейчас, не дав им опомниться и переформировать свой флот. Несколько выбитых флагманских кораблей, несомненно, должны будут осложнить управление оставшимися силами, если не дать противнику «освоиться». Сразу же после минимально необходимого ремонта было решено всячески искать встречи с Того и навязать ему бой до полного разгрома. Все транспорты и корабли обеспечения оставить на попечение резервного флота, который должен будет под прикрытием боя основных сил, в любом случае, прорываться во Владивосток.
Пока штаб решал, как быть дальше, было полностью завершено развертывание сил обороны. Все, имевшиеся на эскадре десантные пушки были размещены в четырех береговых батареях по десять штук в каждой. Имевшие малый угол поворота сухопутные станки вынуждали размещать орудия полукругом, обращенным выпуклой частью к морю, чтобы перекрыть больший сектор. Две такие батареи разместили на южных склонах горы Онодаке на южной оконечности острова Сагано, а еще одну – на северной оконечности острова прямо на вершине горы Онодаке. На другом берегу пролива, дальше к северу, у мыса Нииракумати оборудовали четвертую батарею.
Их позиции обнесли брустверами из камней, замаскировав водорослями и прочим мусором, валявшимся на берегу. Со стороны суши прикрыли надежными заслонами и секретами, имевшими приказ стрелять поверх головы любого, кто бы ни пытался приблизиться. Вместе с пушками на берегу установили и все пулеметы, которым не хватило места на катерах. Немного выше уреза воды под батареями разместили прожекторные посты, соединив их кабелями с динамо-машинами на кораблях обеспечения, в роли которых выступали буксиры и транспорты, имевшиеся при эскадре и замаскированные под берегом.
Поперек северного выхода из пролива у мыса Нииракумати с транспорта «Анадырь», оборудованного еще в Нуси-Бе минными рельсами, поставили оборонительное заграждение. Мины ставили на минимальную глубину в два ряда, рассчитывая в первую очередь на миноносцы. Все мины, когда-то имевшиеся на броненосцах и крейсерах, выставили за три часа. Дневная минная постановка была рассчитана еще и на то, что об этом станет известно японцам до начала атак и это несколько стеснит их действия севернее стоянки. Планировавшуюся, чисто демонстративную, постановку с юга просто не успели провести из-за нехватки времени.
На северной и южной оконечностях острова Сагано в брандвахту поставили «Мономаха» и «Донского». Оба крейсера встали на якоря максимально близко к берегу с таким расчетом, чтобы простреливать из своих скорострелок устья пролива. Все поврежденные прожектора на обоих крейсерах были заменены исправными, чтобы обеспечить максимальное освещение контролируемых и простреливаемых зон. Вдоль их бортов, смотрящих от берега, устроили импровизированные противоторпедные заграждения из реквизированных в деревнях и на переходе джонок, также поставленных на якоря в восьми-десяти метрах от борта и для надежности сцепленных между собой цепями. С них срубили мачты, а все рыбачьи сети свесили с обоих бортов.
Сразу за «князьями», дальше в пролив, были места ночной стоянки миноносцев, по три с севера и юга, куда должны были вернуться дозорные эсминцы с наступлением темноты. (Во избежание путаницы, в случае ночных торпедных атак японцев, в самом проливе ночью должны были действовать лишь наши катера, а все остальные корабли вести огонь с места.)
В самой глубине пролива, в седловине острова Сагано у его восточного берега, были стоянки первого броненосного отряда, чуть южнее ремзоны, а еще немного дальше к югу от них, – второго и третьего броненосных отрядов. Поскольку все стоянки находились фактически на рейде небольшого селения, раскинувшегося вдоль берега, в этот городишко был высажен десант, патрулировавший его улицы, чтобы избежать неожиданностей.
Со стороны пролива стоянки были прикрыты самодельными бонами из списанных с кораблей противоторпедных сетей и реквизированных у местного населения рыбачьих снастей, закрепленных на бочках из-под масла и надежно заякоренных сайпанах. Боны натягивались также и на цепях между транспортами, дооборудованными соответствующим образом.
Крейсера на ночь планировалось отправить в море, так как там считалось безопаснее. Оставшиеся, почти пустые, транспорты снабжения стояли на якорях между «Мономахом» и ремзоной, где было относительное мелководье. Установленные на них малокалиберные пушки, снятые когда-то с броненосцев и крейсеров, были дополнительной защитой, помимо артиллерии эскадры. Но командирам пароходов были даны четкие инструкции, запрещавшие открывать огонь без приказа или крайней необходимости. Начальник штаба Клапье де Колонг лично накачивал их на этот счет.
На подступах к проливу и в нем самом с наступлением темноты планировалось снова развернуть катерные дозоры, задействовав в них все без исключения вооруженные паровые и моторные катера с крейсеров и броненосцев общим числом почти в 60 вымпелов. Имелись полные комплекты сигнальных и осветительных ракет и почти на всех катерах сорокасантиметровые прожекторы.
Все оборонительные мероприятия были закончены к трем часам дня, но противник не спешил появляться. В пять часов встретили вернувшегося из дальней разведки «Изумруда». Но не успел еще его командир отправиться на доклад к Рожественскому, как дозорные катера, стоявшие под восточным берегом пролива у северного устья, сообщили фонарем на батарею, что видят два японских миноносца, пробирающихся вдоль самых пляжей к базе. С батареи эту новость передали дальше, на штабной «Русь», а тот доложил фонарем на «Орел».
Немедленно был отдан приказ «Изумруду», единственному крейсеру, имевшему все котлы под парами и способному дать полный ход на тот момент, атаковать противника. Лихо развернувшись в проливе, крейсер ринулся в атаку, что вынудило миноносцы начать отход на северо-запад на большом ходу. Серые низкие корпуса были почти не заметны на фоне берега. Их выдавал лишь появившийся белый бурун под форштевнем да густые клубы дыма, повалившие из труб при начатом быстром наборе скорости. Они шли по мелководью, рискуя выскочить на камни, но это позволяло держаться от русского крейсера на безопасном расстоянии. Не став подходить слишком близко к недостаточно изученному берегу, «Изумруд» смог приблизиться к ним лишь на 18 кабельтовых и прекратил погоню, так и не открыв огня, когда японцы отвернули за мыс Катвязаки.
В 17:22 с крейсера обнаружили дымы еще нескольких судов на северо-востоке и повернули обратно. Но едва легли на курс в «свой» пролив, как получили приказ идти полным ходом на выручку к миноносцам южного патруля, атакованным двумя японскими вспомогательными крейсерами. Кажется, началось!
Около половины шестого из радиорубки флагманского «Орла» доложили, что вокруг «точки» начался оживленный радиообмен противника. С «Урала» сообщили, что удалось засечь не менее восьми работающих передатчиков в непосредственной близости и еще несколько в отдалении на западе и северо-западе. Несколько раз повторялись позывные двух групп кораблей, чьи сигналы были слышны сильнее всего. Минеры запросили разрешения прервать их работу своей искрой.
Поскольку эскадра все равно уже была обнаружена, командующий приказал забивать японские переговоры, вплоть до особого распоряжения. Добротворский был вызван на «Орел» для получения боевого приказа, а его крейсера начали готовиться к выходу в море и ночному бою, оттягиваясь на середину пролива, чтобы освободить место на стоянках.
На флагманском броненосце командир первого крейсерского отряда пробыл не долго. Полученный им приказ был краток и предельно прост. Его крейсерам предписывалось к наступлению темноты покинуть базу и, маневрируя западнее и севернее её, обнаружить и атаковать вражеские минные отряды, выдвигающиеся к проливу.
В том, что от них в ближайшее время вокруг будет не протолкнуться, никто в штабе эскадры не сомневался. Приказом запрещалось использование своих прожекторов. Ход, построение отряда, боевые курсы, схемы взаимодействия и ведения огня оставались на усмотрение командира отряда. Опознавательные сигналы для светового телеграфирования и связи по беспроволочному телеграфу в крайних случаях сохранялись прежними. С рассветом крейсерам надлежало вернуться обратно, если не поступит других распоряжений.