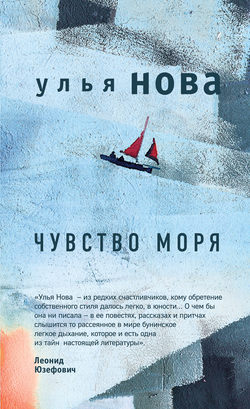Читать книгу Чувство моря - Улья Нова - Страница 4
Часть первая
Глава первая
3
ОглавлениеКапитан возвращается из столичной больницы на дребезжащем рейсовом автобусе. Припав пылающим лбом к ледяному стеклу, недоверчиво созерцает сквозь пунктуацию дождя тщательно перепаханные, прибранные будто перед похоронами поля. Стараясь отвлечься от больничных мыслей, тянущих в груди пушечным ядром, он обманывает себя, с поддельным брюзгливым интересом разглядывая домики фермеров, отработавшие осень и теперь впавшие в спячку трактора. Смотрит и не различает кустики, трепещущие на ветру остатками буро-красной листвы, разделяющие владения бледные ряды тополей, монотонно-прозрачный сосновый лес. В другое время и при других обстоятельствах придорожные пейзажи, перепаханные и притихшие просторы приворожили бы его, заставили забыться. Но не сегодня. Смущенный затхлым запахом мази и усталостью мятой пижамы, капитан спускает больничный пакет на пол и нетерпеливо заталкивает его под ноги, с глаз долой.
Редкие величавые холмы, домики с безмятежно струящимся дымом, все же оказались слабее видений последнего месяца. Что эти тускловатые и умиротворяющие сельские картинки в сравнении с вонзившимся в вену шприцем для внутривенных инъекций? Шнур капельницы покачивался на фоне бледно-голубой стены, в нем ни в коем случае не должно было случиться пузырька воздуха. Прозрачные завитки со струящейся внутри жидкостью накрепко приковывали взгляд. На тумбочке – ворох листов, испещренных занозистыми зубцами кардиограммы. Пальцы медсестры с перламутровым лаком на птичьих коготках ровно в полдень становились белесыми, изо всех сил вжимая поршень шприца.
Пожилой доктор Ривкин (седые усы казались накладными и с каким-то настоятельным жизнелюбием пахли одеколоном), доверительно понизив голос, с умышленной неторопливостью изрек, что во внутренностях капитана обнаружилось что-то вроде глубоководной мины, пусковой механизм которой начал было стремительный обратный отсчет. Но капельницами, уколами, таблетками и порошками обратный отсчет зловредного образования удалось замедлить, можно сказать, почти приостановить. В настоящее время опасности для здоровья не наблюдается.
Капитану не понравились сбивчивые полутона «можно сказать» и «почти приостановить». Они досаждали, не давая полного покоя. Будто дождь, пробившийся сквозь течь в крыше, эти слова все время капали невдалеке, не позволяя ни на чем сосредоточиться. Перед выпиской капитан задумал освободиться от неожиданно вторгшегося в жизнь неудобства. Намереваясь хитровато выпытать, как обстоят дела на самом деле, он купил в вестибюле больничного корпуса жестяную коробку рождественских печений, перевязанную беспечной золотой ленточкой. И, хоть до Рождества оставалось почти два месяца, решительно направился поздравлять врача с наступающим.
Благодаря правильно выбранной тактике: подношению и просчитанному добродушию, в ординаторской капитану предложили чай в кружке с отколотой ручкой и угостили пересоленным капустным пирогом, оставшимся после именин медсестры. Разговор рассыпался, разлетался в стороны, скатывался к незначительному. И все же он трижды переспросил: «Доктор, скажите прямо, мне к правде не привыкать. Я десять лет командовал портом, до этого много лет ходил с рыбаками в море. Однажды сеть нашего траулера «Медный» накрутилась на винт. Шесть часов ждали спасателей. Каждый молился всему, во что верил. И еще мы тогда обращались к близким, надеясь, что они там, на берегу, это почувствуют. И они почувствовали. И нас в итоге спасли. Не с таким справлялись. Всегда выплывали. Поэтому давайте мы с вами сегодня без мути. Скажите прямо, как на самом деле обстоят дела: почти приостановлен или только замедлен этот чертов пусковой механизм?»
Трижды среди пространных рассуждений и бывалых врачебных шуточек капитан пытался уловить хоть намек на надежду или указатель безысходности. Но врач юлил, дружески похлопывал его по плечу и незаметно переводил разговор на погоду: «Зима в этом году обещает быть снежной. Я слушаю прогнозы каждый день. Говорят, зима придет позже обычного. Хорошо, если под Рождество выпадет снег. А то будет, как в прошлый раз, дождливая новогодняя осень… Все в ваших руках, капитан! – неожиданно выпалил доктор, выхватив увесистую перьевую ручку из нагрудного кармана халата и тут же нетерпеливо приладив ее обратно. – О трубке и этих ваших папиросах придется теперь забыть».
Капитана обжигающе обдало не то разлукой, не то гнетущей вселенской несправедливостью. Он понял – жена нажаловалась. Она, его Лида, при первой же возможности сдала с потрохами. От этого внезапного открытия капитан превратился в безбрежную темно-синюю обиду, без просвета, без единого смиренного островка. Таким он прожил почти минуту: раздувая ноздри, ощущая горлом душащий ворот рубашки. Потом возмущение кое-как утихло, почти отпустило. Тем более что доктор Ривкин принялся рассказывать о какой-то благотворительной затее. Большую часть его неторопливых рассуждений капитан упустил. Но примерно к середине он все-таки взял себя в руки, даже добродушно кивал, делая вид, что с интересом внимает. Через полминуты у него не осталось сомнений: доверительный рассказ доктора о благотворительном проекте больниц – не иначе как слишком прямолинейный намек. На то, что капитан безнадежен. Зачем еще лучшему врачу столичной больницы, ученому с мировым именем в области сосудистых анастомозов, пятнадцать минут рассуждать о каких-то больничных письмах и настоятельно уговаривать капитана присоединиться к этой затее? Видимо, пусковой механизм зловредного образования приостановлен условно. Совсем ненадолго. В прострации оглушенного капитан диктовал адрес служебного почтового ящика в порту. Индекс, город, улица, капитану траулера «Медный». Этот ящик он не проверял, наверное, лет десять. И не собирался заглядывать в него уже никогда.
– К тому же вот вам хороший повод для прогулок. Почаще ходите к морю и не забывайте проверять почтовый ящик, – жизнерадостно подытожил доктор, и капитану тут же захотелось принять сильное рвотное, чтобы поскорее выблевать из памяти весь этот день, весь без остатка.
Однако по-больничному покладистый, утихший и вразумленный, он все же купил в дорогу пакетик леденцов. Уложил его в карман куртки с какой-то новой суетливой прилежностью. И теперь сосредоточенно перекатывал приторную вишневую конфету за щекой – именно так доктор Ривкин советовал отвыкать от трубки и папирос. От электрической сигареты старательно отговаривала санитарка Астра:
– У племянника фальшивые сигареты только крапивницу вызвали, а желания покурить не отбили. Сестра жалуется, что после них парень еще больше курит. Травкой начал баловаться. Но тут уж виновата не электрическая сигарета, а его новые дружки из шиномонтажной мастерской, – ворчала необъятная Астра, как умелый больничный автомат, скидывая на пол, в общий ворох, отслужившее белье капитана: пышущую жаром простыню с розовыми полосками, скомканную наволочку с мутным орнаментом из незабудок, которые еще долго будут мерещиться перед сном, вызывая томящую нутро тяжесть. Слушая ее вполуха, капитан с досадой разглядывал мятую кучу тряпья, мусорный пакет с каждодневными отбросами – вот и все свидетельства его затянувшегося пребывания в больнице. И еще он подумал, что точно так же от него однажды останутся отбросы, заношенные вещи, усталая утварь. Начатые телефонные книжки. Поломанные очки. И больше ничего…
Ковыляя к автовокзалу на непривычно расшатанных, набитых опилками ногах, он панически норовил ухватиться: за натертый до блеска поручень лестницы, за ледяной барьер велосипедной парковки, за пластиковую стену торгового центра, похожего на кубик Рубика. Его как никогда будоражили, выводили из оглушенного больничного покоя уличные гудки, окрики, полосатые шарфы, вспыхивающая на экране реклама кошачьего корма, бегущая строка автовокзала. Будто слепец, он зачем-то ощупал дверь остановившегося на светофоре такси. Ухватил за рукав старичка в выгоревшей парусиновой куртке. Брел наугад, огибая спешащих утренних служащих. Пытался подслушать затаивавшуюся в глубине внутренностей глубоководную мину. На каждом шагу прояснял, как обстоят дела с ее пусковым механизмом: продолжает он неукротимый обратный отсчет или эти капельницы и порошки все же заставили его приостановиться на время? Интересно, на какой именно цифре им в больнице удалось замедлить или временно оттянуть злокачественный процесс? Вдруг на крошечном экране мины дрыгается алая пятерка? Или мигает тройка. Подвернешь невзначай ногу. Не рассчитаешь тяжести, набрав лишние пять килограммов картошки на рынке. Примешь слишком близко к сердцу трамвай, разукрашенный рекламой ток-шоу. Сорвешься, накричишь на медлительного красавчика из магазина мобильной связи. И маленький латунный шарик неожиданно потеряет равновесие, перекатится на рычажок, подтолкнет крутиться колесики и шестеренки, возобновив неумолимое утрачивание, истощение, истончение, стремительное движение к концу.
Готовый скулить без сигареты и плеваться леденцом, обмазавшим рот приторной вишневой слизью, капитан смотрит в окно и не видит проносящиеся за стеклом речушки. Опавшие листья, взметенные придорожным сквозняком, мерцают вдоль обочины желтым и бурым, кажутся клочками изъеденных огнем больничных бумаг. Зачем-то почудилось и через секунду стало несомненным: чертов автобус не доедет сегодня до конечной остановки, по дороге стрясется что-нибудь страшное. Непоправимое. Жена его больше никогда не увидит. На этом точка. И черная кружевная скорбь.
Снова сорвавшись, затосковав от мрачных предчувствий, разыскивая повсюду тайные подтверждающие знаки конца, капитан смотрит на усыпанное пунктирами дождя стекло и не видит за ним завиток окружной магистрали, мятые декоративные капусты, стриженый можжевельник придорожных клумб. Он смотрит и не чувствует полуденный покой двух гнедых лошадок, нахохленный домик фермера, звенящий прозрачностью сосновый лес. От напряженного вслушивания внутри что-то начинает тянуть и как будто тает каждую секунду, усиливая слабость. Капитан не может понять, как ему теперь быть с подсмотренными в больнице картинками правды, которая назойливо зияет, пересиливая настоящий момент, ослепляя своей нищей истощающей ясностью. Куда девать настырный, прокравшийся под кожу запах приторной овсянки, перемешанный с хлоркой утренней дезинфекции? Как быть, куда нести, на что употребить удушливую тишину палаты после того, как ночью в реанимацию, а потом в морг перевезли соседа, добродушного болтливого толстяка в клетчатой рубашке с закатанными рукавами. Мимо больничного забора все время спешили люди. Празднично-беспечная связка свадебных шаров запуталась в проводах между корпусами и моргом. В один из больничных дней капитан минут десять пристально наблюдал яростные попытки ветра вырвать и унести этот увядающий букет в мутно-серое небо. Именно тогда, без предупреждения, перед ним распахнулась бездонной пропастью, возникла и воцарилась безучастная быль сама по себе, без его обязательного и неотъемлемого здесь присутствия. Притягательный и истязающий мир, существующий независимо, осуществляющийся спонтанно, от предчувствия которого уши закладывает и сердце рушится в лишенную смысла пустоту. Но стоп, нельзя нервничать, нельзя провоцировать пусковой механизм чертовых внутренностей. Эти печали, обдуманные по десятому разу, наскоро спутанные в замусоленные клубки, вот уже несколько дней тяготят, не дают ни на чем сосредоточиться, наливаются в груди черным якорем, вроде тех, что внушительно громоздятся вдоль главной аллеи приморского парка. Становится нестерпимо, омерзительно, невозможно. Капитан как никогда осознает себя запертым в западне изношенного тела, своих лет, своего прошлого. Воротник рубашки душит. И больше нет сил как следует, широко, свободно вдохнуть.
Автобус несется мимо полей с седеющей травой поздней осени. Через проход девица в бордовой шапочке с орнаментом из оленей прилежно царапает печатные буквы в кроссворд. Где-то впереди учитель обзванивает родителей отстающих школьников, громко призывая уделить внимание грамматике, ведь дело идет к рождественским каникулам и совсем скоро – итоговый диктант.
Автобус вырывается из сырого и прозрачного леса на открытое пространство – по сторонам дороги снова молчаливо и монохромно тянутся поля, перемежаемые тропинками, канавами, ручейками, разделяющими владения рядами тополей. На грудь капитана давит мраморная плита уныния, он еле дышит, он окончательно сдается, не в силах это выносить. Становится совсем невмоготу: мутно, тягостно, тесно. Впереди угадывается лишь тупик обморока – такой знакомый провал в душащую темноту. Именно в этот момент вдруг что-то происходит. Будто бы рвется леска. Одним махом все его смятение, теснота и немощь исчезают. Дыхание освобождается, как если бы распахнулась форточка в ливень. Сердце перестает ощущаться камнем, потом перестает ощущаться вообще, как в детстве, впервые за долгие недели болезни. Будто по невидимому мановению руки он неожиданно получает отпущение всех своих прошлых и будущих грехов, неожиданную и оправданную безмятежность. Как если бы ему разом подарили всесильную и щедрую индульгенцию, стирающую воспоминания, притупляющую предчувствия. Над верхушками молодых сосен в придорожном леске неторопливо и плавно кружит трехлопастный серебряный ветряк, знак близости моря и своры его порывистых многоликих шквалов. Оживившись, капитан тут же осматривается по сторонам, замечает поодаль второй. Третий. И еще вдалеке – четвертый. Он собирает ветряки, как свое разбредшееся по округе стадо. И все внутри трепещет нарастающим ликованием спасения. Именно так его душа всегда чувствовала море, переживала приближение к бескрайнему своему сородичу: молчаливо-задумчивому, убаюканному чайками, окутанному закатным туманом.
Гнетущие душу вмятины расправлялись, тяжесть отходила, и капитан жадно пил мутноватое небо с едва различимой горчинкой морской соли. Охотно забыв о пусковом механизме, о шприцах, о больничных креслах-каталках, он развернулся к окну, без остатка превратившись в пристальный, ненасытный, чуть прищуренный взгляд. Заметил на крыше придорожной автозаправки трех чаек. Понял, что сегодня до смешного ошибся предчувствием, до неузнаваемости приуныл, подгнил в больнице. Узнал наверняка, что доедет до дома целым и невредимым. И совсем скоро обнимет свою Лиду, шепнет ей на ушко, что все будет хорошо.
Засмотревшись на слитные, могучие движения ветряка, успокоенный и почти счастливый, капитан не прочувствовал, не успел разгадать, что едет по этой дороге из столицы в свой портовый городок в последний раз…
Несколько лет назад две румяные работницы рыбоконсервного комбината шумно ворвались в приемную, заболтали секретаршу, улучили момент и все же преподнесли ему копченого судака в промасленной вощеной бумаге. Одна из них заразительно хохотала и старательно прятала глаза под чуть влажной рыжей челкой. Капитан почему-то не решился нести подарок домой. Не хотел рассказывать жене, откуда взялась рыба. В тот вечер разразился сильный шторм с грозой. И они со смотрителем укрылись от ливня и ветра в каморке-подсобке деревянного маяка. Этот старый маяк, застывший посреди лужайки судоремонтного завода, был похож на одинокого гордеца. Море постепенно отступилось от него, крадучись удалилось прочь, оставив заносчивого старца ошиваться на ветру в окружении списанных бакенов, прохудившихся лодок, подгнивших сетей, обрывков якорных цепей. Не желая мириться с тем, что он разлучен с морем и превращен временем в рухлядь, в призрак самого себя, в украшение газона, старый деревянный маяк при каждом удобном случае жаловался на судьбу.
В тот день они засиделись со смотрителем далеко за полночь, изредка ненадолго умолкая, чтобы послушать скрипы и стоны здания, чтобы дать возможность старикану-маяку высказаться. Как если бы беседовали на самом деле они втроем. После череды тяжких поскрипываний и жалобных завываний ветра в винтовой лестнице, ведущей на обзорную площадку, смотритель маяка поведал капитану о чувстве моря. Щербато улыбаясь, осевший в городке финн утверждал, что оно есть у каждого, кто живет на берегу. Чувство моря – неукротимая необходимость моря в жизни. Невозможность жить на равнине, на замкнутом в себе участке суши, окруженном полями и свалками, деревнями, дорогами и лесами.
С жаждой заглатывая пиво из эмалированной кружки, запихивая в безгубый рот копченые косы рыбы, смотритель маяков изумлялся: как же люди умудряются жить где-то там, в глубине равнины? Как они вообще дышат, отрезанные от берега, запертые среди лугов, высоток и автострад?
Капитан хорошо помнил, когда чувство моря впервые возникло. Спонтанно и неистово, как вспыхивает сильная обида, саднящая скорбь или любовь, не притупляемая годами. Он помнил день в далеком детстве: родители везли его в Анапу, на тщательно спланированный, прописанный врачом отдых – поплавать и прогреться после тяжкой зимы ангин. Именно в то лето, в поезде, что-то внутри начало улавливать частоту моря, его затаенное дыхание, его ширь, говор и тишь. Как будто в самом центре груди возникла чуткая антенна, которая распознает море, где бы оно ни было, – с тех самых пор и по сей день.
Это ощущение повторилось c ним три года спустя, в день похорон дяди, младшего брата матери, бездетного учителя черчения, левое плечо которого вследствие прожитой жизни почти приросло к уху. В новом, недавно отстроенном столичном крематории, напоминавшем архитектурой алюминиевую космическую станцию, он замер у окна с уходящим к горизонту окраинным кладбищем и царившей над ним многослойной, надрывной тишиной. Прижав нос к стеклу, с испуганным любопытством скользил по рядам могил, листая их, будто огромную каменную книгу. Подмечал помпезные надгробья деятелей городской администрации, памятники похороненных на окраине актеров и генералов, не знавших при жизни и посмертно недостатка в средствах. Уходя вдаль, величественные плиты мельчали в туманной дымке, горбились и таяли под нависающим осенним небом. Убывали, плавились, переходя в насаждение черных и серых крестов. Постепенно перетекали в колючий кустарник чугунных оградок, обозначавших последнее укрытие, чей-то тесный приют. Лес крестов и оград упирался в безыскусные бетонные стены, в нескончаемый лабиринт, таивший многочисленные урны с прахом. Они располагались одна над другой, в строгом порядке аптечного шкафа со множеством замурованных ящиков, с тысячами разнообразных отзвуков дребезжащей насупленной тишины. И взгляд мальчика растерянно скользил по тропинке, уходящей вглубь кладбища, от мест захоронения знаменитостей и чиновников – в бесконечность мельтешащих, мельчающих, тихих имен и дат. И в какой-то момент чувство моря неожиданно напомнило о себе, распахнулось и защемило нестерпимо, безудержно, в самом центре груди.
Капитан знал с самого детства: море никогда не глядит на тебя, оно происходит безразлично и невозмутимо, обособленно, в своей вечности. И все же многие годы он ощущал это как тягу, как болезнь, как обреченность: безутешную недостаточность моря в жизни. Смотритель маяков утверждал: если такое произошло хоть раз, ты пропал, ты попал в западню, ты теперь привязан к морю накрепко. Ты никогда больше не будешь по-настоящему жив без него. В тебе воцарилась роза ветров. Тебя треплет в разные стороны свора яростных морских шквалов, переменчивых, безымянных. Неукротимых.
«Если чувство моря хоть раз возникло в самом центре твоей груди, – бормотал смотритель, не обращая внимания на то, что некоторые слова заглушают дождь и ветер за оконцем каморки-подсобки, – это значит, что однажды настанет день, когда ты перестанешь принадлежать себе». И вот ты уже обрываешь якорную цепь. Покидаешь дом своего отца, студенческое общежитие, тесную квартирку тестя. И вот ты уже плетешься мимо деревень и автозаправок, по однообразным, слившимся в утомительный путь полям, яблоневым садам и холмам. Почти бежишь со своим стареньким чемоданом, наобум, вслепую, нетерпеливо. По пути теряя зубы и волосы, вывихивая пальцы, ломая ногти, сбивая ноги в кровь. Оставляешь за спиной годовалого сына с его первыми веснушками и изумленно распахнутыми глазенками цвета темного янтаря. Выпускаешь, будто прирученную птицу, узкую ладонь дамы. Прибавляешь шаг и почти бежишь, стараясь не замечать косолапо плетущегося за тобой щенка. Не оборачиваешься, хотя так хочется обернуться на соседскую девушку в цветастом платье, груди которой похожи на вымя молодой козочки, а глаза – на потемневший от времени горный хрусталь. И ты расстаешься с плетеным креслом, с нависающим над яблонями балконом, с тихим переулком припаркованных возле кондитерской велосипедов, с ночным городом, мерцающим огоньками фонарей и витрин. Разлучаешься с домом, с покоем, с любовью, с вечностью, лишь бы наконец выйти навстречу своему морю. Зажмуриться, шагнуть на прибрежный песок и предоставить себя в объятия его ветрам.