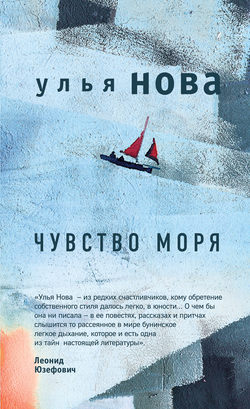Читать книгу Чувство моря - Улья Нова - Страница 7
Часть первая
Глава вторая
3
ОглавлениеОставшись в комнате один, он развернул газету посередине и заглянул сквозь строки в безбрежную неизвестность. Его обычно улыбчивое, заразительно-лучистое лицо мигом опало, натянутая ухмылка расплавилась, обезоружив растерянную обескровленную личину. Там, в больнице, капитан не сомневался: дома он мигом обретет ощущение берега, как всегда, станет устойчивым и квадратным, несокрушимо живучим, умеющим везде и всюду находить опоры. Но ничего подобного не произошло. Он растерянно моргал, заслонившись газетой. И сокрушенно признал, что теперь даже ожидает, настороженно и покорно готов улавливать новые доказательства в пользу «временной остановки пускового механизма» чертовой глубоководной мины. Весьма неопределенной. Для всех неожиданной. А значит, готов покориться безысходности, принять ее и ждать худшего.
Всю последующую неделю его на каждом шагу подстерегали намеки, едва различимые штришки, доказывающие обоснованность опасений. Он не ожидал, не был готов оказаться с этим упорным обстрелом один на один. Он догадался, что каждый новый выстрел-подтверждение его обреченности будет настигать неожиданно и жестоко, сбивая с ног, лишая опор, будто рождаясь в ответ на его слабость и смятение, на буйное беспокойство утопающего, на его смирение, на нежелание во что бы то ни стало выкрутиться и все же спастись из этого переплета.
На третий день после возвращения из больницы он затаился, стал подозрительным. Он наблюдал. Еще через два дня обычную добродушную говорливость как рукой сняло: капитан вслушивался в каждое слово Лиды, норовя угадать очередную атаку неутешительных доказательств. Скоро он без труда разведал: жена сменила тариф мобильного на дешевенький, предполагающий меньше бесплатных минут в месяц. На лице приехавшего навестить сына отчетливо читалась неловкость. Прямодушный Лев ни капельки не умел подыгрывать и притворяться – весь в свою мать. Пожалуй, в отличие от нее, сын плоховато справлялся с ситуацией, совсем не умел выносить растянутую во времени, нависающую над домом безнадежность. Чтобы как-то подбодрить парня, после ужина капитан украдкой вложил ему в ладонь свернутый гармошкой примиряющий стольник. Похлопал по плечу, поинтересовавшись, как на чемпионате сыграла итальянская сборная. «А португальцы? И ты не удосужился записать для меня финал, помнишь, как бывало, когда я ходил в море?» Но нет, Лев не записал для него финал чемпионата, было слишком много работы. На голове сына угадывался тот же невидимый поднос со стаканами, которые тихонько позвякивали при каждом неосторожном движении. Неловкость. Настороженность. Необходимость взвешивать каждое слово, прежде чем оно все-таки прозвучит.
После семейного ужина, чувствуя себя, как если бы отработал неделю в шторм, капитан неожиданно наткнулся на любопытное объявление в районной газетке за позапрошлую неделю. Вначале он не понял, примирительно усмехнулся. Потом сердце поперхнулось, отдалось в левом виске, бултыхнулось в шее. Он проверил каждую цифру, перечитав объявление трижды. Все совпадало: номер и цвет его старенького «Рено», мобильный сына. Капитан хотел позвать Лиду и как-нибудь мягко, примирительными намеками расспросить, с чего это они решили продавать его машину, не посоветовавшись, не спросив. Кое-как сдержавшись, он кинулся к секретеру, с нетерпением расшвырял стопку газет, уронил на пол телефонный справочник, немедленно намереваясь проверить, было ли объявление в последних номерах газеты, совпавших с его переводом из реанимации в палату вернувшихся с того света.
Вместе с ворохом растрепанных журналов по садоводству и оздоровительными листками на серой ворсистой бумаге из глубин секретера прямо ему в ладонь выкатился маленький ржавый ключ от служебного почтового ящика. Капитану редко кто писал в последние годы. «Наверняка, – подумалось ему, – теперь почтовый ящик в порту до отказа забит рекламой пиццы, предложениями кредитов, визитками адвокатских контор, буклетами бань и могильных памятников – на любые случаи жизни и ее возможных последствий». Капитан тут же выпустил из головы злополучное объявление о продаже машины и сжал ключ в кулаке. Вспомнилась странная затея с письмами, о которой так настойчиво рассказывал ему доктор Ривкин. Теперь было жаль, что он все прослушал там, в больнице, что не понял ни слова. «Надо будет на днях прогуляться в порт, проверить, может быть, они что-нибудь уже прислали», – снисходительно подумал капитан, и это впервые после возвращения слегка примирило его с настоящим, создало какую-то смутную цель его дней. И слегка отрешило от всего вокруг.
Еще одной новостью, которую он старательно пытался недопонимать, стало слишком частое упоминание нелюдимого и довольно неприятного соседа. Угрюмый бородач всегда напоминал капитану один из фонарных столбов, что смиренно горбятся на набережной, над темной осенней рекой. Многие годы сосед непримечательно жил наискосок на четной стороне улицы. Его добротный дом казался безликим, слитым с такими же основательными строениями, без искорки, без послания. Теперь этот дом зачем-то прорисовался, выскочил из ряда других – приглушенно-коричневый, с аккуратными бежевыми ставнями, с пустыми и молчащими окнами без статуэтки, без горшка фиалок, будто хозяин тщательно скрывал свои привычки, свои предпочтения.
У соседа в позапрошлом году умерла жена, и дочь с внучкой тут же переехали в столицу. С тех пор к нему никто не приезжал, не заходил в гости. Сам того не желая, капитан зачем-то узнавал от Лиды подробности жизни скованного долговязого человека, с которым за последние десять лет здоровался от силы трижды. Оказывается, этот Яков когда-то работал радиоинженером в оборонной организации. Теперь по вторникам и четвергам он вел в детском центре радиокружок. У него огромная коллекция радиоприемников, самых разных, со всего мира. Они занимают три стены радиостудии детского центра, такой маленький музей. Там есть ламповые и транзисторные радиоприемники. «Cпидола», «Родина», «Сельга», – Лида поизносила их названия с незнакомым капитану благоговением, будто имена священных птиц. «Представляешь, – оживляясь, щебетала она, – все его приемники до сих пор работают, на любом можно поймать какую хочешь музыку или новости». Она уже знала, что дед Якова тоже был радиомехаником. Самый первый радиоприемник коллекции дед смастерил сам, по схеме из журнала. Этот самодельный радиоприемник всегда начинал шипеть и подкашливать, улавливая приближение к городку урагана. С помощью его дед Якова раньше всех узнавал, что к городку подступается непогода. Он частенько предупреждал соседей, чтобы они закрыли ставни, захлопнули форточки, сняли белье и впустили на ночь в дом цепного пса. За это над стариком сначала подсмеивались, считали чудаком, но со временем к его советам стали прислушиваться, ведь самодельный приемник никогда не ошибался.
Утопающий в малопонятном, утратившем прежние опоры мирке, безжалостно атакуемый лихорадкой, капитан выслушивал Лидины рассказы о соседе. Неразговорчивый Яков два раза подвозил Лиду на автовокзал, чтобы она успела в больницу. Сосед вызвался не сам, она его упросила и заплатила, хотя он отказывался брать деньги. Когда капитан был в реанимации, Яков неожиданно зашел узнать, не надо ли помочь. Застав Лиду в смятении, долговязый Яков, похожий на проржавевший циркуль из старой готовальни, сидел в гостиной, читал газету, прилежно отсчитывал для Лиды двадцать капель успокоительного. Он ни о чем не спрашивал, не утешал, не пытался подбодрить. Просто сидел, поскрипывая креслом, переплетя длинные худые ноги жгутом. Никак не скрашивал дребезжащую тишину дома, нисколько не смягчал тягучую неизвестность. Никакой суеты, никаких слов. Он тенью таился в углу, пока Лида судорожно листала врачебный справочник, в десятый раз перечитывая одно и то же. И упрямо старалась надеяться на лучшее, которое неожиданно случилось, стало возможным: капитана вытащили из волокнистой темноты на свет, вытянули из обморока в полусонное, бесчувственное состояние младенца, а потом перевели из реанимации в палату воскресших. После трех тяжких вечеров, испепеливших нутро Лиды саднящей неопределенностью, неулыбчивый и молчаливый сосед стал для нее чем-то вроде талисмана, превратился в особого друга семьи, умеющего без слов и суеты создать противовес неизвестности.
«Его участие помогло справиться, понимаешь. В этом заключается, именно так действует человеческая доброта», – щебетала Лида за ужином, по-новому заботясь о прическе, слишком прилежно нарезая в тарелке капитана парную говядину. Он послушно кивал, изо всех сил стараясь недопонимать. Тем не менее по затылку ворчливым холодком сквозило: зарплата Лиды с трудом покроет расходы на свет, телефон и газ. А кто будет платить за дом? Кто будет ее кормить? Кто в одну из апрельских суббот повезет ее на рынок за саженцами для клумбы, за бархатцами и петуньями для цветочных ящиков? От догадок, предчувствий, прозрений, в которые не хотелось до конца вникать, черный якорь в груди капитана плавился в ядовитый кисель, вытравляющий все живое и радостное в огромном радиусе вокруг него. Будто учуяв эту горечь, на подоконнике увяла карликовая розочка, десять лет дарившая Лиде крошечные бледно-розовые цветы и остроконечные бутоны.
От зловредных воздействий своей печали капитан все же сломался, расклеился, слег с лихорадкой. Его бросало в жар, потом обдавало ледяным февральским ветром. В редкие минуты улучшений он бродил по дому бессильным и бесцветным призраком. Маялся без дела, выдвигал и тут же задвигал ящики письменного стола, не желая вникать в дичающие вещи, в документы и бумаги, превращаемые его безучастием в бессмысленный и отживший хлам.
В серванте пылились его сокровища – увесистые куски янтаря, выловленные сетью вместе с рыбой на самой середине моря. Они лежали на полках, приглушенно мерцая внутренним солнцем, загустелым медом, смолистым покоем. Раньше капитан частенько открывал дверцу серванта, любил иногда перебрать свои янтарные слитки, припоминая, когда и где их удалось вызволить из морской неизвестности. Иногда он бережно стирал с них пыль, стараясь проникнуть тряпочкой в каждую впадинку, в каждый разлом застывшей смолы. Иногда он закрывал глаза и сжимал в кулаке медовую легкость, чувствуя, как невесомая и лучистая слеза глубин постепенно нагревается от его ладони. Теперь дверцы серванта были заперты на ключ, туда совсем не хотелось заглядывать. Ничего не хотелось перебирать. Янтарь темнел, утрачивая прозрачность, обрастая тоненьким серым шифоном пыли и забвения.
Пару раз, когда температура спадала, капитан подходил к книжному шкафу, ворчливо вытаскивал из ряда крепко прижатых друг к дружке томов какой-нибудь случайный. Вертел книгу в руках, пролистывал, выхватывая отдельные выкрики, названия глав, сноски – и тут же прятал книгу с глаз долой, суетливо запихивал как придется, заламывая и сминая страницы. Даже карты всех стран и всех океанов стали ему безразличны. Даже атласы, над которыми он раньше любил забыться и терял счет часам, до бесконечности изучая зеленоватую бумажную поверхность морей, разлинованную меридианами, усеянную дразнящими скорлупками просыпанных самим богом островков. Даже они оказались слабее, не способны были придать хоть немного прежних сил, хоть крупицу воодушевления.
По вечерам, когда Лида на кухне неугомонно позвякивала крышками наперебой с музыкой радио, капитан шепотом разговаривал со своей миной. Как рыбак из книги «Старик и море», вынырнув из серого морока нарастающей слабости, он цитировал по памяти: «Мина, я с тобой не расстанусь, пока не умру… Да и ты со мной, верно, не расстанешься». Иногда злая мина представлялась ему хищной муреной, затаившейся до поры до времени под обугленными корягами кишок. Или стаей пираний, которые по ночам отщипывали тут и там от стенки его брюшины. А иногда он отчетливо чувствовал справа, под ребрами, маленькую молодую акулу, злую и голодную, готовую вот-вот наброситься на его печень и начать безжалостно отрывать от нее куски. «Как ты там, мина? Все таишься, все помалкиваешь? Скажи, чего ты задумала? Сколько твое затишье продлится – неделю, семнадцать дней или, может быть, месяц? Чего ты теперь поджидаешь – думаешь, я сдамся и струшу? Не молчи, мина! Но еще лучше – молчи и не отвечай».
И капитан снова тонул среди отстранившихся от него вещей. В такие минуты комната казалась чужой, почти незнакомой. Как будто вдруг обособилась, отдалилась и стала одной из множества каморок городка, в которой корчится от усталости и бессилия незнакомый, отживающий человек. Каждое утро, едва капитан открывал глаза, его приводили в отчаяние шторки, года два назад купленные женой на рождественской распродаже. Как она радовалась в тот день, как она оживленно строчила на машинке эти оборки, уже порядком обтрепавшиеся. Сколько маленьких бытовых надежд, самодельных радостей, нанизанных на ниточку его дней, теперь покрылись патиной, утратили фальшивую позолоту. Померкли. Казались почти омерзительными.