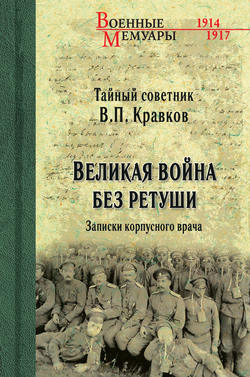Читать книгу Великая война без ретуши. Записки корпусного врача - В. П. Кравков - Страница 15
1915
Апрель
Оглавление10 апреля. На театре военных действий, по газетным сведениям, продолжается длительное затишье. Вот уже месяц прошел, как я живу в домашней обстановке – «отдыхаю» после перенесенных мною всевозможных треволнений на войне, испытывая здесь еще большие муки, чем на ней: с одной стороны – от адской ненависти к созданию, с к[ото] рым безжалостная судьба заставляет меня жить в противоестественном симбиозе, от чего только и могу мало-мальски спасаться стойко выдерживаемой многолетней немотой и непротивлением, с другой же стороны – от безгранично-страдательной любви к моей бедной Ляле, к[ото] рой я ничем не могу помочь в ее горе, облегчить глубокое чувствование к[ото] рого для самого себя я не в состоянии, да и не хочу – стыдно и бессовестно мне было бы к этому стремиться, остается мне только безутешно о ней плакать и плакать… Пользуюсь мимолетно лишь теми радостями, к[ото] рые доступны и моей дорогой Ляле; остальных – не приемлю… Хотя ужасный конец был бы, может быть, и лучше бесконечного ужаса, но… но… право, уменье храбро умереть куда к[а] к легче уменья храбро продолжать жить… «Молчи, скрывайся и таи… чувства твои; лишь жить в себе самом умей». Трагически переживаю еще и чувствование того, что «все кругом изменяется – все течет».
15 апреля. Прибрел в дремучий безвыходный тупик; жизнь безо всякого просвета впереди; все более и более меркну, хожу как угорелый в состоянии к[акого]-то оглушения и общего паралича умствен[ной], сознательн[ой] деятельности от надвинувшегося на меня несчастья; несчастье же не в том, что я глубоко страдаю, а в том, что адски страдает моя бедная Ляля. О, как жжет мою душу ее вопрос: «А не могу я, папа, сразу оглохнуть?» Или случайно брошенная в разговоре фраза, что жизнью она совсем не дорожит!.. Боже мой, где для меня убежище в этом море?!
Сегодня уезжаю обратно на войну. Ч[то] б[ы] разрядить несколько похоронную атмосферу убедительно просил Соню[735] приехать вечером, побыть с нами вкупе, а также умолял, ч[то] б[ы] никто меня не провожал на вокзале, кроме, по крайней мере, Сережи. Неизбывное горе свое не с кем разделить, Сережу жалко терзать, да он и без того глубоко страдает. «Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?» Переношу горе молчаливо, без крика; тем тяжелее. А что все «глупые», «странные», «чудаки» – не являются ли они часто скрытыми носителями переживаемых ими, охвативших их всецело душевных мук?! Так хотелось бы сказать Ляле: «Живи не стесняясь – не так, как я хочу, а как хочешь ты, но только будь счастлива, конечно, по-своему, а не по-моему, как бы мне мучительно твое счастье не было!..» Успокаиваюсь немного, когда не вижу Ляли, но это меня еще больше мучает.
Психическая дуболобость сожительствующих у меня в доме двух сестер Лукиных[736] достигает последних пределов терпимости. Бесчувственные и безмозглые твари! Жить мне с ними нельзя, не рискуя совершить уголовное преступление[737]. Делаю прыжок в неизвестность; переживаю моральный перелом, разрываю с последними остатками моих привязанностей с родиной. Буду всячески бороться, ч[то] б[ы] идти в согласованности со здравым смыслом и разумом, а там что Бог даст. Буду бешено ездить и ездить, ч[то] б[ы] в изнеможении физическ[их] сил забывать свое горе. У моих близких что-то выпало для меня, а у меня для них…
16 апреля. Утром под Вязьмой[738]. «Не рассеять мне дум тяжелых…» Ляля, Ляля!.. Да и Сережа не менее ее – страдалец. Не радует и распускающаяся краса природы; деревья зазеленели, началась пахота, по полю бродят стада коров, овец. Тянет к тишине, простоте, неторопливой безыскусственной жизни!
17 апреля. Приехал в Гродно. Получил письма от сестер – Томкевич, Селивановой – теплые, хорошие, но душа моя лишилась способности созвучно им откликнуться, неизбывное мое горе меня раздавило; мне мучительно стыдно было бы быть лично хоть чем-л[ибо] довольным, когда моя Ляля так несчастна.
18 апреля. Погода прекрасная; у нас на фронте тихо. Не видно суматохи вокруг. Встретили меня в штабе приветливо. На вопрос Радкевича – «Ну, что у вас там нового?» – я ответил, между прочим, что-де все тянутся к нам сюда воевать; на это он, переглянувшись с начальником штаба, удивленно заметил, что «у нас же все неудержимо стремятся отсюда – туда!»
Как будто после перенесенной грандиозной трепки никак не приду в себя, чувствую себя пришибленным и уничтоженным, весь во власти дум о ребятах, особенно о Ляле; не могу без слез видеть гуляющих и проходящих здесь в ее возрасте девушек – жизнерадостных, полных надежд, здоровеньких!.. Душа моя опустошена, не могу писать; на внешние впечатления не нахожу в ней звуков для ответа; не помогают мне никакие болеутоляющие средства.
Был во всенощной в соборе, где очень хорошо поют. С ненавистью бегу всяких развлечений; на людях мне невыносимо тяжело. От овладевшей мной безысходной кручины поддался слабости – напился «горькой» и рано залег в кровать…
19 апреля. В городе жизнь совсем как бы по-мирному: открылись кинематографы, понаехали к военнослужащим жены, родные, скоро откроется оперетка. Немцы, занявши Россиены[739], поперли на Шавли[740] и Митаву[741]. По толкованию газетных щелкоперов – это все продолжение наших блистательных побед! Рузский и Селиванов[742] вовремя, ч[то] б[ы] не пережить своей славы, сошли со сцены; Сиверс же принужден подать в отставку; выручила его запасная б[олезн]ь – «ацетонурия», с к[ото] рой он много лет преуспевал по службе и продолжал бы преуспевать, не случись январская катастрофа… Много шансов на утверждение командующим нашей армией Радкевича; для меня он – обаятелен: человек образованный, несколько философ, покойный, гуманный, да и по стратегии, думаю, не хуже других командующих армиями, хотя и не «гениального» штаба.
Зашел вечером, спасаясь от тоски, в кинематограф; все покатывались со смеху от веселых сцен, мне же стало еще грустнее, хотелось плакать; не досидевши до конца, ушел.
20 апреля. Сильный ветер, холодно. Прошелся после утреннего чая по зацветшему уже саду при доме губернатора. Телеграфные и телефонные проволоки неистово выли и гудели, точно рыдали сотни к[аких]-то диких плакальщиц; чувствовалось что-то символическое и мистическое… Не с кем мне разделить своего бездонного горя-горького, некуда мне от него уйти… Живу изо дня в день, потерял всякую программу жизни, да и жизнь-то моя отлетела, увяли голубые мечты; овладевает жажда покоя и забвения. Изнываю под тяжким бременем самопознания и предвидения всего того, что должно случиться и чему должно быть. Как, посмотрю я, даже и людишки отлично умеют устраивать свою жизнь, и как дурацки все у меня вышло. «Чем выше чертоги я строил – тем ниже жилище обрел…»
Формируются у нас на живую руку какие-то 2 корпуса для действий в районе Гродно и Ковно; видел я в штабе и вновь назначенных командиров этих корпусов – Сирелиуса и Вебеля[743]; Боже мой, какое убожество! К обеду попал генерал Воронец[744] (?), поспешающий к своему командиру корпуса Сирелиусу на Ковно, ожидающему его с нетерпением. Радкевич объявил этому генералу, что им предстоит задача «из ничего сделать что».
Из междустрочного чтения официозных телеграмм Верховн[ого] главнокоманд[ующ] его и психически слепой не может не усмотреть, что дела наши на фронтах идут пока неважно; инициатива действий – всецело в руках немцев. В телеграммах как о крупнейшем трофее нашем оповещается urbi et orbi[745], что-де наш отряд взорвал у противника патронную двуколку[746]!! Не выручит ли нас теперь в критический момент Италия, об имеющем быть со дня на день выступлении к[ото] рой стали писать газеты? Пошли, Господи!
Штабные наши «рябчики» разукрасились боевыми орденами с мечами и бантами; каждый из них стремится к скорейшему продвижению вверх по служебной лестнице, но… но… с прекрасно разработанным в стратегическо-тактическом отношении планом наибезопаснейших путей в достижении своих целей.
Мой разговор с подполковником бароном Икскуль о том, как он получил «Владимира» 4-й ст[епени] с мечами и как рассчитывает он получить командира полка, ч[то] б[ы] миновать теперь неприятной для него необходимости хотя бы полтора протекционных месяца прокомандовать предварительно батальоном; подвиг же его заключался в том, что 31 января он на автомобиле отвез пакет генералу Российскому, потерявшему-де было всякую связь с армией; верхом ехать – «не может» вследствие расширения вен на левой ноге! А полком командовать считает себя правомочным! Живет всю кампанию «по-семейному». Идеология сего марса есть идеология всего нашего воинства; сколько в ней для свежего человека цинизма, разврата, моральной низости… О, если бы наши военачальники всю гибкость своего ума по части всяких плутней, обходов закона и передергивания карт pro uso proprio[747] да не поленились бы применить к противнику; последний уже давно был бы сокрушен!
21 апреля. День светлый, а на душе все скверно-прескверно. И оживающая природа уже не действует на меня так целебно, как прежде. Я как старый, истрепанный, избитый пес, если только не мешают мне «господа люди», тем лишь и занят, что лижу свои остро саднящие и ноющие неизлечимые раны; все более и более ухожу к себе внутрь, сознание затуманенное. Не в силах до сего времени ответить на теплые, дышащие жизнью письма от Т. и С. От всех городских развлечений – отвернулся. Нашел два умиротворяющих душу уголка – в саду возле госпиталя на берегу Немана и на городском кладбище.
22 апреля. Смущения и суеты по поводу вторжения немцев в Курляндию у нас в штабе не замечается. Искренне ли, деланно ли, но Радкевич сегодня за обедом высказался, что-де германцы все свои планы запутали (sic!). Недолго, по-видимому, ждать результата, кто из нас больше путает: мы ли, они ли… Я продолжаю верить в немецкую методичность, обдуманность, выдержку, ч[то] б[ы] насмешливо не относиться к кажущимся нам непонятными их операциям. Мало, с другой стороны, внушают мне доверия наши вожди (и вообще наши распорядки), ч[то] б[ы] не быть пессимистом…
Наш верховн[ый] начальник по санитарн[ой] части принц Ольденбургский называется у нас кратко: «Сумбур-паша».
23 апреля. Голубое небо, светлый день. Но мне и скучно, и грустно… Разъедаюсь рефлексией… Ляля, моя Ляля, Ляля дорогая!… Но счастливей ли тебя мой Сережа? Нет жертв, к[ото] рых бы, казалось, я не в состоянии вам принести, ч[то] б[ы] только вы были счастливы, но только кроме одной, это – любить того, кого я всеми фибрами души моей ненавижу. Я сделал все от меня зависящее, ч[то] б[ы] смягчить невыносимую непроглядность моей семейной обстановки до полного непротивления возмущающим мою душу лукинским никакой дезинфекции не поддающимся навыкам и повадкам – всей их навозной фотосфере, я принудил себя навеки онеметь до появляющихся у меня в этой поганой обстановке судорожных приступов удушения. Не лучше ли будет мне совсем к вам не возвращаться?
Что наша жизнь? Игра, в к[ото] рой главными козырями для выигрыша являются энергия и воля, но никак не ум и знания человека.
Сегодня утром узнал, что ночью над Гродно летал цеппелин, сбросивший несколько бомб. Среди жителей много жертв[748]. В местной газете «Наше утро» событие это озаглавлено «Разбойный набег цеппелина на Гродно»! Налеты же наших аэропланов на неприятельскую территорию, очевидно, не являются разбойничьими! Я, впрочем, неправ, негодуя на фальшивость нашей прессы в оценке наших военных действий: слишком критический момент переживает Россия, когда ввиду конечной цели – сломать тевтонов – является необходимость для обработки общественного мнения прибегать и к «святой» лжи[749]. Профессор Лейпцигского университета д-р Карл Бюхер[750] в выпущенной брошюре о современной печати справедливо говорит: «просматривая газетные листы – находишь в них столько ненависти, лжи, клеветы и травли, что в отчаянии спрашиваешь себя: неужели мы пришли к концу всякой культуры и возвратились к первобытному состоянию дикарей?»
Беседовал с начальником штаба Поповым по поводу предложения Центрального общевоинского комитета Варшавы предоставить армии санитарный отряд для борьбы с эпидемиями, состоящий из хорошо обученных ad hoc[751] 16 учителей и 6 дезинфекторов; хотя «благонадежность» их и заверена Варшавск[им] генерал-губерн[атором] Енгалычевым[752] и полицией, но настроение теперь у нас в штабе резко отрицательное по отношению к всем обществ[енным] организациям, так как в них начали видеть организованную агентуру шпионства, предательства и крамолы. У какого-то члена Госуд[арственной] думы обнаружены прокламации. Относительно данного санитарн[ого] отряда я старался успокоить генерала, а вот на Рижский – Рижский отряд[753], как я уже и давно твердил, следовало бы обратить в[есьма] серьезное внимание.
Немцы проявляют большую хитрость, соединяя свои телефонные и телеграфн[ые] провода с нашими, и переговариваясь как бы от лица того или другого нашего военачальника о том, что им надо разузнать. Наши же простаки часто попадаются на удочку.
24 апреля. День ангела моей Лялечки. Хотел послать ей поздравительную телеграмму, но ввиду того, что последняя, по сложившимся обстоятельствам настоящего момента военного времени, пошла бы почтой, предпочел послать просто письмо.
Санитарный мой отдел сегодня перебирается в другое помещение – в городское училище, а то в занимаемое теперь водворяется по-прежнему Контрольная палата. Администр[ативно]-правительств[енные] учреждения мало-помалу возвращаются в покинутый было ими г[ород] Гродно.
Виделся с и.д. врачебного губернского инспектора. Боже мой, в каком допотопном состоянии обретается до сего времени несчастная наша матушка – губернская санитария! Существуют здесь еще приказы общественного призрения, и правят всеми делами губернии щедринские герои! Большое благодеяние в борьбе с заразн[ыми] б[олезня] ми среди гражданского населения оказывают теперь эпидемические отряды Общеземского союза. А то было бы черт знает что!
К общественным организациям вершители наших судеб все более и более начинают относиться с опаской, в смысле подозрительн[ого] отношения к их «благонадежности». В штабе же друг к другу относятся подозрительно! Мне как должностному лицу приходится получать необходимые сведения часто не прямым путем, а путем чуткого уловления и разгадывания случайно проболтанных фраз… В общем, «секреты» оказываются секретами полишинеля, и более секретами для нас, чем для немцев. Трагически прискорбное явление в этом подозрительн[ом] отношении не только к общественным силам нашего командного и администрат[ивного] класса, но и друг к другу! А кто виноват в этой сверхненормальности? А правящие верхи, издавна традиционной своей полицейско-бюрократической палкой отделавшие российских граждан (sit venia verbo[754]), как каких-то военнопленных, это «мы» и «вы» – явление, вероятно, свойственное лишь «самобытным» устоям России, и не имеющее места в других культурных государствах, где и государственность, и общественность не живут как собака с кошкой. «Соединенные Губернаторские Штаты», каковыми является Россия – вот в чем наше несчастье; стоящие во главе этих штатов помпадуры с щедринскими навыками законности – вот кто истинные революционеры-максималисты!!
Перед обедом получена какая-то телеграмма командующего армией; видно, весьма неприятного содержания относительно нашего положения; обычное bonne mine[755] Радкевича не могло от меня это скрыть. Не дай Бог, но я кроме неудач для нашей армии ничего не ожидаю.
Вечером прошелся к кладбищу; дул сильный ветер, слышались надрывающие душу как бы мировые стоны, вопли, рыдания; но не облегчает моего личного страдания за Лялю и глубоко чувствуемая мной космическая скорбь, не стоящая для меня и одной слезинки лялиной. Возвращался по городу, навстречу шла густая толпа гуляющих с веселыми, оживленными все физиономиями, но тем безысходней и тяжелей становилась моя личная скорбь. Жизнь моя обращается в какую-то агонию.
25 апреля. Продолжает стоять хорошая, не особенно жаркая погода. Расположились мы своим санитарным отделом возле железн[о] дорожн[ого] полотна у вокзала – в месте, особенно подверженном опасности от бросаемых бомб с тевтонских аэропланов. После недавнего ночного набега цеппелина на Гродно мы теперь несколько насторожились: по ночам то и дело наши прожекторы шарят по небу…
Судя по стереотипным официальным телеграммам к[а] к с западного, т[а] к и с восточного фронта, что-де мы все «успешно и энергично продвигаемся вперед», казалось бы, что мы с союзниками уже давно должны были бы быть в столицах Австрии и Германии. А немцы преподносят да преподносят нам сюрпризы – то пушку выдвинут, стреляющую на 40 верст, то изобретут удушающие газы, служащие «ядовитой завесой» при наступлении, и пр., и пр. Уже мой Сергей-сынишка, большой оптимист со своим дядей Николаем относительно наших военных гениев, – и тот в последнем своем письме по поводу занятия немцами Прибалтийского края замечает скромно, что-де «для меня, профана, кажется, что нами не предусмотрено чего-то элементарного…» Не везет же нам: недавно произошло еще весьма печальное военное событие – взрыв на Охтинском мелинитовом заводе…
Запишу в свою летопись еще событие – как начальник санитарн[ой] части СЗ фронта тайный советник д-р Гюббенет созывал в Варшаве совещание из господ полковников о выработке мер оздоровления армии (мой голос, равно и голоса и др. заслуженных и опытных врачей не признаны были необходим[ыми] для заслушания!); не все ли это равно, как если бы корпусной командир или командующий армией собрал совещание из врачей для выработки плана наступления на немцев?! Все это было бы смешно, когда бы не было так отвратительно.
Кругом все люди уж очень «посюсторонние», был бы от них дальше и дальше. Тем тяжелее чувствуется и переживается мое личное и гражданское горе, не дающее места самому хотя бы маленькому счастью… Если и есть что радостное, то все в прошлом, и весь я в воспоминаниях о нем.
26 апреля. Был по обыкновению у обедни в соборе, где поют и служат так чудно. Необходимо ли хорошему пастырю духовному уж непременно верить в Бога? Я думаю, что не необходимо; надо ему только жалостливо любить массу людскую, ч[то] б[ы] в земной юдоли утешать несчастных фетишами. Для господства над массой, да и, пожалуй, для ее счастья – побольше неведения да мистики. Mundus decipi vult[756]. Мое поощрительное отношение к набожности Пелагеи[757] и истекающие отсюда логические выводы, оправдывающие применение такого отношения в более широком масштабе правителями к людской массе…
Получил трогательное письмо от Т.; неужели «она меня за муки полюбила, а я ее за состраданье к ним»?!
Вчера встретился с человеческ[им] экземпляром, показавшимся мне было весьма интересным, как бы сплошным беззаветно любящим людей сердцем: сестра-доброволица, с медицинск[их] курсов, опростившаяся, работающая на самых передовых позициях, там же контуженная; работа эта, как она и стремилась к тому, всецело ее поглотила. Спрашивал ее, нет ли у нее большого личного горя, к[ото] рое ее погнало в этот омут и хаос; отвечала – отрицательно, но утаила от меня, что она работает вместе с женихом! Вышло все так просто! А я стал было уж очень мудрствовать, и чуть не решил, что обрел святую. Ищу все я в людях совершенства…
В газетах пишут сплошную ерунду относительно успехов нашего оружия, когда здесь у нас творится только одна мерзость. Дела наши, без сомнения, весьма скверны; казенную, приказную наши матушку Русь бьют больно по морде. Кумовство, сватовство, приятельство, подкупность и продажность сказываются теперь здесь во всем наглом великолепии. Картина настоящего и ближайшего будущего безотрадна. На Карпатах мы отступаем, Либава[758] уже занята немцами (это – секрет, и в газетах о том пока ни гу-гу), предвижу, что немцы нам где-то еще готовят здоровый кулак. Какие мы в боевом отношении жалкие ремесленники в сравнении с тевтонами – художниками, артистами этого дела, все время держащими инициативу в своих руках! «Не идет наш поезд, как идет немецкий!»
Днем в заоблачных высях витал неприятельский аэроплан. Наши стреляли по нему шрапнелью. Величественная картина!..
Солдатики, живущие здесь, в Гродно, и проходящие на поле брани, лихо поют и даже пляшут.
Комендантом крепости сделано распоряжение, ч[то] б[ы] после 11 час[ов] ночи всюду тушились огни в учреждениях и квартирах или же завешивались окна; это – в целях охраны от цеппелинов и аэропланов.
Прилагаю при сем копию приказа по армии («в[есьма] секретно») и вырезку из газеты с ответом Главн[ого] комитета Общеземского союза относительно предложенных ему из Петроград наград – ответом, полным высокого благородства и достоинства[759].
Вечером удержал меня у себя наш полковник – «начальник санитарн[ого] отдела», устроивший угощение «рислингом», скоро сей сын Марса (Ваала?) охмелел, развязался у него язык, отверзлись едала и так-то завоняло-завоняло…
27 апреля. Захолодало. Утром пошел снег и поднялся страшный ураган. После полудня стихло и прояснилось.
На Карпатах нас сбили, немцы дошли чуть не до Риги[760], а в газетах наших неизменное «мы продолжаем теснить противника», «мы успешно продолжаем продвигаться», там-то и там-то «произошло успешное для наших войск столкновение с неприятелем. О противнике же нашем – тоже неизменное, что он почти совсем уже издыхает и не в силах бороться с нами. Уж не секретом для публики появилось известие о взятии немцами Либавы.
В общем разговоре за обедом Радкевич, только что получивший утверждение в своем командовании армией (с чем сегодня мы его поздравляли), выразился, что Либаву-де мы и отнимать не будем – она сама отнимется (sic!). Не беда, значит, что занят неприятелем такой богатый город Либава («ведь это лишь демонстрация», «ведь это разбойный набег, чтобы специально пограбить продовольствия и фуража», «занятие Либавы немцами не имеет никакого стратегического значения»!! – «У вас болит зуб? Но ведь это же пустяки, ведь это боль отраженная!»).
Германцами потоплена «Лузитания»[761], типа и размеров «Титаника», одни из пароходов английского коммерческ[ого] флота. Италия, Румыния и проч. нейтральн[ые] державы не осбоенно-то торопятся встать на сторону нашу. Барометры!
Забрал по обыкновению на вокзале четыре газеты: «Нов[ое] вр[емя]», «Речь», «Рус[ское] слово» и «Рус[ские] ведом[ост] и». Интуитивно чувствую, что дальше осени не проработает адская фабрика человекоубийства.
Вечером пошел к городовому врачу послушать граммофон. Минутами забывался, но беспокойные думы о Ляле назойливо вплетаются и перевиваются со всеми моими мыслями.
Ложусь спать примиренным, с сознанием, что, может быть, и не суждено будет проснуться, если налетит волею Божиею на наш район цеппелин. Ночь звездная, прекрасная.
28 апреля. Погода великолепная. Природа в апогее оживления. Тем тоскливей на душе, что так постыло сложилась моя жизнь. Что я был, и что стал?! Мне кажется, что если бы и случилось что-либо радостное, то у меня не оказалось бы способности воспринять его; живу как приговоренный к смерти.
29 апреля. Райский солнечный день с неизменным своим спутником – тевтонским аэропланом, сеявшим утром бомбы.
Несмотря на очевидные наши неудачи по всему фронту, в газетах продолжаются все те же ухарские тирады на тему «шапками закидаем».
По-прежнему испытываю ужас своего существования и прелесть небытия.
Встретился с товарищем детства Готфридом Вейде, теперь – командиром ополченской какой-то дружины; во франко-прусскую войну, еще будучи ребятами, часто с ним дрались; я его донимал своей приязнью к французам, дразня его тем, что «француз немцу задал перцу, а немец не утерпел и…»; он же в ответ с своим отцом-булочником часто обзывал меня «рушкова швинья». И вот судьба! Чей он в душе благожелатель?
Вечером пошел ко всенощной. Завтра Вознесение Христово. Трагически я всегда переживаю этот день, скорбно расставаясь с Уходящим на небо до следующего года Его Воскресения; суждено ли мне дожить до этих дорогих мне всегда дней – Страстной недели и Пасхи? На целый год я себя чувствую сирым, как бы оставленным и брошенным Им барахтаться в поганой повседневной мышиной беготне и суете. Я до сего времени по сложившимся знаменательно роковым образом обстоятельствам моей жизни не утратил еще веры в личного, вне мира сущего Бога, дерзновенно ропщу на него – отчего Ты не научил меня творить волю Твою, «Ты, бо еси Бог мой»?! Но… но… «за все, за все ж Тебя благодарю я» – за все мои муки, муки Ляли, муки других, виновником к[ото] рых с Твоего попустительства был я, благодарю и
«За все, чем я обманут в жизни был,
Устрой лишь так, чтобы Тебя отныне
Недолго я еще благодарил…»
Недавно только что был отменен дикий приказ о кладке в общую варку пищи солдат риса в целях якобы предупреждения желуд[очно]-кишечных заболеваний; теперь последовал (от 16 апреля за № 1011) новый абсурдный приказ главнокоманд[ующего] СЗ фронта, воспрещающий по тем же мотивам класть в горячее сало!!
Получил печальное письмо от сына Сережи; пишет, что у него «опять лопнул левый глаз». Чувствую себя в положении, не лучшем Иова!
30 апреля. Ясный день, небо безоблачно. Дела наши на фронте ничего радостного не представляют, благодаря чему, очевидно, и Италия не торопится выступлением, о чем прокричали газеты. Страдаю каким-то «мазохизмом»: как ни больно мне, но иногда и радуюсь, что немцы нас бьют; до пошехонства мы никудышны – верхи подлы, низы же – темны… Жалкими мне представляются люди, не могущие теперь найти для себя интересов вне войны…
735
Имеется в виду С. П. Ключарева (Кравкова).
736
Имеются в виду жена В. П. Кравкова Елена Алексеевна, урожденная Лукина (1870–ок. 1922), и ее сестра Елизавета Алексеевна Гирина (Лукина). С 1906 г. отношения автора с супругой носили резко конфронтационный характер.
737
Много я от них претерпел мнимой пользы для, детей ради. (Примеч. автора)
738
Вязьма – уездный город Смоленской губернии, ныне административный центр Вяземского района Смоленской области.
739
Россиены – уездный город Ковенской губернии, ныне город Расейняй в Каунасском уезде (Литва).
740
Шавли – уездный город Ковенской губернии, ныне город Шяуляй, административный центр Шяуляйского уезда (Литва).
741
Митава – губернский город Курляндской губернии, ныне Елгава, город республиканского подчинения в Латвии.
742
Селиванов Андрей Николаевич (1847–1917) – генерал от инфантерии (1907), с 1910 г. был членом Государственного совета. С октября 1914 по апрель 1915 гг. командовал 11-й армией, взявшей австрийскую крепость Перемышль.
743
Вебель Фердинанд Маврикиевич (1855–1919) – генерал от инфантерии (1915), с апреля 1915 по февраль 1916 гг. командовал 34-м армейским корпусом.
744
Имеется в виду Воронецкий Владимир Владимирович (1886–1916) – генерал-майор (1915), с мая 1915 по февраль 1916 гг. занимавший должность начальника штаба 37-го армейского корпуса.
745
Городу и миру (лат.)
746
Факт вторжения немцев на балтийское побережье и в шавльский район наши газетные строчилы трактуют как событие, не имеющее абсолютно никакого в военном отношении значения, как даже акт демонстративно-бессмысленного характера, да еще притом совершенный-де (читай: какой гнусный! такой же гнусный, как-де повадка немцев бросать бомбы с аэропланов предпочтительно в санитарно-лечебные заведения!!») «с целью покормиться за чужой счет»! Фи!.. В факте же допущения нашими войсками вторжения больших сил немцев в Остзейский край видят только искусный маневр наших военачальников! Поживем и посмотрим, что из этого выйдет… // Самоуспокоительные рассуждения газет: что-де занятие немцами Прибалтийского края вызвано необходимостью для них создать иллюзию завоевания неприятельской территории, чтобы это обстоятельство могло быть учтено в их пользу при заключении мира, или: что-де занятием новой нашей территории германцы лишь муссируют свои успехи, ч[то]б[ы] произвести впечатление на нейтральные и колеблющиеся державы, или же: что-де Германия творит лишь пустую, но громкую для малоосведомленных немецких бюргеров операцию, усматривающих в ней якобы действительную возможность завоевания Прибалтийского края, и т. д. в этом же самоусладительном тоне доводы мне очень напоминают о случае, как один зубной врач, запломбировавший неудачно зуб моей Лялечке, когда она потом обратилась к нему с жалобой на появившуюся адскую в этом зубе боль, утешал ее тем, что-де боль у зубе не самостоятельная, а «отраженная»! Как будто Ляле могло быть легче терпеть отраженную, а не самостоятельную боль в зубе! (Примеч. автора)
747
Ради собственной выгоды (лат.)
748
Поднялась большая стрельба и вообще суматоха, я же – крепко спал и ничего не слышал; так незаметно и легко можно было отправиться в место вечного упокоения. (Примеч. автора)
749
А при борьбе – все средства хороши! (Примеч. автора)
750
Бюхер Карл (1847–1930) – немецкий экономист, историк и статистик, профессор политэкономии в Лейпцигском университете в 1892–1917 гг.
751
Для этого (лат.)
752
Енгалычев Павел Николаевич (1864–1944) – князь, генерал-лейтенант (1914), Варшавский генерал-губернатор в 1914–1917 гг.
753
Где отлично чуть не на всех языках говорят, но весьма скверно лишь на русском! (Примеч. автора)
754
Не во гнев будет сказано (лат.)
755
Хорошее лицо (фр.)
756
Мир желает быть обманутым. (лат.)
757
Пелагея – прислуга в московском доме Кравковых.
758
Либава – портовый город в Гробинском уезде Курляндской губернии, ныне Лиепая, город республиканского подчинения в Латвии.
759
В фондах НИОР РГБ не обнаружены.
760
Рига – губернский город Лифляндской губернии, ныне столица Латвии.
761
«Лузитания» – пассажирский лайнер британской компании «Кунард Лайн», торпедированный немецкой подводной лодкой 24 апреля (7 мая) 1915 г. в «зоне подводной войны» в Атлантике.