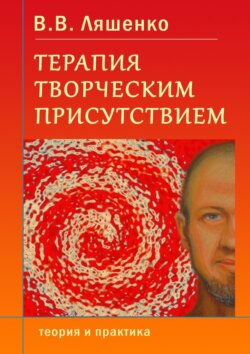Читать книгу Терапия творческим присутствием. Теория и практика - В. В. Ляшенко - Страница 9
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ТЕРАПИИ ТВОРЧЕСКИМ ПРИСУТСТВИЕМ
Психотерапия постижением
ОглавлениеКак я уже отмечал выше, существуют разные понимания того, что такое арт-терапия, какие задачи она призвана решать, как, кем и каким образом может быть использована. Однако это разнообразие касается не только арт-терапии, но и психотерапии в целом. Пока что не существует общепринятой теории психотерапии, и нет её, вероятно, потому, что нет общепринятой теории человека44. И поскольку вариантов прочтения человека великое множество, психотерапия не является чем-то цельным и однородным, не имеет единой методологической базы, и представляет собой комплекс довольно разнообразных взглядов как на предмет психотерапии, так и на её практическое осуществление.
Как следствие такого положения, психотерапевтическая работа с людьми может строиться на весьма различных идейных и методических основаниях – в зависимости от решаемой психотерапевтом и искателем задачи, а также от субъективного отношения самого психотерапевта, от того, какую школу он представляет, на какое описание психотерапевтического процесса, человека и его психики опирается. Конкретный подход может быть эффективен для решения одной задачи и малоэффективен для другой (или при другой её постановке), поскольку каждый подход ограничен положенными в его основу теоретическими и методологическими предпосылками45. Взглядов на психотерапию существует много, и они имеют право на существование, тем более, если опыт показывает их действенность.
И поскольку арт-терапия является одним из методов психотерапевтической работы, то в нашем разговоре об арт-терапии весьма важно уточнить и то, о какой психотерапии мы будем говорить.
Для пояснения следующей своей мысли я условно разделю все существующие направления психотерапии на две категории: «магическая психотерапия» и «мистическая психотерапия»46. В данном случае, это не более чем метафоры, не имеющие отношения к научности или ненаучности, поэтому я беру эти названия в кавычки47.
«Магическая психотерапия» ориентирована на управление состояниями и их изменение. Усилия психотерапевта направлены на изменение пациента, а усилия пациента – на изменение себя. Психотерапия видится в снятии паталогической симптоматики, избавлении от стресса, негативных эмоций, мыслей, проблем и пр. и осуществляется путём воздействия на человека. В такой психотерапии большое внимание уделяется различным методикам, техникам и психотехнологиям.
«Мистическая психотерапия» ориентирована не на изменение человека, а на то, чтобы он в процессе психотерапии обретал свой личный, глубоко субъективный опыт, связанный с определёнными смыслами. Это не означает, что в процессе психотерапии не происходит каких-либо изменений, ведь сама психотерапия служит тому, чтобы вызвать необходимые изменения48, но усилия психотерапевта сосредоточены не на подавлении симптомов, а на их исследовании, на взаимодействии с причинами симптомов и освоении иных способов жить, в которых данные неблагоприятные симптомы человеку становятся ненужными49. Психотерапия осуществляется путём взаимодействия с человеком и постижением50 им смысла своего переживания. Разумеется, воздействие психотерапевта в этом случае также происходит, оно неустранимо и присутствует всегда: всякое живое существо при взаимодействии с другим живым существом оказывает на него влияние. Но в случае «мистической психотерапии» акценты другие: нет цели оказывать воздействие, как это происходит в «магической психотерапии». В «мистической психотерапии» основное внимание уделяется процессу установления связи, качеству взаимоотношений, проживанию опыта, проникновению в смысл происходящего, и это создаёт условия для изменений, которые происходят, а не совершаются.
Вопрос состоит в том, когда уместно обращение к тому или иному полюсу и, в частности, когда и насколько в психотерапии уместно прямое воздействие на состояние.
Зачастую для успешного решения психотерапевтических задач необходимо параллельное решение задач медицинских, поскольку нарушение процесса переживания, приводя к дистрессу, нередко вызывает нарушение физиологических процессов; а нарушения в физиологии отражаются на особенностях переживания. В связи с этим может быть не только уместно, но и необходимо медицинское лечение либо поддержка организма с помощью лекарств, витаминов, процедур, практик саморегуляции и т. п. Без этого психотерапия может быть неэффективной, однако сами по себе указанные мероприятия не являются психотерапией. Да и вопросы снижения остроты симптоматики, «гармонизации состояния» могут быть лишь одной из задач, которые решаются в ходе психотерапии, но не являются её целью.
Поле действия психотерапии – пространство субъективного опыта, и поэтому объектными воздействиями (на организм, чувства, мысли, установки и т.д.) её задачи решены быть не могут.
Если состояние самоценно (а не функционально) и оно намеренно «создаётся» лишь для устранения неприятных симптомов или приятного времяпрепровождения, то в этом случае происходит отстранение от переживания. В перспективе это приводит к освоению такой личностной позиции, которая препятствует активному участию в своей жизни и побуждает избегать реальных взаимоотношений с миром. По сути, это мало чем отличается от позиции зависимого человека.
Вопросы психотерапии постижением состоят не столько в том, что человеку делать, и даже не в том, как это делать, сколько в том, каким быть и как быть. И потому, даже если проблема человека связана с трудностью выполнения той или иной деятельности, задачи психотерапии состоят не в изменении человека (чтобы ради этой деятельности привести его в некое «надлежащее» состояние), а в исследовании существа данной трудности и себя в ней: какой я и как живу, о чём забочусь, как осуществляю себя, что выбираю.
«Магический» человек в психотерапии занят тем, чтобы вооружить себя необходимыми приспособлениями, силами или избавиться от лишнего ради решения жизненных задач. «Мистический» человек не избавляется51 ни от чего и ничем не вооружается, он открывается действительности, вникает, всматривается, вчувствуется в то, что есть, осмысляет свой опыт, и через это изменяется, учится и осваивает способы своего участия и влияния на свою жизнь.
Повторюсь, что вышеизложенное представление является теоретической абстракцией, условно разделяющей единое поле психотерапии на два идеологических полюса. Во-первых, у «магии» и «мистики» есть много общего, и в неявном виде они присутствуют друг в друге: глубина постижения связана с возрастанием силы и действенности, а для того, чтобы успешно действовать и управлять, необходимо понимать то, чем ты собираешься управлять52; и то, и другое – неотъемлемые составляющие жизни каждого человека. Даже «внутренняя работа», которой человек занимается в процессе психотерапии и самопознания, является всё-таки работой, а значит, активным взаимодействием с переживанием: взаимодействие здесь неотделимо от воздействия.
Во-вторых, на разных этапах психотерапии актуальны разные задачи. Чтобы человек был способен задаваться вопросами постижения, нередко бывает необходима предварительная работа, направленная на снижение симптоматических проявлений, причиняющих страдание. Готовность человека к исследованию своего опыта вызревает постепенно.
В-третьих, в психотерапии сейчас наблюдается естественное «прорастание» различных направлений друг в друга, границы между школами психотерапии стираются, происходит активное заимствование друг у друга способов психотерапевтической работы, и от современного психотерапевта в большей степени требуется профессиональная гибкость, чем строгое следование канонам какого-то одного метода.
Таким образом, в жизни нет «чистых» представителей того или иного полюса, а все находятся в континууме между ними. Более того, психотерапевту, занимающему гибкую профессиональную позицию, в процессе психотерапии приходится передвигаться по этому континууму, сообразуясь с терапевтической ситуацией, состоянием искателя, да и своим собственным.
Но, тем не менее, на каком-то уровне обобщения такое разделение психотерапии, возможно, имеет смысл, поскольку каждый психотерапевт может заметить у себя ведущую профессиональную направленность, которая существенным образом отражается и на его понимании психотерапии, и на особенностях практики.
Арт-терапевтические методы и направления также существуют в рамках того или иного психотерапевтического мировоззрения, и поэтому практика арт-терапии весьма разнообразна: существует много различных арт-терапий. Одни арт-терапевты ориентированы на воздействие и предлагают разнообразные арт-терапевтические методики, техники и психотехнологии для психокоррекции, трансформации состояния, избавления от негативных мыслей, уничтожения негативных эмоций, снятия стресса, обретения ресурса и т. п.
Другие направлены на взаимодействие с переживанием. Здесь арт-терапия – это не способ от чего-то избавиться или чем-то себя оснастить, а напротив – способ прийти в соприкосновение с тем, что до этого времени выпадало из сферы внимания, что подавлялось, избегалось, уничтожалось. Такая арт-терапия является способом самопознания, способом приближения человека к себе, раскрытия и обнаружения себя.
Одним из таких методов психотерапии постижением является Терапия творческим присутствием. В связи с тем, что метод ориентирован не на исправление «неправильного», а на обретение человеком непосредственного опыта присутствия при себе и своей жизни, – этот метод не является технологичным. Технология – это совокупность операций и приёмов, направленных на достижение желаемого (заданного) результата. Отличительной особенностью технологии является повторяемость результата. Это означает, что если другой человек в точности воспроизведёт описанный техпроцесс, то он гарантированно получит заданный результат.
Но поскольку ТТП ориентирована на субъективный опыт человека, то, разумеется, ни о каком гарантированном результате речи быть не может. Всё, что мы можем делать – это создавать условия, в которых человек получает возможность постигать нечто в своём жизненном опыте и через это созревать до некоего нового выбора: выбора воспринимать иначе, действовать иначе, жить иначе. Это становится возможным тогда, когда человек начинает переживать то, что есть, вместо уклонения от переживания и попыток влиять на него. Мы создаём условия для этого, но ничего не гарантируем: внутреннюю работу каждый человек производит по-своему, и переживать вместо другого человека невозможно53.
Психотерапия обращена к свободе человека, то есть к самому основанию человеческого в человеке. Она призвана увеличивать степень его свободы. Но как свобода может быть гарантирована, запрограммирована технологией психотерапии или даже искусными усилиями психотерапевта? Гарантии означают отрицание свободы человека, и противоречат смыслу психотерапии.
Психотерапия не происходит за счёт механических действий, воздействий, манипуляций: поговорили, порисовали, попели, потанцевали, поделали некие упражнения, попили таблетки и т. п. Необходимо учитывать особенности термина «терапия»54 в психотерапии, который не тождественен «терапии» в медицине. Ясно, что происхождение этого термина имеет медицинские корни. Но важно помнить, что в психотерапии происходит взаимодействие с душой человека, и к её лечению нельзя подходить так же, как к лечению тела55.
Душа – это субъект (человек переживающий), а не объект, и её невозможно вылечить медикаментами, препаратами, процедурами и т. п. Душа лечится душой, то есть, через переживание и сопереживание. Исцеление56 души связано с восстановлением процесса переживания. А это невозможно вне отношений: всё человеческое в нас создано отношениями, душа живёт и проявляет себя в отношениях, и потому она лечится/исцеляется именно отношениями и в отношениях.
Кроме того, психотерапия может считаться успешной не тогда, когда человек просто стал чувствовать себя лучше или когда он «успокоился», а когда он начал жить иначе, и жить более включённо. Плохое самочувствие является только проявлением, только сигналом проблемы, а сутью её является наше мировоззрение и мировосприятие: как смотрим на мир, таким его и видим, каким видим мир, таким его и переживаем, каким переживаем мир, так и живём в нём.
Изменение мировоззрения и мировосприятия, способа и образа жизни происходит тогда, когда человек нечто постигает в своём жизненном опыте, когда он внутренне растёт, когда он приобщается к себе и к другим людям, когда он производит новые выборы и совершает новые для себя действия.
Разумеется, в ТТП, как и в любой психотерапии, имеется определённая методическая составляющая (о ней мы говорить будем ниже), однако простым повторением методики психотерапии не произойдёт: сама по себе методика не является носителем существенного. Носителем существенного является психотерапевт, который участвует в живых взаимоотношениях с искателем, проявляет свою жизненную позицию, свой способ жить, помогая тому открывать пространство новых для него отношений с самим собой и с миром57. А особая деятельность, описываемая методикой работы, овеществляет эти новые отношения с собой, создаёт необходимые условия и контекст для них.
Через творческое присутствие человек на практике, опытным путём вступает с самим собой в новые для него отношения. Открытие этих новых отношений с самим собой и является одним из основных смыслов психотерапии в нашем методе. То существенное, что происходит в терапии, происходит за счёт определённых внутренних действий, которые совершаются в процессе творчества. Без этих внутренних действий арт-терапевтический процесс будет не более чем процессом рисования, вне зависимости от того, на какую тему это рисование будет и что будет «изображаться», даже если это будет «рисование переживаний».
Однако эти внутренние действия не являются технологичными. Внутренние действия невозможно передать, им невозможно научить (им можно научиться), хотя о них можно рассказать: что они подразумевают, на что нужно обращать внимание в ходе работы, какой процесс будет творческим и целительным, а какой – обычным рисованием или псевдомагическими манипуляциями. Особенности этих внутренних действий и такая организация процесса, которая облегчает их освоение и совершение, и составляет «технику» метода ТТП.
Другими словами, суть ТТП состоит не в рисовании как таковом, не в «изображении своих чувств» и не в «выплёскивании негативных эмоций», не в «эстетизации переживания», а в том, ка́к творческий процесс осуществляется, в какой внутренней позиции находится человек и что́ именно он делает, когда он нечто рисует на листе.
Для лучшего понимания того, что такое Терапия творческим присутствием, возможно, есть смысл прибегнуть к апофатическому58 способу её описания:
– она не является практикой создания произведений искусства (к искусству она имеет весьма отдалённое отношение) или произведений, отвечающих условиям гармонии, хотя практика осуществляется в форме изобразительной «художественной» деятельности;
– она не является практикой «изображения своих чувств», хотя с экспрессивной арт-терапией имеется много общего;
– она не связана с аналитическими интерпретациями произведений (рисунков) пациента с целью извлечь какую-либо информацию о существе проблем, хотя некоторые пересечения с аналитической арт-терапией тоже есть;
– она не связана с псевдомагическими манипуляциями, направленными на выплёскивание, слив, уничтожение, «трансформацию» негативных мыслей, эмоций, переживаний, на изменение состояния и поиск так называемого «ресурса», хотя изменение состояния и прилив сил в ходе терапии происходит.
Практика ТТП напрямую обращена к симптомам, но при этом не является симптоматической, то есть она не направлена на изменение симптомов. Конечно, и симптоматическая работа тоже имеет свою пользу, однако о выздоровлении здесь речи не идёт.
Одним из главных смыслов ТТП является восстановление отношений с самим собой, с людьми, с миром. Путём к этому является практика чувственного и деятельного пребывания с самим собой внутри своего опыта, практика обнаружения самого себя, восстанавливающая взаимосвязь между различными аспектами переживания, связность личного опыта. Помогая налаживать общение с самим собой, она открывает возможность знакомиться с собой без попыток изменить себя и что-то в себе искусственно переделать. И это становится условием для внутреннего роста (взросления), роста внутренней целостности и самопринятия, что и становится причиной изменений. В ходе практики пробуждаются внутренние движения, которые по разным причинам оказались сдержанными, замороженными, и инициируется их осуществление; естественным путём налаживаются внутренние взаимосвязи между сферой чувственного опыта и рационально-нормативной сферой личности. В конечном итоге, практика творческого присутствия научает принятию самого себя (на практике, а не путём самовнушений), развивает чувствительность и подлинный интерес к самому себе (а не интерес к самопеределыванию).
Практика ТТП обращает к тому состоянию, к тем чувствам, которые вызывают страдание59, и через постепенное проживание этих чувств, через обнаружение их внутренних оснований, раскрытия их смысла, что, в конечном итоге, способствует освоению новой жизненной позиции и способа жить, – происходит выздоровление. Вместе с этим (несмотря на постепенность процесса психотерапии в целом) сброс напряжения, переоценка обстоятельств и последующее расслабление может быть и весьма стремительным и происходить в течение одного занятия.
В популярной психологии существует представление об «освобождении от негативных содержаний сознания». Представление это далеко неоднозначно. Поскольку мы разговариваем, читаем, пишем, у нас есть воспоминания, представления, то логично считать, что содержания сознания существуют. И вероятно, какие-то из этих содержаний полезны для нашей жизни, а какие-то вредные (позитивные или негативные). Тогда предполагается, что от негативных содержаний следует избавляться, а позитивными содержаниями – себя удобрять.
Но что такое эти «содержания сознания»? Это образы, которые приобретают свою значимость в силу опыта переживания определённых жизненных обстоятельств и проявляют себя в качестве установок, доминант сознания. От них невозможно освободиться так, как если бы мы их выбросили или особым образом переделали, потому что то, что мы собираемся выбрасывать или переделывать, не существует в качестве некоей самостоятельной изолированной вещи или детали, которую можно выкрутить и выбросить или заменить на новую, – они являются нашим свойством. И, следовательно, задачей является не избавление от неких «негативных содержаний», а изменение структуры сознания. Однако и эта задача, скорее, является мета-задачей, поскольку на структуру сознания мы также не можем воздействовать непосредственно. На практике же мы занимаемся вовсе не содержаниями и не структурой сознания, а своим поведением (внутренней и внешней деятельностью) – только на него мы и можем воздействовать и его изменять.
«Негативные» и «позитивные» содержания сознания – не более чем наши умозрительные оценки, которые говорят лишь о том, что мы вместо того, чтобы вникнуть в основания существующего переживания, намереваемся его насильно переделать – попросту отвергаем действительность самих себя, отказываемся от своего опыта, выбора и своей жизни.
С точки зрения ТТП суть психологических проблем состоит в том, что человек как-то относится к тому, что у него имеется (или не имеется), что с ним происходит (или не происходит), кем он является (или не является), какой он в своих собственных глазах, как он живёт, что выбирает, как поступает… Сами содержания сознания стоят в прямой зависимости от выбора: кем и каким быть, чему быть, в каком мире и как жить. Психологическая проблема или психическое расстройство заключаются в способе переживать, или иначе – в способе жить.
Наш способ жить является существом проблемы, именно его и должна затрагивать психотерапия. Во внутреннем мире, в мире души никакими действиями «от» ничего невозможно изменить, ни от чего освободиться и избавиться (не от чего освобождаться!), а можно лишь усугубить и усложнить. «Освобождение» достигается прямо противоположными действиями: вниманием, включением, позволением, прочувствованием, проживанием, осознаванием, принятием, пониманием. Любовью.
44
Вместе с тем существование единой и окончательной теории, признанной всеми, по всей видимости, было бы нонсенсом и означало бы конец познания и человечества. На этом основании единая теория психотерапии маловероятна, хотя выработка неких общих принципов и условий психотерапевтической работы и возможна, и необходима.
45
Это обстоятельство справедливо не только для профессиональной деятельности, но и для жизни вообще: наши возможности в мире во многом ограничены нашим собственным мировосприятием и мировоззрением. Наша жизнь зависит от того, как мы описываем мир.
46
«Мистика», греч. μυστικός – скрытое, тайное. Это субъективное, личное внутреннее постижение мира и самого себя через установление связи с объектом постижения с целью пребывания в единстве. Всякий мистический опыт – это опыт установления отношений и постижения. «Магия», лат. magia, греч. μαγεία. Этимология противоречивая и неясная, но по смыслу слово хорошо сочетается со словами мочь, могущество, муж. Это объективное изучение мира и самого себя с целью управления и использования. Воздействие естественными или сверхъестественными способами. Всякий магический опыт – это опыт делания.
47
Выражаясь более прозаично, эти два вида психотерапии можно было бы назвать психотерапией воздействием/управлением/изменением и психотерапией взаимодействием/постижением/принятием.
48
«Психотерапия является процессом, цель которого – вызвать изменения» [Психотерапия – что это? Современные представления, 2000].
49
Психогенное расстройство можно сравнить со сказочным многоголовым змеем, головы которого представляют многочисленные симптомы расстройства. Благодаря этой метафоре становится очевидным тот факт, что просто «отрубать головы» симптомам бесперспективно, так как они имеют свойство вырастать вновь.
50
Слово «постижение» (корень стиж/стиг) связано с такими словами как: прибывать, поспевать, созревать, подниматься, идти, стезя. То прибавление, которое обретается путём постижения, отличается от того, которое получается путём управления. При постижении идёт речь о внутреннем, личностном, духовном созревании.
51
Это различение «мистика» и «мага» можно проводить по разным основаниям. Если основанием для различия взять пару противоположностей: вооружение себя (оснащение, приобретение) и освобождение (избавление от лишнего, очищение), то к магическому полюсу будет относиться в большей мере – прибавление необходимого, а к мистическому – убавление лишнего, освобождение.
52
«Мистику» и «магию» можно представить как сферу смысла и сферу действия. «Мистика» – это когда я чувствую, думаю, понимаю, постигаю нечто; а когда я говорю, пишу, делаю – это «магия». Понятно, что действие в мире и постижение мира не могут быть друг без друга – это две неразделимые качественные стороны существования. Поэтому данное противопоставление является всего лишь условным концептуальным разграничением, помогающим понять особенности разного рода психотерапевтической практики.
53
Нельзя не согласиться со словами Ю. Джендлина, о том, что психотерапия – это процесс самого клиента, а не проводимая психотерапевтом процедура [Джендлин, 2000, с. 258].
54
Терапия (греч. therapeia – забота, уход, лечение) – консервативное (не хирургическое) лечение той или иной болезни, а также область медицины, изучающая внутренние болезни и методы их лечения.
55
Организм человека и человек – не одно и то же. Организм живёт физиологическими процессами, а человек живёт переживанием. Переживание, хотя оно и обеспечивается физиологически, невозможно свести только к физиологии, поскольку функционирование организма не тождественно жизни человека. Человек не только организм, и физиологические процессы не отрицают и не заменяют психологических. Лечение психики с точки зрения медицины подразумевает химическое или физическое воздействие на деятельность мозга. Это имеет смысл, если болезнь имеет органическую природу. Но при психогенном расстройстве клинические симптомы носят функциональный характер, и вызваны нарушением значимых жизненных отношений. А потому лечить психогению с помощью медицинских воздействий – всё равно, что пытаться с их помощью обучить речи, письму и прочим человеческим навыкам.
56
Целый (праслав. celъ) имеет единую основу с английским whole и немецким heil, первоначальное значение: полный, весь, здоровый, неповреждённый. Целовать – желать целости, здоровья; исцелить – сделать целым, здоровым: выздоровление происходит через обращение ко всему человеку, к его целостности, и движении от неё к тому, что эту целостность нарушает.
57
В этом состоит главная трудность для самостоятельных занятий. Прежде, чем появится возможность для самостоятельной работы, необходимо получить опыт в совместной деятельности с психотерапевтом. Тогда будет на что опираться. Без такого опыта возможность самостоятельной практики сомнительна.
58
Апофатическое описание (др.-греч. ἀποφατικός – отрицающий) – описание с помощью отрицательных определений.
59
Точнее будет сказать, что мы обращаемся к тому состоянию, которое переживается наиболее живо, ощутимо. Поскольку к психотерапевту обращаются страдающие люди, то говорим мы преимущественно о страдании. Но в ходе психотерапии состояние меняется, меняются смыслы и ценности – и мы всегда обращаемся к настоящему состоянию, к тому, что наиболее ощутимо, важно и значимо здесь и сейчас.