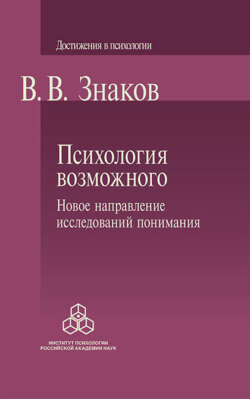Читать книгу Психология возможного. Новое направление исследований понимания - В. В. Знаков - Страница 4
Глава 1. Возможное – предмет современной науки
1.1. Философия возможного
ОглавлениеСоотношение действительного и возможного для философии является одной из фундаментальных, базовых проблем. Ее изучение «было начато еще Аристотелем. По его мнению, возможное предшествует действительному, при этом происходит непрерывный процесс перехода первого во второе (процесс актуализации) за счет активности и энергии, которыми обладает ум (мысль), реализующаяся в деятельности» (Хазова, 2019, с. 71). Аристотель рассматривал три варианта соотношения указанных понятий: действительность с возможностью, действительность без возможности и возможность без действительности (Аристотель, 2006). Фактически развивая эти положения, И. Кант в «Критике чистого разума» различал логические и реальные возможности вещей. Логические характеризуют принципиальную возможность их существования, а реальные – наличие необходимых условий для осуществления возможности. Этой проблемой занимался и Г. Г. Гегель: «В рассуждениях Г. Гегеля о возможном и действительном существенной является идея о том, что возможность, являясь абстрактным моментом действительности, характеризуется многообразием и неопределенностью, в основе развития абстрактного до уровня конкретного лежит энергия субстанции» (Хазова, 2019, с. 71).
Христианская антропология (прежде всего в трудах Г. Паламы) представляла человека как открытую возможность: развитие личности рассматривалась в ней на уровне возможного потенциального бытия: «Познание в сфере возможного трактуется в учении Паламы как межличностное бытие-общение, где познающий соотносится с предметом познания как со своим Другим, узнавая, выявляя в инаковом свою собственную возможность, способность быть иным. Реальность личностного Я имманентно содержит в себе неограниченный ряд альтернативных реальностей» (Семенюк, 2014, с. 79).
В XVII в. Г. В. Лейбниц предложил идею «возможных миров» и ввел в философию модальности «необходимого», «возможного» и «случайного». В XX в. понятие возможных миров было введено в семантику и логику в связи с понятиями необходимости и возможности. В логике считается, что утверждение А необходимо и истинно, если оно истинно для любой мыслимой ситуации, т. е. для всех возможных миров. Утверждение возможно, если оно истинно, по крайней мере, для одного из возможных миров. Сегодня разработка и развитие теории возможных миров является одной из фундаментальных проблем философии (Смирнова, 2017). Как отмечает М. Н. Эпштейн, «важнейшая проблема теории возможного – это „возможные миры“ и их соотношение с действительным миром. „Возможный мир“ – совокупность возможностей (или возможных существований), которые могут непротиворечиво образовать одно целое, т. е. не исключают возможности друг друга» (Эпштейн, 2001, с. 30).
Взаимодействие возможности и действительности необходимо изучать в контексте процессуального изменения бытия: «Если понятие „возможность“ выражает объективно существующую тенденцию изменения предмета, возникающую на основе определенной закономерности его развития, то „действительность“ – объективно сущее, наличное состояние предмета, конституированное в качестве фрагмента бытия. В широком смысле слова, действительность, таким образом, есть совокупность всех реализовавшихся возможностей и предметно совпадает с феноменом наличного бытия. Выступая в качестве парных категорий, возможность и действительность могут быть охарактеризованы с точки зрения взаимоперехода: возможность возникает в рамках действительности как одна из тенденций и потенциальных перспектив ее эволюции, презентируя будущее в настоящем, воплощая тем самым эволюционный потенциал действительности (как, по примеру Аристотеля, статуя Гермеса в мраморной глыбе), а превращение возможности в действительность (актуализация) порождает новые возможности» (Можейко, 2020). Для психологии возможного принципиальным является вопрос о связи действительности с невозможностями как неосуществленными альтернативами: «Однако претворение в жизнь одной из возможностей, ее превращение в действительность, означает в то же время и неосуществленность всех других, альтернативных возможностей (их сохранение в качестве возможности или превращение в невозможность). Таким образом, в контексте взаимодействия возможность и действительность конституируется категория невозможности как того, что не может быть артикулировано в качестве действительности ни при каких условиях и не может быть помыслено без нарушения логического закона непротиворечивости суждения. Наряду с этим, противостоя невозможности, возможность противостоит и необходимости, то есть тому, что не может не стать действительностью, в отличие от которой возможность соизмеряет свой статус потенциальности с вариативной перспективой» (там же).
Следовательно, в философии «действительность» есть такое понятие, которое мыслимо лишь в соотносительной связи с «возможностью». Применительно к бытию С. Л. Рубинштейн говорил о том, что в любой момент времени оно уже потенциально содержит то, чем станет в будущем. Иначе говоря, любая реальность человеческого бытия является возможностью и того, чем она станет, но пока еще не стала. Сегодня в социогуманитарных науках это положение стало аксиомой: человек открывает для себя действительность в виде многообразия возможностей. Научные основания аксиомы заложены очень давно. В частности, почти столетие назад С. Л. Франк утверждал, что «„действительность“ есть понятие, мыслимое лишь в соотносительной связи с „возможностью“: то, что актуально есть, отличается, как таковое, от того, что может быть, и предполагает за своими пределами последнее» (Франк, 2007, с. 116). С одной стороны, «„возможность“ была бы понятием, лишенным смысла, если бы она не означала именно возможность (хотя и не необходимость) осуществиться, вступить в сферу действительности. Отсюда ясно, что понятие возможности все же содержит в себе отношение к действительности и немыслимо вне его; и даже неосуществившаяся возможность конституируется этим отношением к действительности как бы как тенденция к последней, задержанная на полпути» (там же, с. 156). С другой стороны, логически, мысленно „возможность“ автономна, т. е. независима от всякой эмпирической действительности и от конкретной осуществимости: «Истина „2×2=4“ сохраняла бы смысл, даже если бы в мире не было четырех конкретных предметов; ибо она означает лишь то, что четыре предмета (взятые как дважды два предмета) именно „возможны“, т. е. мыслимы» (там же).
В науке возможности проявляются в формировании научного знания: «В период научной революции имеются несколько возможных путей роста знания, которые, однако, не все реализуются в действительной истории науки. Можно выделить два аспекта нелинейности роста знаний. Первый из них связан с конкуренцией исследовательских программ в рамках отдельно взятой отрасли науки. Победа одной и вырождение другой программы направляют развитие этой отрасли науки по определенному руслу, но вместе с тем закрывают иные пути ее возможного развития» (Степин, 2000, с. 611). «Возможное» является основополагающей характеристикой неклассической научной рациональности: «Факторы социальной детерминации познания воздействуют на соперничество исследовательских программ, активизируя одни пути их развертывания и притормаживая другие. В результате „селективной работы“ этих факторов в рамках каждой научной дисциплины реализуются лишь некоторые из потенциально возможных путей научного развития, а остальные остаются нереализованными тенденциями» (там же, с. 615–616).
Для научного понимания мира принципиальна «воспроизводимость» возможностей, способствующая развитию, творческому изменению действительности: «Мир больше не является каузальной машиной – его можно рассматривать как мир склонностей, как разворачивающийся процесс реализации возможностей и развертывания новых возможностей… Все новые возможности имеют тенденцию воплощаться, чтобы создавать опять новые возможности… Все это означает, что возможности, которые еще не реализовали себя, имеют свою реальность» (Popper, 1990, р. 18).
Философские основания понимания мира как раскрытия его возможностей заложены в двух главных научных подходах к изучению этого феномена – познавательном и историко-культурном. В рамках более узкого познавательного подхода понимание рассматривается как одна из процедур мышления, ума человека. В контексте широкого историко-культурного подхода понимание исследуется как универсальная психическая способность и даже как способ бытия человека в мире. По мнению Х.-Г. Гадамера, В. Франкла и других ученых, понимание является содержательно более объемной категорией, чем познание и уж тем более – индивидуальное мышление. Понимание нужно человеку для того, чтобы понять самого себя, определить, что он есть, какое место занимает в мире. Смысл бытия человека – в понимании. Причем не в познании, не взаимодействии субъекта с предметным миром: понимание представляет собой особый, сугубо человеческий способ существования. В этом способе субъект реализует себя как духовное и личностное начало, как творец и одновременно продукт своей эпохи. Конкретизация способа существования осуществляется в герменевтических процедурах интерпретации: к В. Дильтею восходит традиция «герменевтического круга» как движения от целого к части и от части к целому. Несколько иная позиция у М. Хайдеггера, говорившего, что первичное понимание или интуитивное схватывание целого и есть основной способ бытия человека. «Он полагает, что одной из фундаментальных характеристик человеческого бытия выступает понимание. Оно связано с „множествованием“ – разворачиванием потенциала возможностей, заключенных в человеческом бытии. Самопрояснение понимания проступает в истолковании. Так, понимание обретает онтологический характер, т. е. понимание в структурах „пред-понимания“ является основным способом человеческого бытия, которое характерно только для человека» (Полякова, 2018, с. 152).
Таким образом, множественность вариантов понимания событий в мире имеет давние и достаточно серьезные основания в философии. В XXI в. наиболее значимый вклад в создание философии возможного внес М. Н. Эпштейн, концепцию которого я проанализирую в заключительном разделе монографии.