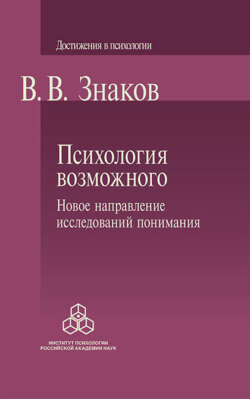Читать книгу Психология возможного. Новое направление исследований понимания - В. В. Знаков - Страница 5
Глава 1. Возможное – предмет современной науки
1.2. Социогуманитарные и естественно-научные перспективы исследований
ОглавлениеОдной из первых областей познания человека, представители которой начали задумываться над онтологической проблемой порядка и неупорядоченности мира, в начале XX в. стало искусство. Символисты, сюрреалисты и т. п. не стремились упорядочить онтологическую структуру мира, они видели главную задачу в нахождении новых форм его описания, поиске моделей, в которых находили оправдание множество возможностей, вариантов интерпретации нарративных структур. Модели позволяли упорядочивать то, что онтологически включало случайное, двусмысленное, поливариантное, т. е. возможное, но не необходимое. Такой творческий путь был основан на убеждении, что «современному искусству приходится считаться с Неупорядоченностью, которая не является слепым и неисправимым беспорядком, отметанием всякой упорядочивающей возможности, но представляет собой плодотворный беспорядок, позитивность которого показала нам современная культура, разрушение традиционного Порядка, который западный человек считал неизменным и окончательным и отождествлял с объективным строением мира» (Эко, 2006, с. 33).
Размышляя об эстетике возможного, Г. В. Иванченко подчеркивала, что для творца потенциальное иногда не менее реально, чем действительное. В процессе творческого самопознания очищение от случайности возможных вариантов создаваемого произведения, в конце концов, приводит субъекта к осознанию потенциального характера собственного Я. При этом разные возможности мыслимого совмещаются в сознании творца, раздвигая его границы. В творчестве потенциальное, возможное нередко скрывается где-то на грани между истиной и художественной правдой. Особенно актуальна проблема художественной правды применительно к пониманию принципиальной недостоверности практически любого автобиографического повествования. Из исследований автобиографической памяти известно, что воспоминания человека о прошлом всегда являются осознанной или неосознанной мысленной трансформацией событий, а не фотографией, калькой происшедшего (Нуркова, 2008). Неудивительно, что при анализе автобиографий и исповедей фактам можно и нужно противопоставлять контрфакты, а автобиографический вымысел – биографическому. И это спор, который однозначная истина неизбежно проиграет множественной правде, потому что «вечнозеленые дубравы видимостей, кажимостей, соблазнов и искусов закрыты для Истины, и ей, похоже, никогда не вернуть Искусство во всех более и менее совершенных его проявлениях под свой кров» (Иванченко, 2002, с. 159).
В современном социогуманитарном познании актуальность исследования возможного ясно осознавал У. Эко: «Раньше говорилось о неоднозначности как о нравственной установке и о противоборстве проблем, однако сегодня психология и феноменология говорят также о неоднозначности восприятия как о возможности, не порывая с общепринятыми правилами познания, уловить мир в той его первозданной возможности, которая предшествует всякой стабилизации, обусловленной привычным, устоявшимся взглядом на него» (там же, с. 93). У. Эко полагал, что при анализе понимания литературы использование теории возможных миров очень помогает ученым объяснить, чем и насколько возможный мир отличается от действительного (Эко, 2006). Категория «возможное» лежит в основании разработанной им концепции «открытого произведения», согласно которой литературное произведение обладает неисчерпаемыми возможностями, бесконечным множеством значений. При этом «любое произведение искусства, даже если и не оказывается материально незавершенным, требует свободного и творческого ответа на него, по крайней мере, потому, что его нельзя по-настоящему понять, если истолкователь не открывает его заново в акте творческого единомыслия с самим автором» (там же, с. 72). Единомыслие читателя с автором задает фрейм, указывающий, какие из бесчисленного числа комбинаций следует использовать для понимания произведения.
Категория «возможное» играет существенную роль в социологических исследованиях, однако зачастую она сводится к наличной ситуации, возможным вариантам ее развития: «Прибавьте к этому тот факт, что вопросы, которые мы задаем людям, – лишь выборка всех возможных вопросов, которые мы могли бы задать. Так же как их ответы, в свою очередь, могут быть всего лишь выборкой тех неоднозначных мнений и жизненного опыта, которыми они обладают. Что еще хуже, они могут понимать или не понимать, что мы спрашиваем, а пока они отвечают, их может что-то отвлекать. И гораздо чаще, чем хотелось бы тем, кто проводит опросы общественного мнения, люди намеренно дают неправильный ответ. Ведь люди – существа социальные; многие стараются избегать столкновений или хотят угодить и потому отвечают так, чтобы соответствовать ожиданиям» (Левитин, 2018, с. 89). В таких случаях главная задача социолога – сделать изначально невозможное возможным: на основании своих знаний, прошлого опыта «выжать» из ситуации максимум, учесть все варианты того, почему респонденты отвечают именно так, а не иначе.
Одной из наиболее фундаментальных междисциплинарных работ, в которой анализируются и социогуманитарные, и естественнонаучные аспекты проблемы возможного, является статья М. Д. Хаузера в журнале «Nature». От эволюционной биологии до многообразия культур автор выстраивает единую картину «возможности невозможного» и пытается найти общие механизмы, в соответствии с которыми некоторые возможности развития не могут быть реализованы потому, что их место уже «занято» другими альтернативами (Hauser, 2009). Сравнивая фактические и возможные формы развития живых организмов, используя инструменты и теории молекулярной биологии, математики, физики, экологии, анатомии, ученый пытается понять, почему в пространстве возможностей эволюционного развития существуют пробелы и какую роль они могут играть в эволюционном процессе. Согласно эволюционной биологии, увеличение и развитие различных форм животных возникает в результате основных молекулярных операций по генерации вариаций (например, перестановка, повторение, увеличение и деление – с каждым из этих процессов связано дальнейшее изменение и ограничение в зависимости от времени и величины опыта).
Понимание соотношения возможных и невозможных альтернатив развития в биологии порождает аналогию из истории формирования естественных и искусственных языков: «Важно отметить, что эта перспектива породила идею невозможных языков: то есть лингвистических структур, которые никогда не будут рассмотрены или, если они будут рассмотрены и выражены, не могут быть изучены» (Hauser, 2009, p. 191). Исследования в области генеративной лингвистики показывают, что, как и разнообразие форм животных, чувство неограниченной вариации в лингвистических формах иллюзорно, потому что скрывает набор универсально поддерживаемых, биологически инициированных механизмов для генерации вариации, в том числе освоение и ограничение пространства возможных языков.
Затем следует переход от языка к культуре. Автор предполагает, что большая часть изменений, наблюдаемых в человеческой культуре, очень ограничена, поскольку пространство возможных культур лишь мало населено, оставляя несколько пробелов, которые составляют невозможные культурные формы: «Эта перспектива, с ее параллелями в работе над теоретической морфологией и расширением общего подхода, который мотивировал работу в области генеративной лингвистики, подразумевает, что некоторые культурные формы никогда не будут развиваться или, если они есть, быстро вымрут, потому что они не обучаемы или изучены с большим трудом. Эта точка зрения имеет интересные последствия как для изучения культуры, так и для биологии (гены, нервные цепи и когнитивные процессы), она облегчает и ограничивает приобретение и передачу культурного опыта» (Hauser, 2009, p. 194). Идея о том, что существуют культурные пробелы, вызывает те же вопросы, что и суждение о том, что такие же пробелы есть в формах животных. При этом необходимо понимать, что порождает вариации в культурных формах и почему некоторые теоретически возможные формы никогда не реализуются. Хаузер считает, что люди рождаются с умственным «набором инструментов» для создания и особенно для понимания культурных различий (в лингвистике, музыке, морали). Набор инструментов состоит из программ развития, которые генерируют вариации, «сырье» для избирательного процесса, который кристаллизует конкретную форму выражения. Когда культурные формы кристаллизуются, могут появиться пробелы, потому что люди в культуре не могут представить альтернативы из-за бедности воображения.
По мнению Хаузера, подобные сравнительные методы анализа открывают перед наукой беспрецедентные возможности для понимания вопросов эволюции и когнитивных способностей. Они показывают, как теории, технологии и результаты молекулярной биологии, эволюционной биологии, нейробиологии, когнитивной психологии, лингвистики и антропологии могут быть продуктивно объединены для понимания одной из самых глубоких проблем интеллектуальной жизни – как эволюционировал уникальный генеративный мозг человека (Hauser, 2009).
Междисциплинарная направленность современной науки порождает такие новые области познания, в которых категория «возможное» является основной. К ним принадлежит прогностическая микробиология. Прогностическая микробиология основана на интеграции традиционных знаний из области микробиологии со знаниями математических, статистических, информационных систем, технологий для описания поведения микробов с целью предотвращения порчи продуктов питания, а также болезней пищевого происхождения. Благодаря интеграции разнообразных знаний из биологии, физики, инженерии в ней решаются задачи, которые когда-то казались невыполнимыми (разработка и внедрение сложных синтетических генных цепей, построение многокомпонентных бактериальных сообществ с конкретными, заранее определенными составами и т. п.). В этой области научного познания обсуждаются ключевые проблемы прогностической микробиологии, задачи, связанные с природной сложностью микроорганизмов, а также ценностью количественных методов для повышения предсказуемости результатов моделирования (Fakruddin, Mazumder, Mannan, 2011; Lopatkin, Collins, 2020).
В начале XX в. невозможность понимания многомерного мира человека только одним, единственным способом стала очевидной в период возникновения квантовой физики и последующего развития методологии всех наук. Возник методологический конфликт между отражением действительности и ее описаниями, причем он существовал в сознании не только рядовых, но и великих физиков: «Эйнштейн посвятил труд всей своей жизни исследованию объективного мира физических процессов, которые где-то там, вовне, в пространстве и времени, протекают независимо от нас по незыблемым законам. Математические символы теоретической физики были призваны, по его убеждению, отображать этот объективный мир и тем самым сделать возможными предсказания относительно его будущего поведения. А тут вдруг стали утверждать, что если углубиться в атомы, то такого объективного мира в пространстве и времени вовсе и нет и что математические символы теоретической физики отображают лишь возможное, а не фактическое. Эйнштейн не был готов к тому, чтобы позволить – как он это ощущал – почве уйти у себя из-под ног. И в своей последующей жизни, когда квантовая теория давно уже и прочно стала составной частью физики, Эйнштейн тоже не смог изменить свою точку зрения. Он допускал квантовую теорию в качестве временного, но не принимал в качестве окончательного объяснения атомарных явлений» (Гейзенберг, 1989, с. 207).
Сегодня эйнштейновская непоколебимая уверенность в существовании объективного мира, не зависящего от познающего субъекта, преодолена, в частности, на основании многомировой интерпретации квантовой механики Х. Эверетта. Согласно этой теории, квантовый мир «может быть адекватно представлен как набор многих классических миров, параллельных миров. Эти классические миры – фактически различные „проекции“ единственного объективно существующего квантового мира. Они отличаются друг от друга некоторыми деталями, но все они – образы одного и того же квантового мира. Эти параллельные классические миры сосуществуют, и мы все (и каждый из нас) параллельно живем во всех этих мирах» (Менский, 2011, с. 26–27).
Методологию современной науки, как естественной, так и социогуманитарной, характеризуют, по меньшей мере, два основополагающих признака. Во-первых, сознание ученого непосредственно включено в познавательные процессы и потому не может игнорироваться при интерпретациях их результатов. Во-вторых, наука всегда имеет дело с возможностями, альтернативами понимания исследуемой действительности. В частности, «интерпретацию квантовой механики, в которой принимается объективное сосуществование многих различных классических миров, назвали интерпретацией Эверетта, или многомировой интерпретацией. Не все физики верят в эту интерпретацию, но число ее сторонников быстро растет. Миры Эверетта, которые должны сосуществовать в силу природы квантовой механики (в соответствии с „квантовой концепцией реальности“), и являются теми „параллельными мирами“, которые рассматриваются в этой книге. Мы видим единственный мир вокруг нас, но это – только иллюзия нашего сознания. Фактически все возможные варианты (альтернативные состояния) этого мира сосуществуют как миры Эверетта. Наше сознание воспринимает их все, но отдельно друг от друга: субъективное ощущение, что воспринимается один из альтернативных миров, исключает какие бы то ни было свидетельства о существовании остальных. Но объективно они существуют» (там же, с. 28–29).
Понимание и осмысление миров, «переход от мыслимого к возможному, который совершили Л. Витгенштейн, Д. Чалмерс и др., – это только начало пути перед погружением в пугающе сложный мир возможного. Главным здесь является глубокая внутренняя ментальная, психическая и контрфактуальная способность человека к расширению действительного мира посредством представления или воображения того, что могло бы быть. Пока мы всего лишь выявили стремительно нарастающую тенденцию к изучению возможностного мышления» (Карпенко, 2016, с. 8).
Возможностное мышление сегодня представляет собой очень перспективный способ осмысления эволюции всей действительности – от квантового микромира до социального макромира. Такой способ дает возможность наиболее эффективным образом описать суперпозицию, взаимодействие сложных интерферирующих процессов во вселенной. В биологии это разные ветви возможного эволюционного развития, в квантовой физике и психологии – необычные проявления сознания, открывающие для познающего субъекта доступ к альтернативным реальностям. «В каждой из эволюционных ветвей реализуются те или иные возможности, содержащиеся в исходной суперпозиции. Каждая компонента квантовой суперпозиции представляет собой отдельную и равноправную классическую реальность. Вселенная расщепляется на ряд вселенных-ветвей, каждая из которых соответствует своему возможному исходу события. То, что мы воспринимали как коллапс, означает, что наше сознание выбрало определенный путь через эти ветви, и поэтому наблюдается один набор результатов вместо другого из огромного числа других возможностей. Другие копии нашего сознания наблюдают другие возможные исходы в других вселенных-ветвях» (Верхозин, 2014, с. 215).
В этом общенаучном контексте очень важны современные дискуссии о переосмыслении содержания эмпирической реальности в квантовой физике (Карпенко, 2015; Пенроуз, 2005), биологии (Зуев, 2016) и других областях естествознания. Один из самых научно значимых результатов дискуссий заключается в том, что «все большее значение приобретает модальное, возможностное мышление, которое противостоит анти-реализму и выводит на арену «сверхреализм», требующий реализации в актуальность всего того, что мыслится как возможное. В итоге знаменитое декартово высказывание о существовании принимает следующий вид: «Существовать – значит мыслить возможное» (Esse ergo cogitare possibilia)» (Карпенко, 2015, с. 36). Это означает, что модальное возможностное мышление направлено на действительность, открываемую познающим мир субъектом в виде многообразия возможностей: «Важнейшие множества физики – это множества не предметов, а возможностей: конфигурационное пространство системы есть множество ее возможных мгновенных состояний, пространство-время есть множество возможных событий типа „вспышки“, отмечающих точки» (Манин, 2008, с. 141–132).
Интересные и даже неожиданные проявления возможностного мышления обнаруживаются в исследованиях околосмертного опыта. Такой опыт измененных состояний сознания у некоторых людей возникает вследствие остановки сердца (клинической смерти), шока после потери крови при родах, черепно-мозговой травмы, инсульта, асфиксии и т. п. «Околосмертный опыт может быть определен как память о впечатлениях во время особого состояния сознания, включая такие феномены, как внетелесный опыт, приятные ощущения, видение туннеля и/или света, видение умерших родственников, обзор жизни или сознательное возвращение в тело» (Van Lommel, 2011, р. 19). Обстоятельный аналитический обзор проблемы содержится в недавней статье О. В. Гордеевой (Гордеева, 2020). Околосмертный опыт включает множество необъяснимых с точки зрения современной науки феноменов: видение находящимся в состоянии клинической смерти человеком предметов, которые невозможно увидеть из точки физического расположения его тела; «встреча» с давно умершими людьми; появление внетелесного опыта – ощущение выхода за пределы своей телесной оболочки и т. п. Такие феномены побуждают ученых пересматривать и по-новому решать старые проблемы соотношения материализма и идеализма, мозга и сознания.
Оригинальную концепцию нелокального сознания предлагает П. Ван Ломмель (Van Lommel, 2011). Он полагает, что сознание не локально, а распределено в пространстве и потому не связано только с одним каким-то конкретным мозгом. Метафорой сознания являются невидимые глазу и пронизывающие все материальные тела электромагнитные информационные поля, в роли которых выступают индивидуальные сознания, каждое из которых связано с телом и мозгом. Фактически мозг служит передатчиком, позволяющим подключаться к общему сознанию, получать от него информацию. Однако сам мозг не производит сознание и информацию. Ван Ломмель сравнивает его с телевизором, который принимает электромагнитные волны и преобразует их в изображение и звук, но не создает телепередачу. Метафорическая концепция нелокального сознания необходима для интерпретации околосмертного опыта. Во время его возникновения, когда мозг временно «перестает функционировать», индивидуальное сознание может перейти в фазовое пространство и продолжить действовать уже как общее, которое потом актуализуется в виде воспоминаний. Обобщенно говоря, ученый «предлагает концепцию нелокального (nonlocal) сознания (используя ряд идей и понятий из квантовой физики), согласно которой в общем информационном поле, или «фазовом пространстве», вечно существует бесконечное (общее) сознание, в котором берет начало и сохраняется сознание индивидуальное, содержащее наше Я. Это пространство невидимо и состоит из областей вероятности, где события существуют как возможные, а при определенных условиях возможность превращается в действительность, производя события нашей реальности» (Гордеева, 2020, с. 121). Отсюда следует, что даже в такой «экзотической» области исследований соотношение действительного и возможного играет значимую объяснительную роль.
При анализе концепции П. Ван Ломмеля об общем и частном сознаниях возникает аналогия с давней работой из отечественной психологии понимания: в 1993 гг. Г. Граник и О. В. Соболева опубликовали статью «Понимание текста: проблемы земные и космические». Они высказали гипотезу, что, понимая текст, читатель подключается к пространственной, космической мысли: Космическому Разуму, по Мантрейи, Глобальному Разуму, по Шри Ауробиндо, ноосфере, по В. И. Вернадскому, континуальному потоку образов, по В. В. Налимову. «Вместе с тем мы предполагаем, что читатель не только „берет“ из Космоса, но и возвращает переработанные мысли в Беспредельность. Рожденные художественным текстом размышления, воздействуя на личность, в то же время очищают пространство, обогащают его положительной энергией. В связи с этим по-иному высвечивается роль художественной литературы, при соприкосновении с которой происходит, по нашему предположению, как рост человеческого духа, так и влияние этого духа, этой энергии на Космос» (Граник, Соболева, 1993, с. 81). Гипотеза, конечно, интересная, но не психологическая, а философская, антропологическая, методологическая и т. п. Трудно не согласиться с послесловием редакции о том, что прямой перенос понятий и принципов общенаучного уровня методологии на конкретно-научный уровень нельзя признать корректным.
Вывод: как и многое другое в современной нейронауке, объединение идей из области квантовой физики и психологии сознания напоминает «старые песни на новый лад».