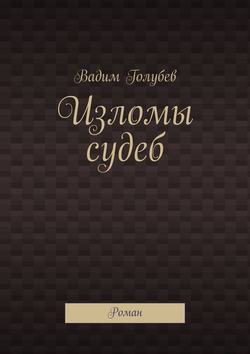Читать книгу Изломы судеб. Роман - Вадим Голубев, Вадим Вадимович Голубев - Страница 2
ОХРАННИК СТАЛИНА
Между революциями
Оглавление– Боже царя храни! – начинали выводить государственный гимн напольные часы в гостиной.
– Сильный державный царствуй, наш царь, на славу нам! – вторили им серебряные каминные часы – приз папаши – Александра Федоровича – подарок администрации Нижегородской ярмарки по случаю награждения продукции его мастерских серебряной медалью.
– Царствуй на страх врагам, царь православный, – подпевал швейцарский «брегет», с боем, переделанным для россиян, – приз папаше – серебряному призеру по штыковому бою, когда он служил в лейб-гвардии.
По нему уже отчитавший утренние молитвы Александр Федорович проверял точность всех часов в доме. Затем просто, но вкусно завтракал. В праздничные дни, особенно на Пасху, стол купца второй гильдии Лебедева ломился от закусок. На нем присутствовали все двенадцать видов черной икры, продававшейся в магазине Елисеева, белуга, стерлядь, осетрина горячего и холодного копчения, окорока, колбасы, сыры, купленные у того же Елисеева. В центре стола красовались блюда с целиком запеченным поросенком, гусем с яблоками, большие тарелки с пирогами и расстегаями. Для бутылок с выпивкой попросту не оставалось места. Они размещались на приставном столике и еще одном столике на колесах. Здесь теснились шустовский коньяк, смирновская водка, не меньше шести видов наливок и столько же настоек, портвейны и мадера, созданные в массандровских винных погребах. В будние дни Александр Федорович довольствовался немногим кашей, картошкой, квашеной капустой, овощами, творогом с молоком (если не было поста), рыбкой. Предпочитал осетринку. О красной рыбе говорил:
– Я этими лососями, когда служил, наелся! Нам в лейб-гвардии через день то кету с горбушей, то селедку давали.
Попив чайку, (кофе Лебедев считал напитком от лукавого), шел к заутренней. После нее, будучи церковным старостой, коротко справлялся у батюшки о проблемах храма. На какие работы надо собрать средства, кому из бедных прихожан помочь деньгами и вещами, к какому празднику и какие цветы приобрести. Затем окраины Москвы взрывались фабричными гудками. Звали к станкам рабочих предприятий Морозовых, Коноваловых, Ряпушинских, Шелапутиных, Канатчиковых, Кузнецовых, других богатых и очень богатых людей. Потоки черных и темно-коричневых пальто, бушлатов, поддевок, а в летнюю пору – синих косовороток с черными жилетами втекали в ворота предприятий. У Александра Федоровича своего гудка не было. Да и зачем? Все его работники жили рядом с заведением – тремя прилепившимися друг к другу домами. Один достался от отца. Двое других прикупил, когда развернулся, используя наследство и скопленные за время службы деньги. Второй этаж отцовского дома занимала семья Лебедева. Первый использовался как контора и своего рода демонстрационный зал, где была выставлена продукция мастерских: модельная и повседневная обувь, седла и конская упряжь. Сюда съезжались представители магазинов, собирались отправленные на Варшавский вокзал приказчики. Они высматривали обувь на господах, вернувшихся из Парижа, Берлина, Вены. «Крик моды» предлагали продать за немалые деньги. Поначалу их гнали в шею. Потом кто-то стал продавать. Затем появилась немалая группа людей, часто бывавших за границей, покупавших там две пары ботинок, полусапожек, дамских туфель. Одну для себя, другую для мастерской Александра Федоровича, с которого драли втридорога. Лебедев лишь усмехался. На втором этаже соседнего дома покупки распарывали, выясняли: как они сшиты, что к чему пришито, что и как крепится. Затем по «рассекреченным» выкройкам шили точно такую же обувь. Однако, учитывая ошибки западных модельеров, делали ее еще более удобной. После чего приказчики с образцами разъезжались по магазинам и пассажам, небольшим обувным лавкам. Все торговцы охотно покупали то, что еще несколько дней назад только появилось на витринах мировых столиц. Шили сапоги и ботинки для покупателей попроще: мелких служащих, торговцев, студентов, работяг. Ее качество было высоким, а цена доступной. Поэтому у заведения был постоянный доход. В третьем доме Лебедев держал мастерскую по производству седел и конской сбруи. Эта продукция «на ура» расходилась не только по Москве – по всей России, занимая призовые места на Нижегородской и прочих ярмарках. В купцы первой гильдии Александр Федорович не рвался. Говорил:
– Чем выше гильдия – тем выше требования к качеству товара. Не усмотришь – опозоришься, сраму не оберешься. Лучше делать меньше – да лучше!
Обрастал Лебедев не только домами, деньгами, машинами. Обрастал он и семьей. В разные годы родились дети: Николай, Александр, Кирилл, Геннадий, Екатерина, Константин. Скрипела зубами мамаша, не любившая бесприданницу – невестку Анфию Павловну: то начало века, то война, то революция, то еще какое событие, а молодая дура рожать собралась! Александр Федорович не обращал на этот скрежет зубовный внимания. У него была его Анфиюшка, которую он, увидев как-то на Красную Горку, полюбил на всю жизнь. Жена знала свое место – не лезла куда не надо. Была выше всяческих дрязг, не обращала внимания на попреки свекрови. Любила, в отличие от мужа, баловала деток, однако в меру. Те росли, радовали родителей, вместе переносили бури и невзгоды бурных вроемен, обрушившихся на страну, а вметсе с ней на семью каждого россиянина.
Николенька навсегда запомнил звуки часов, вызванивавших гимн Российской империи «Боже, царя храни». Потом маменьку Анфию Павловну, поднимавшую его со словами: «Вставай с постели! Оладушки поспели!» Помнил он и неповторимый вкус оладушек, испеченных из белейшей муки. Позже в его воспоминания ворвалось другое. Люди в зеленых мундирах с золотыми погонами в гостиной. Пресмыкавшиеся перед ними первые богачи в округе, при встрече с которыми папаша Александр Федорович снимал шапки с себя с сына. Они же пренебрежительно подавали папаше, отвечая на его приветствия всего два пальчика. Теперь эти господа сами стояли, сняв соболиные шапки перед осанистым, дюжим военным.
– Распустили ваших мастеровых, господа купцы! Полезли они на баррикады! Свобода им понадобилась! Теперь вы просите, чтобы подчиненные мне артиллеристы не стреляли по фабричным зданиям, где укрылись бунтовщики! Сами виноваты! Раньше надо было думать и гнать всех неблагонадежных из ваших заведений. Каленым железом надлежало выжигать крамолу! Сейчас – не обессудьте! Баррикады из орудий разнесем! Будет стрельбы из производственных помещений – их сравняем снарядами с землей! – сказал воротилам военный и обернулся к Александру Федоровичу. – Ну а ты, братец, что скажешь, если и твои строения разрушим?
– Ежели для царя и отечества надобно, стреляйте, разрушайте, ваше превосходительство! – ответил Лебедев-старший, облаченный в свой праздничный сюртук, темно-синего английского сукна с медалью «За усердие» на анненской красной ленте. – Только мои работники по домам сидят. Я их перед самым началом заварухи предупредил: кого на баррикадах увижу – уволю…
– Вот, ответ настоящего верно-поданного, истинного патриота! Ну а вы, господа купцы, уповайте на милость Божью! Не смею задерживать, – с издевательской улыбкой отправил фабрикантов восвояси военный и обернулся к подчиненным. – Штаб полка разместим в этом доме! Ночевать тоже здесь будем!
– Ваше превосходительство, Георгий Александрович! Уж больно здание непрезентабельное! Не для вашего ночлега! – заметил кто-то из офицеров.
– Именно в роскошных хоромах нас будут искать бунтовщики. Сюда вряд ли сунутся, – ответил полковник. – Артиллеристам занять позиции! После того, как баррикады будут разрушены огнем орудий, вперед казаков! Следом мы – Его Императорского Величества лейб-гвардии Семеновский полк! Снарядов и патронов не жалеть! Захваченных с оружием в руках расстреливать на месте! За малейшее неповиновение расстреливать на месте! Распространителей крамольной литературы и призывающих устно к ниспровержению существующего строя расстреливать на месте! Что там за шум?
Солдаты ввели связанного брата папаши – дядюшку Арсения Федоровича.
– Так, что ваше превосходительство, этот избил казаков! – щелкнул каблуками фельдфебель.
– Ну и пристрелили бы!
– Наш он, господин полковник! Проходил службу у нас в полку, служил в моем отделении. Могучий кулачный боец. Мы с его помощью всегда побеждали, когда дрались с преображенцами, флотскими и прочими…
Дядюшка Арсений был на год младше Александра Федоровича. В отличие от старшего брата он быстро спустил свою долю наследства и теперь работал в мастерских Лебедевых. Мастером был прекрасным. Любил выпить, но в меру. Однако любил подраться по поводу и без повода. Шел в первых рядах, когда сопредельные околотки (районы – авт.) сходились «стенка на стенку». Дрался на Святки, и на Масленицу, и на Пасху, и на Троицу, и в другие праздники. По будням, впрочем, тоже не упускал случая, чтобы врезать кому-нибудь по роже. Вот и в тот день собрался дядюшка на баррикады. Слова свобода и равенство были для него пустыми звуками. Шел, чтобы потешить себя: «навалять» городовым с казаками, как он делал это с евреями, да армянами еще пару месяцев назад, помогая погромщикам из «Союза Русского Народа». Только собрался на выход – в домик, где жил вломилась троица казаков.
– Мужик! Водку давай! Жрать хотим! Скажи своей бабе, пусть приготовит чего-нибудь! – велели Арсению Федоровичу, заметившему в окно гарцевавших по улице казаков, а за ними шедших строем солдат Семеновского полка.
– Не успел! – пронеслось в мозгу Арсения. – А жаль!
Он достал бутылку «Смирновской» водки, которую казаки «усидели» в три стакана. Не дожидаясь, пока жена хозяина Аглая подаст на стол, полезли по шкафчикам на кухне и кастрюлям, руками выуживая из них съестное, и отправляя найденное в рот.
– А ты – сладкая! – облапил один из казаков Аглаю. – Где у вас спаленка? Пошли!
– Ты, что творишь?! – вскинулся Арсений.
– Да, ладно, сиволапый! – небрежно бросил другой казак и двинул Арсения кулаком в ухо.
Казак не знал, с кем имеет дело. Увернувшись от удара, Лебедев сам долбанул противника в челюсть. Тот опрокинулся и, стукнувшись головой об пол, затих. Второго Арсений Федорович тоже свалил, «заехав» кулаком по виску. Облапивший Аглаю схватился за шашку, но было поздно. Арсений бил кулаками, вышибая из насильника зубы и кровавые сопли, пока лицо того не превратилось в месиво. В это время в дом вошли солдаты Семеновского полка. Хотели застрелить Лебедева, но не дал узнавший его фельдфебель. Лейб-гвардейцы, считавшие казаков полным отстоем, разумеется, вступились за своего. Однако доставили к командиру полка, в-первую очередь опасаясь, как бы сослуживцы избитых не расправились с кулачным бойцом.
– Что же ты, братец, бунтуешь? Слуг государя-императора бьешь? – спросил Лебедева командир полка Георгий Александрович Мин.
– Так что, ваше превосходительство, казаки хотели мою жену изнасильничать, – вытянулся Арсений.
– Некогда мне с тобой возиться! Фельдфебель! Возьми кого-нибудь из московских, кто город знает, и отведи этого субъекта в дежурную часть при генерале-губернаторе. Там разберутся!
– Разрешите, ваше превосходительство, мои казачки его сопроводят! – подал голос низкорослый от всех прочих, кривоногий офицер.
– Ваши казачки, господин подъесаул, его в ближайшей подворотне зарубят. Фельдфебель! Выполнять приказ! Господин полковой адъютант, подготовьте сопроводительную записку!
Как выяснилось позже, дядюшку продержали неделю в подвале дома генерал-губернатора, пока «умиротворяли» московских пролетариев, студентов и примкнувших к ним маргиналов. Потом быстро осудили, не вдаваясь в подробности дела. Приговорили к пожизненной каторге на Сахалине.
– Тебе жизнь сохранили. Не записка полковника Мина – повесили бы, как собаку! А на Сахалине люди тоже живут, – «напутствовал» Арсения старичок-председатель суда.
Это было позже. А тогда Лебедевы ютились в домике, где проживал брат Арсений с женой и матерью Акулиной Никаноровной. Гремели взрывы, трещали винтовочные и револьверные выстрелы. Сквозь них доносилось: «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног!» и могучее русское ура, с которым шли в атаки гвардейцы-семеновцы. Три дня служивые громили Пресню – оплот революционеров. Потом «зачищали» другие районы Первопрестольной. Затем лейб-гвардии Семеновский полк пошел воевать дальше. Александр Федорович с семьей вернулся в свой дом. Прибежала соседка. В ужасе сообщила Анфии Павловне, что только в одном дворе Трехгорной мануфактуры расстреляли более тысячи человек. Потекли к Ваганьковскому кладбищу телеги с некрашеными, наспех сколоченными гробами. Там же тихо похоронили убитых революционерами солдатиков, казаков, полицейских. Еще через два дня городовые прошли по домам владельцев предприятий, лавочников, сообщая, что разрешено возобновить работу. Открылись магазинчики и лавки, хозяева коих сразу же вздули цены.
– Грех на крови наживаться, Бог накажет! – вздохнул Александр Федорович, когда супруга пожаловалась ему на дороговизну. – Пойду работников собирать. Делом заниматься надо, а не бунтовать! Тогда и дороговизны не будет.
Николенька быстро забыл о днях, проведенных в дядюшкином домишке. У него снова была своя комнатка, игрушки из которых он больше всего любил коня, сабельку, да гусарский кивер. Лишь около года спустя напомнил о революции отец, читавший за вечерним чаем газету.
– Убили знакомца нашего Георгия Александровича Мина. Девица Коноплянникова, учительница, выстрелила ему четыре раза в спину. Смерть наступила мгновенно…
– Это – тот самый полковник, что у нас в декабре прошлого года квартировал? – спросила Анфия Павловна.
– Он, самый…
– А девицу-то поймали или убежала?
– Поймали. Наверняка, повесят! Мина-то за наведение порядка в Москве генерал-майорским званием пожаловали. Да и будь он полковником тоже по головке бы не погладили. Тем более, эта Коноплянникова сама призналась, что убийство политическое и мстила она Георгию Александровичу за смерть ее друзей-революционеров. Да еще совершила преступление с особыми дерзостью и цинизмом: публично, на глазах жены и дочерей убитого. А ведь – культурный, вроде бы, человек. Учительница – не босячка какая-то! Будет теперь в петле корчиться. А могла выйти замуж, детей нарожать, дать им образование, воспитать верно-поданными государю, полезными отечеству людьми. Все эти революции от безделья, незанятости мозгов и рук происходят!
Спустя пару недель Конопляннкиову повесили. Коля это услышал, опять же, за вечерним чаем.
– Жила бы девка, да жила! Двадцать семь годиков всего-то! – охнула мать. – Да и Мин покойный тоже хорош был! Сколько его солдаты народу только на одной Пресне убили! Говорят, расстреливали даже за то, что рожа не понравилась!
– С террористами можно справиться только ответными мерами. Тем же террором! А здесь, сама понимаешь: лес рубят – щепки летят!
Позже Николенька понял смысл того, о чем говорили родители. Тогда же у него были свои, детские дела, желания, мечты. Мечтал дожить до нового Рождества, чтобы попасть в дом друга детства папаши – купца первой гильдии Василия Князева. Там ждала его дочь Леночка. Детские игры со временем переросли в увлеченность. После Рождества Коля ждал Пасхи, когда Князевы приедут к ним разговляться. Снова игры, разговоры, а когда подросли – даже танцы с Леночкой. Потом ждал Троицы, после нее Яблочного Спаса, чтобы снова увидеться с Леночкой. Дни же его протекали, как и дни всей Москвы: тихо и богобоязненно. Утренняя молитва, помощь матери по уходу за младшим братиком Шурой, родившимся в 1905 году. Ох, и поскрипела тогда бабушка Акулина Никаноровна, не любившая маму Анфию:
– Революция идет, а она – дура рожать собралась!
Когда подрос, стал ездить с матерью за покупками, где освоил счет. Она же исподволь учила сына молитвам, позже – грамоте. А вот гимну Российской империи научил отец. Коля как-то спросил его, что за музыку играют все часы в доме.
– Это – главная песня каждого русского человека, – ответил Александр Федорович. – Слова же у нее такие: «Боже, царя храни…»
Обладавший прекрасной память и музыкальным слухом ребенок быстро выучил гимн и во время ближайшего праздника спел его гостям. Мальчик был удивлен, когда взрослые люди встали, услышав пение, и со слезами умиления на глазах подхватили слова. Тогда у Николеньки появилась еще одна обязанность: петь вместе с родителями в церковном хоре. Обязанность была приятной. Во-первых, семилетний мальчуган чувствовал себя равным взрослым. Во-вторых, отец всегда награждал за труды то крендельком, то шоколадной конфетой, то коробочкой леденцов фабрики Ландрина. Не нравилось Коле другое в предшествующее Великому посту Прощенное воскресенье надлежало идти к родителям и просить прощения. Мальчик недоумевал: «За что? Ведь целый год я не сотворил ничего плохого. Был покорен, делал все, что велели папенька с маменькой, никого не обижал. Разве что бывало поддавал Шурке, когда тот не слушался. Так за это у него надо просить прощения!»
Девяти лет от роду Колю отдали в ремесленное училище.
– Думаю со временем закупить машины. Нужно, чтобы свой человек умел ими управлять и чинить их, – принял решение папаша Александр Федорович.
Коля не запомнил, что говорил на торжественной линейке директор училища высокий седеющий господин в мундире. Внимание мальчика привлекли красный в золоте крест на шее директора, блеск муара, эмали и золота на груди, маленькая шпага на боку у директора. В мундирах с орденами и при шпагах стояли другие учителя. Еще больше внимание ребенка привлек висевший за спиной директора огромный портрет государя-императора Александра Второго, одетого в гусарский мундир.
На первом же уроке Николенька отличился. Его приняли в класс для детей уже умевших читать и писать. Учебник начинался с гимна Российской империи.
– Это главное произведение, которое обязан знать каждый россиянин, – сказал учитель. – Может быть, его уже кто-то знает?
– Я знаю, – сообщил Коля.
– Прочитай наизусть!
– Я и спеть могу!
– Что ж, спой!
Мальчик запел. С особым вдохновением он пел его любимый куплет: «Перводержавную Русь православную, Боже храни, Боже храни! Царство ей стройное, в силе спокойное, все ж недостойное прочь отжени!»
– Похвально, весьма похвально! – улыбнулся учитель. – А знаешь, кто написал слова.
– Слова написал поэт Василий Андреевич Жуковский, а музыку его превосходительство генерал-майор Алексей Федорович Львов.
– Пятерка с плюсом! Неплохо для первого дня! Надеюсь, дальше также будешь учиться и не только по моему предмету!
Потом пошли уроки, домашние задания, помощь матери в уходе Шуркой, родившимися после него Кириллом, Геннадием, сестренкой Катей, пение в церковном хоре училища. Учеба давалась легко. Из класса в класс Николай переходил с похвальными листами. Так, и подошел к Великому юбилею – 300-летию династии Романовых. Колю, как одного из лучших учеников, взяли на торжественную встречу прибывавшей в Москву царской семьи. Учеников нарядили в кремового цвета картузы, рубашки, брюки. Построили в начале Тверской, неподалеку от Александровского (ныне Белорусский – авт.) вокзала. Далее поставили учеников коммерческих и реальных училищ, гимназистов, студентов. За учащимися плотной шеренгой стояли городовые и лишь за ними народ, жаждущий взглянуть на государя, возликовать при его виде в искреннем восторге. Где-то вдалеке слышались звуки маршей. На пороге церквей выстроилось духовенство, прихожане с иконами и хоругвями. Послышалось далекое все нараставшее ура. Ударили колокола.
– Едут! Едут! – разнеслось по толпе.
– Я тебе покажу, как револьвером размахивать! – раздалось за спиной у Николеньки.
Строй на мгновение разрушился. В прореху между людьми Коля, оглянувшись, увидел мужчин в одежде мастеровых, скрутивших парня в студенческой тужурке.
– Повернись! – слегка подтолкнул Лебедева полицейский. – Государь едет!
Церковные певчие запели «Боже, царя храни!» Народ взорвался криками ура. Полетели вверх шляпы, картузы, чиновничьи фуражки. Со слезами радости на глазах замахали платочками и букетиками цветов женщины. Рысью шла сотня конвоя Его Императорского Величества – красавцы-казаки в алых черкесках с медалями во всю грудь, а кое-кто с георгиевскими крестами. Следом верхом ехал царь – небольшой, худенький человек с рыжей бородкой и в зеленом мундире. Он даже несколько разочаровал Николеньку, представлявшим государя-императора богатырем огромного роста.
– Матушка-государыня! – разнеслось по толпе.
Императрица Александра Федоровна в белом платье и черной широкополой шляпе милостиво улыбалась подданным. Следом ехали в открытых колясках царские дети – девицы в белых платьях и престолонаследник Алексей Николаевич – пацаненок в матросской куртке. После них потянулась вереница, которой, казалось, не будет конца, конных экипажей с министрами, сановниками, московским начальством. Уже в училище ребятам вручили кульки с леденцами, пряниками, кружкой с портретом государя-императора и его предка – первого царя из династии Романовых – Михаила Федоровича. В качестве подарка к юбилею оставили кремовую форму. Все эти дни Александр Федорович появлялся дома только ночью, когда дети спали. Когда же торжества завершились он вернулся с медалью на обшитой белым, оранжевым и черным муаром колодке.
– Наши купцы все такие медали получили. Только они деньги за них заплатили, а мне, ох-как, пришлось покрутиться по организации торжеств! – с гордостью сказал Лебедев старший супруги и детям, поздравившим его с наградой.
Пролетел еще год. Началась Первая мировая война.
– Колька! Немцев бьют! – влетел в дом Лебедевых двоюродный брат Лёня – сын отправленного на каторгу Арсения Федоровича. – Пойдем немчуру с австрияками громить!
Николенька, было, ринулся за двоюродным братом, однако, зашедший домой отец, ухватил пацана за ухо. Второй рукой попытался поймать Лёньку, но тот увернулся и был таков. Брат возвратился вечером. Он был в соломенной шляпе канотье, не по размеру пиджаке с карманами, набитыми шоколадом.
– Угощайся! – протянул он брату шоколадку, с обертки которой смотрели царь и царица. – Сколько же у немчуры всякого добра! Когда магазины их разоряли, каждому что-то досталось! Зря тебя дядюшка не пустил! Вдвоем бы столько нахапали!
– Отдай шоколад, Коля! – раздался за спиной голос отца.
– Так, дядюшка, я ж от чистого сердца! Я и другим двоюродным принес… Проявил патриотизм, гонял басурманов…
– Это – не патриотизм, а разбой. Будь ты моим сыном, Леонид, выдрал бы тебя как сидорову козу! Скройся с глаз моих с этими шоколадками! А за прогул из жалованья вычту! Не посмотрю, что ты – единственный племянник.
С десяти лет Лёнька начал работать в мастерских Александра Федоровича. Пока его отец был на свободе, обучил мальчишку всем премудростям профессии. С годами Лёнька стал лучшим работником дядюшкиного заведения. Однако был в отца, научившему его приемам рукопашного боя. С детства Лёнька на пару с Арсением Федоровичем дрался «стенка на стенку». Сначала на «пограничный» между районами луг или замерзший пруд выскакивали мальчишки. Задирались, дразнили друг друга. После начиналась потасовка. Следом за пацанами в драку вступали подростки, за ними – парни, за ними – взрослые мужики. Дрались, пока одна сторона не обращала в бегство другую. Потом расходились по питейным заведениям и домам отметить победу. Оказывали помощь сильно пострадавшим. Кое-кого приходилось отправлять в больницу. Ну а проигравшие бой тоже разбредались по кабакам и трактирам залить водкой горечь поражения. Купцы и прочие богатеи не дрались. Они наблюдали за боем с какого-нибудь высокого, безопасного места. Александр Федорович категорически запретил детям участвовать в «битвах». Он знал, что накануне драки воротилы заключали в Купеческом собрании пари, делая подчас большие ставки на победу своего околотка.
– Богачам-миллионщикам – потеха, а людям синяки, да шишки! – говаривал Лебедев-старший. – Не по-христиански бить морды друг другу, ради удовольствия фабрикантов.
Лёнька же преуспел в боях. Сначала отцовскими ударами валил с ног мальчишек, потом подростков, затем – парней и, наконец, дюжих мужиков. Учил он драться и Колю с Шурой. Правда, зная, что тем крепко влетит от отца с собой не брал.
С войной драк становилось все меньше и меньше. Гребли работяг на фронт. Зато Александра Федоровича завалили военными заказами. Своих работников он сумел выкупить, бегая по военному начальству, суя за кого-то «зелененькую», за кого-то – «синенькую», за кого-то – «красненькую» (три, пять и десять рублей – авт.) Семья стала жить лучше, чем до войны. Количество заказов росло с каждым днем. Александр Федорович нанял еще работников, за деньги освободив их от призыва. Приобрел через военное ведомство машины, существенно увеличившие производство продукции.
В 1915 году Лёньке стукнуло двадцать лет. Он явился к Александру Федоровичу и объявил:
– Так, что, дядюшка, я добровольно записался в армию. Послезавтра отбываю на войну.
– Я за тебя аж десятку заплатил! – крякнул Лебедев-старший.
– Попросите, дядюшка, чтобы начальство в следующий призыв вам скидку сделало! А мне в тылу неинтересно. Ребят всех в армию призвали, фулюганов. Даже в морду дать некому. Скучно!
Через день у полицейского участка собрались призывники – мрачные, подавленные мужчины в окружении жен и многочисленных детей, подвыпившие задорные парни.
– Ты уж этим германцам наваляй как следует! – напутствовала Лёньку бабушка Акулина Никаноровна.
– Служи честно! Пулям не кланяйся, но и лоб под них не подставляй! – сказал свое слово Александр Федорович.
– Эх, Лёнька! Забубенная твоя головушка! – всхлипнула Аглая.
– Жаль, что я еще молод для армии, – обнял брата Николай.
– Я еще год назад охотником (добровольцем- авт.) хотел пойти, но из-за возраста не взяли, – ответил Лёнька.
– Становись! – раздалась команда.
– Надо же! Словно каторжников ведут! – вырвалось у Лёньки, увидевшего солдат с винтовками по краям строя.
– Направо! Шагом марш! – скомандовал одноглазый офицер с георгиевским крестом на мундире.
Забились в вое, заголосили бабы. Им стали подвывать детишки. Грустно, словно в последний раз, бросали на них взгляды мужики.
– Да, что же мы, братцы, словно на похороны идем?! Давай нашу любимую! – крикнул Лёнька завел, поддержанный хором с присвистом, типичным московским аканьем и типичным московским вкраплением слов, совершенно не влезавших размеры музыки и стиха:
– Пращай, Масква мая радная! Пращай, атец, пращай семья! Еще пращай, падруга, мая дарагая! Надолго вас пакину я.
– Пращай ты, новая дяревня, пращай радимыя края… – угасла за углом песня.
Бабы теперь не выли, а тихо плакали, расходясь в разные стороны.
– Храни вас Господь! – перекрестил скрывшихся за поворотом последних новобранцев Лебедев-старший.
Немногим удалось вернуться домой с той страшной войны, ставшей началом конца великой империи.
Коля с братом Шуркой следил за событиями на фронтах. Пацаны радовались победам русского оружия, грустили, когда нас теснил противник. А теснил он российские армии крепко. Вечером к карте, на которой мальчишки то на запад-восток, то на север-юг двигали бумажные российские, немецкие, австрийские, турецкие флажки, подходил Александр Федорович, вздыхал, глядя на них:
– Когда же это кровопролитие кончится? Не дело – христианам христиан убивать!
– Зато, папенька, заказов у нас полно, – наперебой говорили сыновья. – Половину армии сапогами, да седлами снабжаем!
– Заведение, конечно, процветает как никогда. Однако на все воля Божья. Будем терпеть, трудиться, благодарить Господа за дарованное!
Трудился Лебедев-старший не за страх, а за совесть, обрастая золотыми и серебряными медалями «За усердие» на груди и шее. На Рождество возглавлял обоз с подарками фронту. Сам дарил три воза: с обувью, седлами и конской сбруей, бочонками меда для лазаретов со своих подмосковных пасек. Семья позволяла себе больше, чем до войны. Случалось, правда, бабушка Акулина Никаноровна жаловалась, что мясо снова подорожало, а маменька Анфия Павловна сетовала:
– До войны у Елисеева продавалось шестнадцать видов черной икры, а сейчас всего лишь девять. Да и чай, хоть цейлонский, хоть индийский, хоть китайский уже не тот! Верно, примешивают к нему что-то!
В конце шестнадцатого года вернулся с фронта Лёнька. Он был в щеголеватой шинели с юнкерскими погонами, перепоясывавшими их ефрейторскими нашивками.
– Ты, что, Лёня, в юнкера поступил? – спросили Коля с Шуркой.
– Нет, я зачислен в школу прапорщиков. У нас такие же погоны, как у юнкеров. Я перед тем, как домой прибыть, в школу явился. Там в баньке от вшей пропарили, все новое выдали. Только этот «иконостас» оставили, кивнул на грудь двоюродный, снимая шинель.
Коля с Шуркой ахнули, увидев мерцавшие серебром георгиевский крест и две георгиевских медали на Лёнькиной гимнастерке.
– Теперь, Лёня, через четыре месяца станешь «вашим благородием», дворянином, – с завистью сказал Николай, мечтавший поступить в это учебное заведение, если война затянется, а он достигнет к тому времени призывного возраста.
– Вашим благородием буду, а вот с дворянством придется покурить. Обманул нас царь-батюшка. Многие шли в школу, надеясь получить титул. Ан, нет! дворянского звания нам не положено. Самое большее на, что можно рассчитывать – чин капитана. А после завершения военных действий немедленное увольнение в запас. Не об этом люди мечтали!
– Что ты, брат, говоришь?! Как царь может обмануть?! – изумился Николенька.
– А как он народ в девятьсот пятом году обманул? Вроде бы, даровал Государственную думу, свободу слова, собраний, шествий. Потом все это отобрал! Дума – обманка, за собрания сажают, шествия разгоняют. Как в гимне про царя поется? «Гордых смирителю, слабых хранителю, всех утешителю все ниспошли!» Смирил император распутинскую клику? Пьянствуют, кутят, развратничают, Россию вразнос продают! Хранит он слабых? Сколько крестьянских хозяйств разорилось! Сколько солдатских вдов с детьми малыми по миру пошли! Чем он этих вдов, да детишек утешил. Чем утешил служивых, руки-ноги в этой мировой бойне потерявших? Ничем!
– Ну, калекам пенсию дают, – встрял Шурка.
– С пенсии этой жить, может быть, будешь, а бабу поиметь не сможешь! Такая «большая» пенсия!
– Ты лучше, Лёня, расскажи, как в действующей армии? Как воевал?
– Что тут рассказывать? Сидим в окопах, кормим вшей. Когда кому-то из высокого начальства надо отличиться – получить очередной орден – идем в наступление. А патронов нет, гранат нет, снарядов нет. Хотя в тылу, на складах этого добра полно. Прём со штыками на пулеметы. Бьют нас германцы почем зря! Отобьем, умывшись кровью, линию окопов или деревеньку, получат господа-генералы кресты со звездами – получаем приказ отойти на прежние позиции. Своих потом тысячами в братские могилы кладем. Германцев – тоже. А ведь и у них жены, дети, старики-родители…
– Ну, ты-то, брат георгиевские отличия имеешь…
– Отличился по началу, по глупости. Потом тоже убивать пришлось. Не потому, что германец – враг, а потому что, если я его не убью, он меня убьет. А какой немец враг? Такой же рабочий или крестьянин. Так-то, Коля! На фронте народ быстро умнеет.
– Зачем же ты с такими настроениями в школу прапорщиков подался?
– Мелко еще плаваешь, Коля, жопа видна. Да хотя бы четыре месяца от передовой, от смерти, крови отдохнуть! А в тылу тоже кому война – кому мать родна. Пешком из школы домой шел. Заглянул в Елисеевский. Прилавки от икры с осетриной, да омаров ломятся. Правда, от Елисеева меня быстро выставили. Кстати, не посмотрели, что герой войны и георгиевский кавалер. «Не положено нижним чинам в заведении находиться», – сказали. Прошел по Тверскому бульвару до Никитских ворот. Там в магазине колониальных товаров ананасы на полках лежат. Дальше от центра в лавках очереди за дешевой колбаской. А у нас, на Пресне очереди за черным хлебом!
– Наши рабочие себя и белым хлебом, и пряником с крендельком побаловать себя могут. Папаша хорошо платит, да еще время от времени повышает жалование, – попытался возразить Николай.
– Это – ваш папаша, а мой дядюшка такой добрый. Остальные три шкуры дерут. Но недолго терпеть осталось. У рабочих и солдат сейчас совсем иное настроение, нежели в начале войны. Вы только, ребята, Александру Федоровичу, о чем мы говорили, не рассказывайте! Не то он расстроится.
Потом пришли бабушка и мать Лёни Аглая. Бросив дела, явился Александр Федорович. С ним Анфия Павловна. Долго сидели, вспоминая былое. Леонид больше молчал, а когда его попросили рассказать о войне, ответил:
– Рассказывать особо не о чем!
Потом у себя в доме Анфия Павловна сказала:
– Повзрослел Леонид…
– На войне быстро взрослеют, – ответил ей муж.
Убийство Распутина потрясло Россию. Уж больно крепко врос старец Григорий со своими многочисленными прихлебателями во все сферы жизни страны. Казалось, его всевластию не будет конца. Правда, находились те, кто искренне считал царского любимца святым человеком. Большинство же видело в нем жулика, шарлатана, пьяницу и развратника. Ходили слухи, что оттого столь крепко сидит Распутин, потому как в его любовницах оказалась даже сама императрица. Сам Коля как-то с Шуркой пошел в кинематограф. Папенька поощрил деньгами за хорошую учебу и примерное поведение, хотя сам кино не жаловал, полагая что оно – «от лукавого». Перед «фильмой» с господином Глупышкиным (французский комик Андре Дид – авт.) показывали кинохронику. Государя награждали орденом святого Георгия. Вдруг с балкона заблеял омерзительный голосок:
– Царь-батюшка с «егорием» (простонародное название награды – авт.), а царица-матушка с Григорием!
Дома пацаны рассказали отцу о происшествии.
– Не болтайте! – ответил тот. – Не то в компанию к дяде Арсению на Сахалин угодите! И вообще молоды вы еще такие вещи обсуждать! К тому же не вашего ума это дело… Марш чай пить!
Теперь труп старца глядел мертвыми глазами с газетных фотографий. А для людей все же был шок! Все хотели скинуть «Гришку» с кликой, судить их за взятки и казнокрадство, но никто не думал, что такое когда-либо случится.
– Ну и слава Богу! – вырвалось у Лёньки, зашедшего в увольнение домой.
– Какой там «слава Богу»! – сокрушенно покачал головой Александр Федорович. – Раньше виновным во всех бедах народ считал Распутина. Теперь его недовольство перекинется на царскую семью, самого государя-императора.
– Этого народу как раз и надо! – недобро ухмыльнулся племянник.