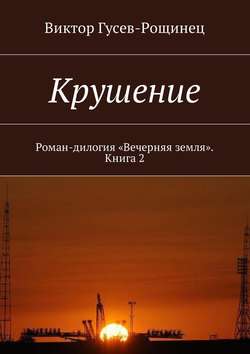Читать книгу Крушение. Роман-дилогия «Вечерняя земля». Книга 2 - Виктор Гусев-Рощинец - Страница 4
Часть 1. Побег
Глава 3. Ольга
ОглавлениеОна пришла точно в назначенный час, минута в минуту, будто стремясь подчеркнуть свою пунктуальность, которой, возможно, гордится и, не исключено, обязана ею Папе, его урокам. Могу представить себе степень влияния, оказанного им на эту женщину и, без сомнения, усвоенного ею с прилежностью способной и старательной ученицы. Похоже, она перечитала всю нашу библиотеку. Откуда я это знаю? У меня особая зрительная память. Когда на стеллажах, упакованных с плотностью сельдяной бочки, образуется брешь, я не только сразу ее замечаю (как отец говорит – «меняется рисунок»), но и безошибочно могу сказать, что гнездилось тут до сего момента. Я ничего еще не знала об этой связи, но что-то меня толкнуло, какая-то подспудная ревность: он дает читать наши книги, – кому? – подтолкнуло завести своеобразный учет. Нет, я не записывала названий, авторов, – они мне мало что говорили, – я просто брала и прочитывала книгу, едва она ставала на место. Плутарх, Моммзен, Лавис и Рамбо научили меня истории, Шопенгауэр – философии, Монтень – здравому смыслу. Это была настоящая гонка преследования! Человек, с которым я соревновалась, обладал, по всему, способностью быстрого чтения, – я же в свои четырнадцать лет понуждалась к работе поистине каторжной, – никогда мне не приходилось прочитывать по сотне страниц в день (я устанавливала себе норму, исходя из времени отсутствия книги на полке), и если бы не пробудившийся вдруг интерес к литературе такого рода, то мой проигрыш был бы неминуем. Очень быстро я поняла: тот человек наверстывал упущенное, – жадность, с которой глотались книги, превосходила разумный аппетит, – но только теперь мне приоткрылась истина в последней инстанции: любовь продуктивна во всех своих ипостасях. Низвергался поток! Горная река в период таяния снега! Историки, философы и поэты смешивали в наших головах времена и события, возводя пропилеи перед дверью в храм независимой мысли. Говорю – «наших», потому что именно так и думала – еще тогда. Митька по малолетству, а бабушка Соня ввиду «старого закала» и пуританских наклонностей, возможно, полагали, что Папочка наш ведет жизнь аскета, все силы своей души отдавая семье и работе. После смерти мамы прошло еще так мало времени, что Папа, может быть, думали они, живет лишь в раю своих воспоминаний. Но я сказала – «наших»: и тем как бы заключила некий союз, договор о совместном владении, – почувствовала опасность и включила соперницу (трудно поверить, но я отчетливо слышала ее запах – от Папы, когда он приходил после «ночного дежурства» или «местной командировки»: это не было запахом парфюмерии – аромат таил в себе загадку, отсылая к источнику явно животного происхождения – так младенцы пахнут молоком, а, вероятно, дельфины – морской капустой) – будто взяла ее за руку и ввела в дом, втайне от всех, и поселила в библиотеке. И она перестала быть соперницей и даже обрела смутный образ желанной подруги, и по прошествии недолгого времени я готова была сказать Папе, что не стану на его пути, если он захочет претворить свою «модель потребного будущего» (я не сомневалась в ее существовании: ведь каждый человек – это всегда «проект самого себя»), не отодвигая сроков ее претворения в действительность слишком уж далеко вперед. Но и торопить события я не намеревалась. В мечтах неизмеримо больше сладости, чем в обладании, во сне мы переживаем чувства, недоступные в реальности. Я пыталась представить себе ее внешний облик, пользуясь нехитрыми средствами из арсенала Шерлока Холмса. Метод индукции я дополнила осторожным инспектированием папиных карманов и скоро выяснила: шатенка среднего роста, легкая на ногу (последнее мне поведали туфельки, однажды принесенные Папой в починку; сам процесс ее он предусмотрительно скрыл от нас, но пара сношенных набоек, забытая в коридоре на верстаке, кое-что рассказала). Я примерила к воображенной статуарности удлиненный овал лица, а формы носа и губ извлекла из набора возможных методом Монте-Карло. Когда этот незатейливый фоторобот был в основном готов, я с удивлением обнаружила: она похожа на маму! А поразмыслив, решила, что было бы странным во всех отношениях, если б это оказалось не так. Иногда мы любим настоящее только за то, что оно напоминает нам о прошлом. Это сходство утвердило мое приятие новой данности. Я понимала, что она не сможет войти в наш дом как жена и мачеха – во всяком случае пока жива бабушка Соня. (Дай Бог ей здоровья на долгие времена – сказала я тогда, и Он услышал мою молитву.) В свои четырнадцать я была начитана по части секса – по существу, это и было тогда среди моих сверстников главным последствием достопамятной «революции 68-го»: мы почитали себя отменными теоретиками, которым только условия быта препятствуют раскрыться в практической деятельности. Всякое время означено своими трудностями. Для нас это было отсутствие гарантий безопасности: железный занавес плохо был проницаем для современной фармакологии. Помню, я подумала в связи с этим о таинственной папиной возлюбленной и заочно ей посочувствовала. И продолжая размышлять на эту тему, я невольно пришла к другим, более серьезным соображениям, которые помогли мне понять – насколько тут можно вообще претендовать на понимание – «нерв» этих отношений, ни о чем не спрашивая, а только наблюдая и выстраивая результаты в рамках наиболее достоверной модели. Считается, будто венцом отношений между полами выступает любовь – и в некотором смысле это действительно так. Но не менее сложны, а часто и более запутаны и, без сомнения, прочны отношения между сыном и матерью, дочерью и отцом. Когда мы дошли до Фрейда (в старых изданиях), я нашла подтверждение этой сложности и даже готова была принять мифическое «либидо», но уж никак не пресловутые комплексы – «Эдипа», «Электры» и прочих трагических героев. В самой себе я ощущала одновременное присутствие дочери, матери и любовницы (последнее требует объяснения – я его сделаю несколько позже). Мне кажется, в каждой женщине, поставленной перед лицом пола, неизменно присутствует таковая триада, и она-то руководит поступками, которые зачастую кажутся нам столь непоследовательными и необъяснимыми. С некоторыми несущественными оговорками я готова следовать за поборниками «поведенческой психологии»: чувство – это система поведения, и если в своих действиях, направленных на мужчину, мы проявляем себя по-разному в одинаковых ситуациях, то причины тут надо искать в упомянутом триединстве.
Одним словом, вспоминая себя на протяжении тех лет – от смерти мамы до замужества – я могу сказать, что была в гуще ожесточенных сражений, которые велись в моей душе тремя ипостасями этого так называемого женственного начала. Женственность жестока по отношению к своей носительнице – мужчинам следовало бы это понимать. Но они, к сожалению, не способны. Им это не нужно – или кажется, что не нужно. Они предпочитают холить свою «мужественность», не сознавая перевернутости, оппозиционности этого понятия, его возможности быть лишь в силу чего-то противоположного. Фрейд, безусловно, прав, когда говорит, что существует только одна сексуальность, только одно либидо – мужское. Женственность – это нечто иное. Я думаю, что женственность – это прежде всего соблазн – в нем ее сила. Возможно, я неправильно выразилась – женское начало не противопоставляет себя мужскому, но соблазняет его, пытается затащить на свою территорию, отречься от своей истины. Сказав – «любовница», я никак не претендовала на завладение таинственным замком по имени Инцест, я всего лишь признала то, что в игре соблазна, при всей очевидности любовной символики, под спудом слов, нет ожидаемого секса. Зато движущей силой, правилами игры, вполне может стать ревность: она задает цель. Средствами попеременно становятся лики дочерней и материнской привязанности.
В основе соблазна лежит секрет, загадка. Я думаю, что подрастающая дочь, на глазах становящаяся женщиной, являет собой принципиальную загадку для отца, наблюдающего этот процесс с какой ни то долей заинтересованности. На определенном этапе происходит не что иное как их новое знакомство, встречаются «новые» глаза, – и тогда секрет – обоюдный, двусторонний – «секрет секрета» – заявляет о себе во всей своей неоткрываемости. Табу инцеста закрепляет его навечно.
В основу всего было положено мое неоспоримое сходство с мамой. Если принять во внимание, что и Та, Другая, приобрела в моем воображении много общего с нами, то не покажется странным (а может быть, напротив, и есть нечто из области патологии – это преследует меня до сих пор, видоизменяясь только в образном строе) – некий синдром, являющий себя в окрестностях сна – перед пробуждением, когда звуки и прикосновения, и пробивающийся свет реального мира – мира спальни – будто через широкое отверстие воронки проливается в меркнущее, но еще не погасшее сновидение: тогда вместе с ними входит Мужчина и склоняется надо мной, лаская мое обнаженное тело нежными руками. Я не узнавала в точности кто это, – просто отдавалась галлюцинации – свободно, с наслаждением; я не могу назвать это эротическим сновидением – слишком реальным было все, к тому же со временем я научилась этим управлять, воплощая в Мужчине по собственной воле кого-нибудь из мальчиков, которые мне нравились, и пусть это не покажется странным, часто – Папу. В этой последней прихоти мне может послужить оправданием то, о чем я сказала вначале: я будто раздваивалась – оставаясь собой, я в то же время становилась мамой (я будто смотрела в зеркало на себя, но отражением было ее лицо – не удивительно, я сказала, что мы очень похожи) и тогда ничто не препятствовало мне принимать запретные ласки от отца; в других же случаях я точно так же становилась Той, Другой, и так же освобождалась от моральных запретов. Вот почему я берусь утверждать: соблазн – это нечто находящееся между сном и реальностью, как говорит Ницше – «златотканый покров реальных возможностей».
Я ненавидела себя за это. Вот почему я сказала, что женственность – жестока. Теперь, когда я замужем, и мои желания обрели власть над подлинной сексуальностью, я редко впадаю в это состояние, а если оно и приходит, то не приводит с собой той мучительно-сладкой раздвоенности соблазна: мужчина отстраняет все сомнительное, являясь всегда лишь в образе мужа и тем изгоняя дьявола.
Ревность абонирует в антологии соблазна место едва ли не почетнейшее. Известно, что все ускользающее от нас делается еще соблазнительней, а потерянное заставляет обливаться слезами, потому что навеки впечатывается в душу клеймом соблазна неистребимого. Я бы сказала, что ревность – это соблазн, восходящий в вечность. Ревнуя, мы ревнуем к уходу, по существу – к смерти.
Сначала это была мама. Ее смерть оборвала во мне туго натянутую струну, которая обладала таинственным свойством резонанса – она звучала тем выразительнее и громче, и тем богаче становилась обертонами – как настоящий септаккорд – чем ближе я ощущала мамино присутствие. Правильнее сказать, я не слышала этого звучания, оно словно было окрашенным фоном, его теплые тона придавали всему предлежащему одновременно контрастность и глубину и порождали свой собственный внутренний свет в вещах и событиях. Жаль, что память удерживает лишь пережитое осознанным. Запоминается только виденное в окружении собственного Я, – все остальное проваливается в забвение. Чем раньше мы начинаем себя осознавать – видеть со стороны – тем больше захватываем с собой жизненных впечатлений и тем более ценных, чем раньше они получены: в некотором смысле жизнь – это переработка информации; с возрастом – от рождения-взрыва – количество ее убывает по экспоненте.
Я ощущаю неловкость оттого что первые детские воспоминания связаны у меня отнюдь не с мамой, а с отцом. Должно быть, потому, что они сравнительно поздны и захвачены в возрасте (установленном по опросу участников) четырех лет и пяти месяцев. Я вижу себя на гигантской карусели, уносящей нас вперед и тем не менее чудесным образом поставляющей снова и снова к исходной точке – будке машиниста, где через дверь видны какие-то рычаги, но человека там нет, и мне страшно, мне кажется, полет наш не управляется, и мы не сможем остановиться. Я закрываю глаза и прижимаюсь к отцу. Но что за полет с закрытыми глазами? Смотрю вверх и вижу, как верхушки деревьев кружатся около неподвижно висящего в центре хоровода маленького белого облачка. Потом сила, поднимавшая нас высоко над землей, ослабевает, сиденье плавно снижается, скользит над помостом и будто утыкается в невидимую преграду. Папа держит мою руку, но я не могу идти, потому что кружится голова, он сносит меня по ступенькам, и мы садимся на скамейке невдалеке от коварного аттракциона. Теперь мне уже не страшно. Я снова поднимаю глаза и с удовольствием наблюдаю замирающее кружение древесных крон. «У девочки слабый вестибулярный аппарат» – говорит отец, когда мы возвращаемся домой. «Может, оно и к лучшему» – произносит мама загадочную фразу, над которой поразмыслив немного и не найдя в ней причины для успокоения, я спрашиваю: что же тут хорошего если кружится голова?
Нет, конечно это не первое воспоминание – оно, пожалуй, слишком «сюжетно». Еще раньше вспыхивают картинки в ярком солнечном свете (не он ли причиной запомнившемуся?): мы на берегу озера, окруженного лесом, голубизна и зелень смешиваются в зеркале воды и тускнеют от примеси желтого на песчаной отмели. Купание обдает холодом. Меня запеленывают в большое махровое полотенце и сажают «на солнышко» – греться. Велосипед: я балансирую на багажнике, держась за самодельную рукоять позади седла и следя за тем чтобы пятки были как можно дальше разведены в стороны – от спиц, норовящих затянуть в свою сверкающую орбиту всяк зазевавшуюся конечность: говорят, однажды это случилось с моей ногой – но я не помню. Велосипед – наша фамильная страсть; отец прав, говоря что движение полной мерой переживаешь только в седле. Возможно, это «подкоп» некого архетипа – пересев в автомобиль, мы утратили «ощущение седла», зато еще крепко держимся за «поводья» – баранку, пытаясь извлечь из нее последние крохи удовольствия. В школе нас учили «вождению» – прививали бациллу некрофильства (по утверждению Фромма); что из этого вышло? – то, я думаю, что мой брат оказался на больничной койке. Я готова ответить за свои слова, больше того – за убеждения, я первой вступлю в «Лигу борьба с автомобилизмом», если таковая вдруг обнаружит себя в пределах досягаемости, не оставшись плодом воображения моего любимого папочки. Безудержной гонке техницизма должен быть положен предел – слишком дорого заплатила за нее наша семья. Мой «слабый вестибулярный аппарат» исправно служит мне в этом начинании: едва устроившись за рулем и тронув с места, я начинаю ощущать легко головокружение, шоссе повергает меня в панику, встречное движение разрастается в одну сплошную угрозу, и в конце концов я чувствую себя совершенно разбитой. Настоящая фобия! Я никому не говорила об этом, но Папа, вероятно, догадывался о моей слабости. Передавая руль, он всегда вглядывался в мое лицо, будто пытаясь разгадать некую запечатленную на мнем тайну. Мне кажется, он и сам испытывал временами отвращение к своему «стальному коню», особенно если тот «упрямился», не желая заводиться или примерзнув «копытами» на стоянке: в этих случаях «чтоб он сдох!» звучало едва ли не лаской. Теперь, когда с машиной покончено, мы все (или почти все – Митька не в счет: сам погубил свою любимую «животину») почувствовали облегчение – того сорта, что нередко облекается в сакраментальное «могло быть и хуже». Мы-то знаем как «могло быть». Было много хуже. Очень, очень плохо. Когда же человек, придя в сознание, первым делом задает вопрос о машине, которую разбил столь счастливым образом, что сам отделался легкими (сравнительно) повреждениями, – когда он задает такой вопрос, это означает, что, с одной стороны, действительно «пронесло», но с другой – что упомянутая некрофильская бацилла еще жива и продолжает подтачивать неокрепшую душу. Поистине заразная, трудно излечимая болезнь! Я часто размышляю о ней – возможно, потому, что первой ее жертвой стала мама. До сих для меня остается тайной – нет, не загадка той злосчастной катастрофы, – но сама приверженность делу, столь явно противоречившему ее натуре, мягкой и отзывчивой на страдания других. Говорят, если долго не видеть человека, начинаешь забывать его лицо. Я никогда не забываю мамино лицо, потому что оно и мое тоже. Но я ловлю себя на том, что начинаю забывать, какая она была – в том глубинном, что составляет подлинную суть человеческой души. И я спрашиваю себя: а знала ли я вообще эту «глубинную суть»? Думая что знала, не впадаю ли я в ошибку? Если полагать основными чертами характера мягкость и отзывчивость, и способность к нежной привязанности, то куда поместить то, что бабушка Соня звала (со всеми оттенками удивления – вплоть до удивления самой себе: у нее такая дочь!) не очень-то мне тогда понятным словосочетанием «производственный фетишизм».
Вот они и произнесены: табу, фобия, фетиш. Придя из разных концов моей маленькой вселенной, слова складываются в триптих с каким-то не очень пока мне ясным знаменателем. Три грани одного симптома? Прочерченные границы в неупорядоченном и грозном мире, настойчиво стремящемся к хаосу? Или, напротив, скрытые пружины безумия? Сохраненный запас первозданной, необузданной энергии? Ведь именно запретное и вытесненное наслаждение придает силу нашим законам. В самом глубоком смысле, говорит Фрейд, это наслаждение убийством. Как ни трудно нам это признавать.
Когда я стала размышлять на эти темы, сопоставляя прочитанное с действительностью, мне захотелось поделиться сомнениями с Той, Другой, которая, как я знала уже, выбрала своим поприщем медицину. Сама я никогда не помышляла о таковом – во мне будто заложена была генетическая программа некого «языкового свойства»: мне кажется, я осознала это свое «призвание» (беру в кавычки, чтоб не звучало слишком торжественно) в тот же час как мама рассказала впервые: она хотела стать учителем английского языка, но… «потом появился папа, и все вышло по-другому». Вот и думайте после этого – что такое генетическая программа! Позже рассказ повторялся, вбирая в себя какие-то несущественные детали, но для моего «призвания» вполне было достаточно того, первого раза.
Чем сильнее запрет, тем сильнее бессознательное наслаждение. Вот как надо понимать, очевидно, сказанное о наслаждении убийством. Наивысший запрет? – ищите в своей душе темные закоулки, где прячется ликование, созерцающее мертвечину. В душе-то мы убиваем! И все же вопрос о том, что преобладает в основании наших законов – инцест или убийство, или, по крайней мере, вопрос об их взаимопроникновении, заслуживал бы, я думаю, особого исследования.
Центральная часть моего триптиха – лобовое стекло, отсвечивающее красным, и за ним – расширенные от ужаса глаза, страдальчески искривленный рот, руки, вцепившиеся в баранку, с побелевшими от напряжения костяшками пальцев. Автопортрет. Фобия, мне кажется, во многом схожа с Табу. Отличие лишь в ее особости, индивидуальности, сокрытости внутри субъективного пространства, где подобно эпидемии она пожирает все здоровое, разумное и в конечном счете сама себя запрещает. Садясь за руль, я каждый раз нарушала это свое «личное табу», и каждый раз это угрожало мне смертью. Невозможное, запретное наслаждение! Противница всякой мистики, я готова поверить в то, что случившееся с братом – кара, в слепоте или по умыслу настигшая невиновного, но порожденная лишь моим упрямым нежеланием считаться с запретами.
Я еще раз перевожу взгляд и начинаю всматриваться в туманную картину-символ, где все будто бы перевернуто с ног на голову: отвергнутое наслаждение становится средоточием поведения, социальных действий, направленных на удовольствие, конечной целью не только желаний, но и воли, стремления к самоутверждению, воинственных побуждений, тяги к знанию. Это и определяет суть фетишизма, независимо от того, скрывается ли он под покровом секса у одного или превращает какой-то объект в источник наслаждения для многих людей одновременно – для группы или толпы с единой «душой». В других мирах это мог быть трон или алтарь. Для нас (для них) было – ВОЙНА.
Она сказала: «осквернение алтаря». Вошла, поправила волосы перед зеркалом в прихожей, в холле окинула взглядом стеллажи с книгами, удовлетворенно качнула головой, как это делает человек, увидевший то, что и ожидал увидеть, и, молча следуя моему приглашению, села в гостиной на диване. Теперь напротив нее оказались полки за стеклянными створами, где хранились художественные альбомы; она не спеша прошлась глазами по корешкам, еще раз едва заметно кивнула своему удовлетворению и лишь после того обратилась ко мне. Глаза наши встретились, С минуту мы откровенно разглядывали друг друга, даже не пытаясь укрыться за словами. Просто всматривались в то, что лежало за пределами непосредственного восприятия, но простиралось далеко в прошлое и одновременно подступало – из этой глуби – к нашим воплотившимся лицам, ранее упрятанным в тайниках воображения. «Поверьте, я никогда не была здесь». Я это знала – просто хорошо знала отца: в свой дом он мог бы ввести только жену; возможно, это лишь побочный эффект его страсти к порядку. Что-то в этом роде я и ответила; мы обе рассмеялись, как заговорщики, чья обезвреженная тайна внезапно открылась миру.
Наши пристальные взгляды продолжали свою работу восстановления: теперь за внешней оболочкой (надо признать, весьма эффектной – большие серые глаза, красиво очерченный рот; под слоем помады рисунок верхней губы мог лишь угадываться, но характерная припухлость выдавала богатство натуры, а короткий прямой нос, его рельефно вылепленные крылья свидетельствовали о твердости; линии щек и подбородка безукоризненно ложились на контур удлиненного овала; улыбка не искажала черт – лишь создавала мгновенный контраст между бело-розовыми оттенками кожи и чистой белизной ухоженных зубов; это дерзкое великолепие увенчивалось легким золотистым облаком – такой цвет волос бывает у тех кто родился огненно-рыжим) – за этой видимостью я искала теперь следы прочитанных наших книг; я искала их прежде всего в глазах – ведь именно там непостижимо копятся знания и опыт жизни; выражение глаз, как сказал бы отец, интегрирует их, сводя к тому, что мы называем «зоркостью» у мужчин и «теплотой» – у женщин. По мере того как рассеивалось молчание, падало репликами и постепенно перетекало в разговор, я убеждалась: красота не только не убывает в речи, как это чаще свойственно женской красоте (ввиду ее известной хрупкости – ведь она еще и так недолговечна!) – напротив, приковывает к себе, заставляет искать новые признаки: поворот головы, руки (они говорят не меньше глаз), грациозный жест, походка (несколько шагов, сделанных ею по комнате, оставили впечатление медленного полета), и как вершина, как разрешение музыкального оборота, – голос, в иных случаях могущий перечеркнуть все, но в этой женщине – стягивающий отдельные черты-посылки доказательством истины.
Не знаю, что там она подумала обо мне; казалось, она также находит подтверждение своим догадкам в этой – не знаю как сказать: области? – как нашла его и подкрепила едва заметным кивком при беглом осмотре нашей библиотеки. Я недаром назвала это «областью» – то, куда стремится проникнуть, я понимала, моя собеседница (я все еще не решаюсь произнести ее имя; так же не решалась тогда – обратиться к ней иначе как на «Вы», смущаясь тем, что не могу выговорить «Таня», или «Татьяна», или, на худой конец, «Татьяна Васильевна») – она искала во мне черты своей единственной, неустранимой соперницы, и было что-то в ее повадке от охотника, расставляющего силки. Зная отца, я могу себе представить, какую грандиозную тайну выпестовал он своей скрытностью, «сухостью» (слово из лексикона бабушки Сони), неумением «исповедаться», а возможно и болью сердечной, загнанной вглубь, охраняемой от прикосновений и, кто знает, не диковинно ли цветущей в «подземном царстве»? Но что кроме поверхностного сходства, некоторого подобия черт (стоит добавить – геометрического) можно отыскать в дочери, если даже таковое сходство никем не оспаривается, а, напротив, подчеркивается всеми, кто имел возможность делать сравнения воочию? Тем не менее, пристальный взгляд проницает видимую границу и устремляется к чему-то такому, что схватывается воображением, домысливается и в результате всплывает живым – до галлюцинации – образом. Своего рода гадание перед зеркалом при свечах, разновидность медитации. Похоже, во мне самой тогда проснулось давнее любопытство, казалось, окончательно погребенное под грудой омертвелых чувств, потускневших воспоминаний и новых проблем: может быть, это из области гипноза, но на какое-то мгновение под взглядом сидящей напротив меня женщины я будто стала другой; уверена, что если бы в тот момент кто-нибудь спросил, как меня зовут, я назвала бы мамино имя. (Я уже говорила – подобное «перевоплощение» часто настигало меня раньше в «околосонном» состоянии.) Когда мы заговорили, это странное, едва ли не мистическое чувство прошло, но долго еще преследовало ощущение иррациональности: его трудно передать словами – похоже на то, как водопад каких-то давних, забытых сновидений затопляет память, с беспорядочной поспешностью мешая картины, о происхождении которых в точности ничего не известно: твои ли они? откуда? что означают?
Она хотела найти во мне разгадку тайны, которая была и оставалась тайной для меня тоже, с той лишь разницей, что как бы обращалась ко мне иной гранью (если тайна вообще способна быть многогранной; можно сказать например: другим входом – и помыслить ее в образе лабиринта) – тайной человеческой души, унесенной в Небытие, но продолжающей будоражить воображение. Различие состояло в том, что я бродила в поисках Минотавра (прямо сказать – предполагая неясное, запутанное самоубийство), Татьяна – искала акциденцию бессмертной любви.
В том что произошло с отцом, обе мы склонны были усматривать «отдаленные последствия» болезни, для которой еще не подобрали названия, хотя симптомы ее носят отчетливо выраженный суицидальный характер. Нечто вроде медленного самосожжения души. Этакий «фаустизм» – если использовать эвристическую мощь известного архетипа: обугливание сердца, отданного в дьявольский залог. Только на других условиях: выкуп-жизнь отбирается не тогда когда пытаешься остановить «прекрасное мгновенье», а коль скоро в ужасе отрекаешься от содеянного.
Немаловажное обстоятельство. (Эта мысль пришла мне при словах «осквернение алтаря», которые были произнесены Таней в разговоре.) Дьявол за эти полтора-два века так умело преобразил себя, так хитро сменил, как говорят, имидж, а попросту – замаскировался, что больше стал походить на некое восточное божество, идол, преспокойно дремлющий в тени алтаря и лишь иногда, подобно гоголевскому Вию, приподнимающий каменные веки, чтобы испепелить еретика. (Этот пустозвон Гегель наверно не представлял себе, до чего докатится его пресловутый «мировой дух» в своем безостановочном падении. Вот уж кого я не могла читать! Но судя по тому как быстро он водворился на свою полку, не могла его осилить и Таня. И подумать только! – как долго владели умами эти идиотские выдумки под названиями «диалектика», «закон тождества» и прочее, и прочее. Если «белое – это черное», то не менее справедливо, что «мир – это война», «свобода – это рабство», а «незнание – сила». Бедняга Оруэлл, похоже, его «прозрение» убило в нем способность бороться со своей болезнью.
Личное знакомство, которого мы обе ждали так давно и с таким нетерпением, состоялось – объективно его оценивая – в обстоятельствах благоприятных в том смысле, что они сделали невозможной дальнейшую игру «по правилам ревности». Ведь не будешь ставать на пути того, кто может помочь тебе в деле спасения близкого человека. При прочих равных условиях сила ревности пропорциональна незнанию; может быть, это одна из тех областей, где еще имеет право на существование тот парадокс о «незнании-силе». В подтверждение могу привести пример: когда образ, выстроенный моими догадками, неожиданно воплотился в рассказах Володи о «новом ординаторе», пришедшем в больницу под его начало, о его (ее) достоинствах «как специалиста и человека», и спустя какое-то время нам стало ясно, что она-то и есть папина возлюбленная (убедиться в этом оказалось нетрудно), – вот тогда я вдруг поняла, почувствовала: конкретный человек являет собой – в смысле ревности – причину менее настойчивую, чем некто без имени и лица. Пожалуй, впервые в замужестве у меня появился повод к ревности иного рода: Володины скупые похвалы в адрес «доктора Тани» вполне соответствовали бы восторженным дифирамбам человека другого склада; обычная сдержанность однако не могла скрыть от меня повышенного интереса, который он испытывал к этой женщине, и, как я убедилась теперь, далеко не без оснований. Не странно ли, что я не ощутила даже легкого укола! Я люблю мужа (и только это заставляет меня ввязаться в сомнительную «эмиграционную авантюру»), но ревновать? – нет уж, увольте. И в то же время я отнюдь не хочу сказать, что не способна к ревности – достаточно вспомнить, как я ревновала отца еще ребенком, подростком, кажется, я ревновала его даже к маме. Любопытно, не правда ли, что главная причина для ревности, обретшая теперь столь весомую убедительность, возымела действие прямо противоположное? Наверно так бывает всегда – любая опасность, до тех пор пока не ясно какова она и откуда может нагрянуть, представляет собой ношу неизмеримо более тяжкую, чем угроза явственная, нацеленная из уголка пространства-времени с точно известными координатами.
Итак, мы сидим друг против друга и, вероятно, испытываем схожие чувства: будто осыпается некая преграда, становится проницаемой; тепло и свет, исходящие от наших лиц, смешиваются в тишине, перемежаемой звуками произносимых слов, нечаянных движений, заоконной невнятицы.
– Осквернение алтаря, – говорит Татьяна, – всегда каралось жестоко. Если не смертью, то изгнанием. Отлучением. В наши дни этим занимаются психиатры – вам, должно быть, известно не хуже меня.
Разумеется, мне было известно. Знала я и другое: мера наказания повышается вместе с приближением осквернителя к вершине жреческой иерархии. А то и подбросят и найдут потом при обыске якобы хранимый наркотик, чтобы сделать обвинение абсолютно неуязвимым. Тогда церковному суду остается лишь выбирать между примитивной уголовщиной и уголовной родовитостью возможных статей – за утрату, разглашение, передачу и т. п. действия, произведенные с «документами, составляющими государственную тайну». Я в этом плохо разбираюсь, только знаю со слов адвоката, что отцом «утрачено» более тысячи листов «учтенной» бумаги. Он ее просто-напросто сжег.
Как бы следя за ходом моей мысли, Таня спрашивает:
– Зачем он это сделал?
Наивный вопрос. Как будто все что мы делаем укладывается в прокрустово ложе «зачем». Такой вопрос мог задать только человек, свято верящий в разум. Или в божественный промысел. Возможно, он предполагал в себе долю риторического отчаяния и, не будучи обращен ко мне, прозвучав этаким безадресным воплем сожаления, с восклицательным знаком на конце, был бы вполне уместен, – однако, судя по всему, она действительно подозревала в действиях отца продуманную цель, – так, часто кладя в основу мироздания телеологический принцип, мы задаемся, по моему мнению, вопросами совершенно неправомерными. С другой стороны, если вопрос такого сорта все же поставлен, то надо не мешкая разделить его на два, сведя опасный эмоциональный заряд к двум холодным, не зависимым друг от друга вопросам: «зачем?» и «почему?». Третьего, как известно, не дано, а эти два зачастую переплетаются так же тесно, как совмещаются в человек его «история» и «проект».
– Мы должны спросить – почему, – сказала я, – почему он это сделал?
– Наверно вы правы, – Татьяна помолчала, потом поднялась, подошла к окну. – Это похоже на жест отчаяния. Если и доискиваться до цели, то ею здесь может быть только одно – разрушение. Уничтожение самого себя. Осознание краха как причина и самоубийство как цель. Не каждому дано укрыться в безумии.
– Может быть, это, напротив, борьба с безумием?
Мое предположение осталось без ответа. Воцарилось молчание. За окном прогромыхала электричка. Таня вернулась на свое место в уголке дивана, села, попросила разрешения закурить. Я принесла из кухни пепельницу. Она сказала:
– Есть другие пути.
Я ждала продолжения. Что она имеет в виду? Другие пути в борьбе с безумием? Или намекает на мои – наши – планы относительно эмиграции? Вполне возможно, что она осведомлена о них. Я бы не удивилась, узнав, что у Володи с ней доверительные отношения. Красивая женщина как никто другой располагает к доверительности. Но это всегда остается тайной двоих.
– Я хочу сказать, – продолжает Таня, – самоубийство – цель недостойная. Полное поражение. Бесчестная уловка во избежание ответственности. С позиций чести безумие куда более респектабельней. Вот почему я предпочла бы его. Может, я просто начиталась книг.
– Мы с вами читали одни и те же книги, – сказала я.
Она посмотрела на меня с интересом.
– Неужели?
Я объяснила.
– Тогда вы должны понять меня.
Я сказала, что вполне ее понимаю. Если только не помнить, что многие понятия, почерпнутые в книгах, не прививаются в жизни. Особенно когда жизнь становится невыносимой. Когда смерть неограниченно расширяет свои права, посягая на права человека. И что-то еще добавила в том смысле, что руководствоваться понятием чести не менее трудно, чем писать стихи после Освенцима. Кажется, я вычитала насчет стихов у Адорно.
– Он никогда не рассказывал мне о своей жене – вашей матери. Я знаю – он любил ее. Однажды я спросила, и он сказал: да. И больше ничего. Известно, чужая душа – потемки, но, бывает, во тьме проглядывает силуэт тайны, отчего становится не по себе, как если бы увидел настоящее привидение. Перед отъездом в отпуск он оставил видеопленку. На ней записано… записан тот несчастный случай. Та ужасная катастрофа, где она… вы понимаете, о чем я?
Еще бы! Я знала о том, что где-то, кем-то в тайниках «режима» ведутся поиски той злосчастной записи – видео или кинопленки, на которой запечатлена, выражаясь их птичьим языком, «нештатная ситуация», – всего лишь очередная, сказал отец, в ряду таковых, – даром что в переводе чаще всего означает смерть. Или по меньшей мере – смертельную опасность, угрозу, – не только участникам «пуска», но и – в потенции – всему человечеству. Он сказал тогда, что предпримет «независимое расследование»; причины катастрофы так и остались невыясненными, дело, как водится, закрыли, списав десятки жизней по графе «нарушение технологии предстартового обслуживания». Я плохо представляю, что такое «независимое расследование», и как оно в данном случае могло проводиться, только, помню, большие надежды отец возлагал на эту запись, – его друг Салгир обещал раздобыть ее «через своих людей». Но я могу представить себе тот огненный ад (вряд ли мне достанет решимости взглянуть ему «в глаза»), я никогда не страдала от недостатка воображения.
– Вы это видели?
Татьяна молча кивнула. Конечно, ведь она тоже, вероятно, чувствует себя участницей «расследования», мы все что-то расследуем, но редко делаем правильные выводы.
– Мы должны объединить свои усилия, – говорит Таня, – это очень важно.
Что – важно? Найти причину? Наказать виновных? Ни того, ни другого сделать уже нельзя. Тогда – что же?
– Мы должны вытащить его оттуда. У меня есть план.
Для деятельных натур не существует препятствий. Передо мной была олицетворенная деятельность. «План» выглядел блестящим экспромтом, он заключал в себе детали на первый взгляд абсолютно фантастические и в то же время был сцементирован неумолимой логикой. С одним «но»: в нем правила – с моей точки зрения абсурдная – логика свободного человека. Что это за таинственное чувство – чувство свободы? К сожалению, мне незнакомое. Не вырастает ли оно из умения с легкостью сделать выбор? Мучительность выбора – чувство прямо противоположное – вот, я бы сказала, квинтэссенция нашего бытия. Ощущение несвободы – во всем, даже в выборе губной помады, покроя платья или (проблема из проблем!) подходящего места жительства. Свобода – это льстивое обещание и угроза в одном лице. Чаще – угроза. Я спросила:
– Что требуется от меня?
Первый шаг по направлению к застенку. Было ясно – мы и без того стали «невыездными». Выбора, в сущности, не оставалось. Я вдруг почувствовала странное облегчение – так, вероятно, бывает, если кто-то берет на себя ответственность за твои собственные поступки. Всякое коллективное действо хорошо тем, что освобождает от необходимости выбора. Невидимый режиссер будто прочитывает пьесу, прозревая характеры и сценическое воплощение, и если материал не отвечает его темпераменту, ищет способов заострения – один и самый очевидный содержится в рецепте «подбавить насилия». Воображение драматурга и режиссера в данном случае выступивших в одном лице, питалось, похоже, именно этим советом. Предложенный моему вниманию «план» с точки зрения здравого смысла был нереален, как нереально все добываемое насилием. Но ведь и рассуждать о здравом смысле, сидя на пороховой бочке и небрежно смахивая пепел с дымящейся сигареты, тоже не приходилось. Один из древнейших драматических эффектов – «театр в театре» – будучи использован в пьесе абсурда, потребовал бы сумасшедшей Гекубы.
На мой взгляд, достоинство «плана» – и, возможно, единственное, – состояло в его несомненной абсурдности. Я смотрела на Таню и думала: если она верит в его осуществимость, то и мне не остается ничего кроме как поверить в нее. Во всяком случае, решающим в достижении успеха постановки всегда является действие, а в нем тут не было недостатка. Кто знает, может быть только так и можно добиться победы – взрывая абсурд еще большим абсурдом, чтобы в результате их аннигиляции родилось нечто здоровое, поддающееся логике по-детски прямолинейных истолкований. Я не могла не выразить восхищения первой частью: совершить бракосочетание в следственном изоляторе, – наша «великая держава» просто в недоумении разинет рот и, чего доброго, от растерянности, как говорится, «пропустит мяч в свои ворота». И тут, в сущности, не содержалось ничего невероятного. Но то, что должно было последовать дальше, напоминало один из тех кинобоевиков, где герой-одиночка выступает против могущественной мафии, в отчаянии пытаясь насилием сломить насилие. Известно чем это кончается в кино. А ведь оно как-никак отражает некоторую действительность, Нет, вторая часть «плана» мне определенно не нравилась. Не то чтобы я брезговала шантажом как методом, в известной методологии он ничем не хуже других. Но шантажировать Государство! – моя фантазия не простиралась так далеко. Мощь государства казалась мне бесконечной, невообразимой; такой она и была. Чему сотни примеров. Все эти, по выражению отца, «диссидентские штучки» заведомо обречены на провал. Есть только один путь – воспользоваться лазейкой, доступной по небрежности или с умыслом («выпустить пары»? ) и бежать без оглядки. Совет, однако, не для всех подходящий. А теперь и для нас.
Она права: в лабиринте есть только один путь – вперед. Как бы долог он ни был, надежда не угасает, за поворотом всегда может оказаться выход, и потому разумнее всего – идти по возможности быстро. И что такое наша жизнь как не лабиринт, где изо дня в день мы без устали ищем выхода к своему «проекту»? Сущность человека не в том, что он «есть», а то, чем «он хочет стать». Имагинативный абсолют! – единственный бог, прядущий нити нашей судьбы. Вот почему так страшно лишение свободы: человек перестает быть человеком, и лишь один «проект» подчиняет себе ум и сердце – освободиться, возродиться в человеческом облике. Тюрьма как древнейший способ расчеловечивания внушала мне суеверный ужас. Я не могла представить себя в тюрьме. Мне кажется, я бы немедленно умерла. Или сошла с ума. Если жизнь – это относительная свобода, свобода лабиринта, то смерть – абсолютная несвобода. Вот почему в тюрьмах, лагерях и казармах так часты самоубийства. Я была далека от мысли, что отец может что-то сделать с собой, но Татьяна сказала: да, мы должны спешить. Тогда и мне случилось припомнить его участившиеся в последнее время депрессии, когда он днями лежал в своей комнате, запершись, и даже по воскресеньям не выходил к столу. Ширмой, которая отгораживала его от нас подобием благопристойности, служило «лечебное голодание». В том, что он голодал, сомневаться не приходилось, да и повод – его «избыточный вес» – вполне укладывался в рамках разумного; но мы-то знали, каждый по отдельности: причина в другом, – и каждый в меру своего воображения достраивал картину до целого. Мы никогда не обсуждали вопрос о папином здоровье – ведь он ни на что не жаловался. Я лишь таила страх, «подпитываясь» при каждом его очередном приступе: моя «картинка» как бы наперед отражала исход сомнительного лечения. То, что произошло потом, лишь подтвердило мой «неблагоприятный прогноз».
Я спросила Таню: знала ли она? Да, конечно знала. Но ведь можно знать о явлениях, ничего не ведая о причинах. Она все истолковывала по-своему: любовь часто искажает картину, выдвигая на первый план детали второстепенные, раскрашивая их в яркие, слепящие глаз тона, в то время как истина укрывается за ними, утаивается в серой дымке общего фона. Десять лет она пыталась постичь некую тайну, руководствуясь чувствами обманутости, досады, которые охватывали ее всякий раз как он снова и снова уходил – к семье, к прошлому, к работе. Она назвала это позже – «в свою историю». (Кто-то сказал, что мы переживаем конец истории. Какая глупость! – все равно что сказать: мы переживаем конец жизни.) Он уходил в свою жизнь, которой упорно мешало что-то соединиться с ее жизнью, и вот это «что-то» она тщетно пыталась найти, чтобы назвать (ибо неназванное – не существует), а потом еще и найти средства приручить его, потому что его нельзя убить: будучи названо, оно станет бессмертным. Нет ничего проще, как отвернуться лицом к стене и бросить бесстрастно глотающему звуки очевидцу-ковру: «Я беременна», – и покорно ждать милости (или гнева?) друга-врага, балансируя в страхе от неустойчивости обретенного равновесия, – нет ничего проще, говорит она (так она в итоге и поступила), но это значит – признать поражение. Кажется, ей повезло. Признав поражение, она вплотную приблизилась к победе и теперь не намерена отступать, и «доведет дело до конца», чего бы это ни стоило. («До конца нашей истории»).
Свидание разрешили.