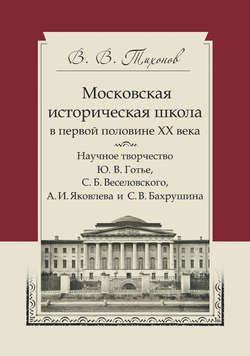Читать книгу Московская историческая школа в первой половине XX века. Научное творчество Ю. В. Готье, С. Б. Веселовского, А. И. Яковлева и С. В. Бахрушина - Виталий Тихонов - Страница 4
Часть I
Дореволюционный период
Глава 1
Теоретико-методологические и историографические основы исследования
2. Московская историческая школа
ОглавлениеМосковской исторической школе, которую чаще принято называть «школой Ключевского», посвящено значительное количество литературы. Центральной проблемой, возникающей в связи с изучением сообщества московских историков, является вопрос онтологического статуса школы. Такие проблемы, как соотношение Московской и Петербургской школ, вопрос лидера школы, ее институциональных основ и т. д., продолжают остро интересовать исследователей. В целом каждая из этих проблем заслуживает отдельного исследования. Но стоит зафиксировать характерные черты Московской школы, присущие, в первую очередь, ее старшему поколению.
Московская историческая школа второй половины XIX – начала XX в. сформировалась под непосредственным влиянием научного наследия С.М. Соловьева и в особенности В.О. Ключевского[9]. В значительной степени исследовательский почерк московских историков-русистов определил и специалист по всемирной истории П.Г. Виноградов. Если у С.М. Соловьева и В.О. Ключевского были позаимствованы схема русского исторического процесса и категориальных строй, то на семинарских занятиях у П.Г. Виноградова будущие историки учились технике научного исследования и работе с источниками. Учитывая то, что у представителей этой школы, по сути, было несколько учителей, с нашей точки зрения, точнее говорить не о «школе Ключевского», а о «Московской исторической школе». Более того, изучение жизни и деятельности некоторых историков, не являвшихся непосредственными учениками Ключевского, но воспринявших его концепцию и методы исследования[10], свидетельствует о том, что школа была шире непосредственного круга учеников мэтра. По мнению А.С. Попова, подобный подход обладает «меньшей определенностью», чем термин «школа Ключевского», «а следовательно, легитимностью»[11]. Но тогда точка зрения Попова неоправданно сужает и не отражает всей широты проблемы, не позволяет адекватно отразить существовавшие реалии. Очевидно, что не только Ключевский, который был идейным лидером школы, воспитывал научное мировоззрение историков-русистов Московского университета. Поэтому предметом исследования в данной работе будет именно Московская историческая школа, а термины «школа Ключевского», «ученики Ключевского» или «московские историки» будут использоваться как синонимы этой категории.
Московская историческая школа и ее лидеры-основатели привнесли в отечественную историографию ряд новшеств. В первую очередь необходимо говорить о новаторском для своего времени подходе к изучению отечественной истории, который только наметил С.М. Соловьев и окончательно оформил, модернизировал и закрепил в науке В.О. Ключевский.
Он заключался в переходе от анализа эволюции государства через призму законодательных памятников, характерного для государственной школы, к многоаспектному изучению прошлого с упором на социально-экономические проблемы. Основной категорией такого анализа становится понятие «класс», которое у Ключевского отождествляется с общественными группами, выделяемыми как по экономическим критериям, так и по их социально-юридическому статусу. В этом проявилась позитивистская направленность методологии Ключевского, заключающаяся в том, что экономический и юридический факторы рассматривались как равновеликие. Изучение истории общества и государственных институтов с точки зрения их классовой составляющей стало неотъемлемой частью того подхода, который был свойственен ученикам Ключевского. Достаточно быстро данный ракурс исследования стал общепризнанным в российской исторической науке. Интерес к социальным вопросам и влияние позитивизма привели Ключевского к провозглашению нового направления – «исторической социологии», целью которой было «изучение строения общества, организации людских союзов, развития и отправлений их отдельных органов…»[12]. Кроме того, стоит отметить интерес московских историков к проблемам истории налогообложения и финансов. С точки зрения А.С. Попова, В. Ключевский и его ученики в своих исследованиях провели синтез истории и социологии[13]. Данное утверждение представляется несколько преувеличенным, поскольку многие представители Московской школы (например, М.М. Богословский и А.А. Кизеветтер) скептически относились к объединению этих двух дисциплин. Тем не менее стоит повторить расхожее мнение, что московским историкам был свойственен интерес к социальной тематике и стремление концептуализировать полученные фактические данные, создать широкие исторические обобщения, что не совпадало со стремлением их петербургских коллег к скрупулезному анализу, в первую очередь, фактической стороны исторического процесса[14]. Исследователь Петербургской исторической школы Е.А. Ростовцев справедливо отметил «идеографический характер» исторических исследований петербургских историков[15].
Другой категорией, ставшей важным инструментом исследования для историков Московской школы, была «колонизация». Ключевский вслед за Соловьевым, как известно, называл Россию колонизирующейся страной. В своей исторической концепции он сделал акцент на этом тезисе, рассматривая русскую историю во многом как следствие колонизационных процессов. История колонизации – одна из самых устойчивых тем для учеников В. Ключевского. Изучение отечественной истории через призму этих категорий было важнейшим признаком Московской исторической школы.
Отличительной чертой московских исследователей была последовательность в выборе тем исследования. Диссертации учеников Ключевского, как правило, были продолжением работ их предшественников. На примере старшего поколения московских историков это прекрасно показал А.Н. Шаханов[16]. На этом фоне несколько странно выглядит его же утверждение, что «тематика исследований в Москве и Петербурге в 1880–1910-е гг. определялась прежде всего текущими задачами российской науки, одинаково понимаемыми в обоих университетских центрах»[17]. То, что историки обоих университетов чутко улавливали потребности развития исторической науки, не вызывает сомнений, но при этом в Московской школе тематическая последовательность была взята за правило. И чем дальше, тем данная тенденция становилась очевиднее. Так, работа Ю.В. Готье о Замосковном крае[18] была продолжением диссертации Н.А. Рожкова о сельском хозяйстве XVI в.[19] Докторская диссертация того же Готье[20], посвященная областным учреждениям от Петра до Екатерины II, как бы ложилась в хронологическом смысле между диссертациями М.М. Богословского об областной реформе Петра I[21] и работой А.А. Кизеветтера об административных реформах Екатерины[22]. Фундаментальная монография С.Б. Веселовского о сошном письме[23] была одновременно и продолжением, и спором с Готье. Магистерская[24] и докторская[25] диссертации А.И. Яковлева также тематически были дополнением работ Готье и Веселовского[26]. И таких примеров более чем достаточно, в то время как петербургские историки отличались достаточно произвольным выбором тем для исследований. Тут можно найти работы, посвященные древнейшим периодам и XVIII в., при этом никак не связанные между собой. Таким образом, можно сделать вывод, что в выборе тематики в среде историков Московской школы огромное значение играл имманентный фактор, что придавало школе значительно бо́льшую целостность, нежели это было присуще петербургским историкам. Не случайно среди специалистов по петербургской исторической науке принято говорить о «полицентризме» Петербургской исторической школы, существовании в ней нескольких «центров притяжения» в лице Платонова и Лаппо-Данилевского[27].
В отличие от Петербургской в Московской школе вспомогательные исторические дисциплины, включая источниковедение, никогда не рассматривались как самостоятельные научно-исторические дисциплины и играли дополняющую роль к конкретно-историческом исследовании. В то же время в Петербурге теоретическое источниковедение развивалось в трудах К.Н. Бестужева-Рюмина, С.Ф. Платонова, А.Е. Преснякова и А.С. Лаппо-Данилевского как самостоятельное направление исследований. Отсюда вытекал и приоритет в изучении прошлого: петербургские историки концентрировались на фактическом анализе, в то время как москвичам был свойственен более концептуальный взгляд на проблемы.
Важным отличием московского научного сообщества от петербургского был и тот факт, что его представители (здесь вновь стоит подчеркнуть: старшего поколения) не занимались публикацией исторических источников, что имело систематический характер в среде петербургских историков. Специально анализировавший эту проблему С.В. Чирков считает, что московским историкам была свойственна «археография для себя»[28]. То есть, несмотря на активную архивную работу при подготовке диссертационных исследований, они никогда не стремились обнародовать те архивные богатства, которые ими были выявлены и изучены.
Исторические взгляды тесно переплетаются с социально-политическими предпочтениями, образуя тесную мировоззренческую связь. Научное творчество представителей Московской школы проходило в сложных условиях начала XX в., когда царская власть переживала кризис, а гражданское общество только начинало формироваться. Историки объективно, независимо от собственного желания, оказались в центре стремительно меняющихся событий.
Отечественные историки неоднозначно относились к вопросу об участии ученых в политической жизни страны. Пожалуй, лишь П.Н. Милюков открыто рассуждал о тесной взаимосвязи между исторической наукой и политикой. Он считал, что политика – это искусство, но искусство, связанное с решением общественных проблем, поэтому политик нуждается в научном знании для успешной деятельности. Милюков затруднялся провести ту черту, которая разделяла бы научно-историческое знание и политику. Он писал: «Дело в том, что в данном случае познающий и действующий субъекты стоят так близко друг к другу, так часто совмещаются в одном лице, что смешение научной и практической точки зрения становится самым обыкновенным случаем»[29]. Автор этих строк сам являлся ярким примером совмещения в одном лице историка и политика.
Московские историки отличались активностью на социально-политическом поприще, большинство из них придерживалось либеральных взглядов. «Университет – не монастырь кабинетных отшельников, но живой орган культурного процесса», – утверждал А.А. Кизеветтер. В подтверждение этих слов многие московские историки принимали деятельное участие в общественной жизни страны. Зачастую их политические и исторические взгляды теснейшим образом переплетались. Между актуальными общественными задачами и проблематикой исследований существовала прямая связь. Легко заметить в работах историков повышенный интерес к проблемам реформирования российского государства, местному самоуправлению, общественным движениям. Придерживаясь представлений о схожести исторического пути России и Европы, большинство историков считало, что Российская империя неизбежно перейдет к тем же формам общественного устройства, что и западноевропейские страны, совершит переход от абсолютной монархии к правовому государству.
Петербургские историки, как представители столичного университета, занимали более академичную позицию, стремясь избежать открытого конфликта с властью. Показательным является случай, произошедший с А.С. Лаппо-Данилевским. В 1908/1909 учебном году во время студенческой забастовки преподаватель, придя на занятия, обнаружил в аудитории всего несколько человек. Тогда он решил не читать лекцию, а предложил обменяться мнениями о происходящем. Сам историк высказался в том смысле, что проведение забастовки в университете недопустимо, потому что это храм науки, а не арена для политических баталий[30]. Такой же позиции придерживалось подавляющее большинство петербургских историков-профессионалов. Любопытно отметить, что, по мнению Е.А. Ростовцева, общественно-политическая атмосфера, царившая в двух университетах, повлияла и на стиль исторических исследований. Так, более свободная и политически активная позиция способствовала стремлению к концептуальному осмыслению в Московском университете, в то время как постоянный правительственный контроль в Санкт-Петербурге толкал к более деидеологизированной научно-критической работе с историческими источниками[31].
Важнейшим критерием разделения научных сообществ является их самосознание. По меткому замечанию А.Н. Шаханова: «Для представителей научной школы характерна субъективная убежденность в обладании ими истинным знанием и осознанием принадлежности к особой исследовательской или педагогической корпорации»[32]. Таким образом, самосознание также является критерием выделения научного сообщества. В случае Московской и Петербургской исторических школ можно указать и на традиционное противостояние двух российских столиц. Поскольку данной проблеме практически не уделялось внимания, стоит на ней остановиться подробнее.
Дихотомия «Москва – Петербург» является устойчивым феноменом русской культуры. Развиваясь во времени и модифицируясь, она, тем не менее, оставалась одним из главных источников формирования культурных мифов и стереотипов. В культурной мифологии XVIII–XIX вв. Петербург представлялся символом европейского пути России, ее приобщения к европейским ценностям. Москва же ассоциировалась с допетровской Русью и рассматривалась как оплот «азиатчины» и косности. К концу XIX в. бытовые и культурные различия между городами из-за ускоренной урбанизации существенно сгладились. Но на смену одним мифам пришли другие. Петербург стали рассматривать как столицу имперской бюрократии, тогда как Москва позиционировалась как город бурного самоорганизующегося общественного движения.
Противопоставление Москвы и Петербурга не могло не отразиться на историках обеих столиц. Все они воспитывались в определенной культурной среде, которая формировала их мировоззрение. По замечанию И.С. Розенталя: «Городская среда той и другой столицы формировалась как единство материальных условий жизни и особой культурно-психологической атмосферы, а мифология находилась в сложном соотношении с рациональными элементами сознания»[33]. Эта среда являлась питательным источником различных стереотипов, от которых трудно было отделаться даже столь высокообразованным людям, которыми, без сомнения, являлись выпускники Московского и Санкт-Петербургского университетов.
Современные исследователи в области историографии при попытке выявить различия между Московской и Петербургской историческими школами в первую очередь делают упор на изучении различий в методологии и методике исторического исследования. Но те различия, которые, безусловно, присутствовали, не объясняют того устойчивого разграничения между московскими и петербургскими историками, которое отчетливо прослеживается в научной среде России конца XIX – начала XX в. Думается, что при объяснении феномена противостояния Московской и Петербургской школ весьма плодотворно будет применение культурологического подхода.
Впервые на культурно-психологические предпосылки появления Московской и Петербургской школ обратил внимание С.Н. Валк. В обширной статье, посвященной 125-летию Петербургского (Ленинградского) университета, он заметил: «История каждого из русских университетов теснейшим образом связана не только с историей общих судеб русского просвещения, но и с теми особыми и местными условиями, в которых жил и развивался каждый из университетов»[34]. Из современных исследователей на культурно-психологический аспект при рассмотрении специфики петербургской школы указывает С.В. Чирков: «Однако при всех различиях между собой «малых» школ [имеется в виду «школа Платонова» и «школа Лаппо-Данилевского». – В.Т.] их объединяло общее противопоставление петербургской школы московской исторической школе. Здесь наглядно выступает наибольшая актуальность при формировании самосознания научной школы антиномии отчетливо социально-психологического порядка: „мы и они“. Такое противопоставление Б.Ф. Поршнев считал основой самосознания этноса, но ведь научная школа тоже „культурная общность“»[35]. К сожалению, ни С.Н. Валк, ни С.В. Чирков не развили эти интересные и плодотворные мысли, не насытили их конкретно-историческим материалом. Между тем, мы находим достаточно много фактов, позволяющих трактовать данный вопрос в том числе и как культурную проблему.
Культурные мифы, к которым, без сомнения, относится и дихотомия «Москва – Петербург», являются важным компонентом формирования социальных групп, построенных на четком разделении «своих» и «чужих». Можно предположить, что во многом именно на противопоставлении столиц основывался антагонизм Московской и Петербургской исторических школ.
Московские историки, вобравшие в себя научные идеи своих учителей, вместе с тем были воспитаны в атмосфере противопоставления университетов обеих столиц. Старший представитель поколения московских историков второй половины XIX – начала XX в., П.Н. Милюков, будучи в эмиграции, в своих мемуарах писал следующие строки: «По-прежнему университет, журнал, газета, наука занимали в Москве то первое место, которое в Петербурге принадлежало дворным, сановным и военным кругам. Это, так сказать, самодавление Москвы создавало больше уверенности в себе, больше душевного равновесия и спокойствия в среде интеллигенции, чем в вечно тревожном и нервном, вечно куда-то спешащем Петербурге»[36]. В другой работе, посвященной сравнению петербургского историка С.Ф. Платонова и московского историка А.А. Кизеветтера, есть похожие мысли: «Петербург официален, Москва вольнолюбива. Петербуржец – формалист, москвич всегда склонен доискиваться причин и „смотреть“ в корень. В Москве хоть отбавляй оригинальности: она выдумывает, не боясь грешить отсебятиной. Петербург осторожен насчет выдумки, зато раз продуманное он мастер приводить в порядок»[37].
Таким образом, П.Н. Милюков отчетливо проводит разграничительную линию между Москвой и Петербургом. С его точки зрения, московский социум строится на неформальных общественных началах, где преобладает самоорганизация. Если Москва – культурная столица, то Санкт-Петербург – административный центр империи. П.Н. Милюков подчеркивает, что отличительной чертой москвичей является самостоятельность мышления, способность к глубокому анализу, в то время как петербуржцы склонны к систематизации, опасаются выдвигать смелые идеи. Московские интеллектуалы, по мысли П.Н. Милюкова, более независимы в отношениях с властью, в то время как петербургские научные круги склонны к компромиссу с «дворным, сановным и военным кругами».
В указанных строках П.Н. Милюков выказал то отношение к петербуржцам, которое бытовало в московском интеллектуальном сообществе. Очевидно, что данные высказывания относились и к петербургским историкам, с которыми, кстати, у П.Н. Милюкова сложились вполне хорошие отношения. Причем эти колкие замечания в адрес столицы Российской империи в неформальных беседах были, очевидно, более резкими. В письме к матери тогда еще начинающего историка-петербуржца А.Е. Преснякова, который приехал в Москву для работы в архивах летом 1892 г. и по рекомендации С.Ф. Платонова посетил П.Н. Милюкова, мы находим описание следующего эпизода: «Милюков принял меня очень радушно… У него я встретил еще каких-то причастных к науке субъектов – и про всех можно сказать, что действительно от головы до пяток есть московский отпечаток. Мне как-то сразу стали понятны слова Платонова, что в Москве люди себе цену знают. Сразу поразил какой-то твердый решительный и, пожалуй, даже слишком самоуверенный тон, не избегающий резких выражений и, в частности, довольно-таки пренебрежительное отношение к Петербургскому университету»[38].
В письме к своей жене Пресняков еще в более резких тонах описывает произошедшее: «Москва все та же, старая и грязная Москва, и люди все такие же, довольные своими уголками, самоуверенные. Если бы Вы слышали, как пренебрежительно третируют здешние доценты наш Петербургский университет. Один даже сказал что-то вроде того, что интересно было бы сосчитать, сколько идиотов (?!) между петербургскими профессорами. Хороши мальчики, нечего сказать. Можно подумать, что они сами-то великие люди»[39].
В приведенных выше цитатах наглядно видны различия в менталитете. Если Милюков с гордостью подчеркивает «оригинальность» москвичей, то Преснякову это кажется самоуверенностью. Причем Пресняков указывает на это как на характерную черту («от головы до пяток есть московский отпечаток»). Задело Преснякова и пренебрежение к его родному университету. Ценно указание на предостережение С.Ф. Платонова, который готовил своего ученика к столкновению с людьми, которые «себе цену знают». Таким образом, можно констатировать, что в петербургской научно-исторической среде сложилось стойкое представление о москвичах как заносчивых и резких людях. Тем не менее Пресняков отмечает, что в этой браваде есть и положительные стороны: «А все-таки хорошо, что люди так бодро на вещи смотрят, как здешние, и что себе цену знают, хотя бы и преувеличивают ее»[40].
Справедливости ради нужно указать, что в письме другого петербургского историка, С.В. Рождественского, впечатление о московских профессиональных историках совсем иное. «В двухчасовой беседе, посвященной московским и петербургским злобам дня, ничего обидного для петербургского самолюбия выслушать мне не пришлось»[41], – писал Рождественский. Впрочем, как утверждают авторы статьи: «Значимым для Рождественского является взгляд москвичей на петербургских историков, его ухо улавливает малейшие нюансы таких оценок, и практически каждое его письмо содержит такую информацию»[42]. Это указывает на то, что Рождественский был изначально готов к разного рода колкостям со стороны москвичей, поэтому он и отмечает тот факт, что их не было.
Если петербуржцы считали москвичей слишком самоуверенными, то мнение о Петербурге как столице чиновников и придворных, где невозможно свободное научное творчество, было весьма распространено в московских кругах. С.В. Веселовский, которому долгое время не давали преподавать в Московском университете, после того как возникла возможность получить научное звание в Санкт-Петербурге и начать там свою педагогическую карьеру, отказался от этого предложения. В своем дневнике он следующим образом объяснил это решение: «Мне представляется, что в П[етербурге] меньше оригинальных людей и независимых характеров, чем в Москве, но средний уровень культуры много выше московского. Нельзя же считать научной средой чиновников от науки, группирующихся около университета, курсов и т. д.»[43]. Он написал это в 1916 г.
В 1918 г., в эпоху тотальной ломки привычного мира, уже другой московский историк, Ю.В. Готье, рассуждал в том же направлении. Категорический противник большевиков, он считал, что стремление петербургских историков сотрудничать с новыми властями есть проявление их менталитета, сформированного близостью научного сообщества в Петербурге к власти вообще. «Несколько раз пришлось видеться с петербургскими историками Пресняковым и Полиевктовым. Раньше это не осознавалось, но теперь, при обострении жизни, как все-таки ясно чувствуется разница в психологии Петербурга и Москвы. Они легче приспосабливаются к Р.С.Ф.С.Р. и оптимистичнее смотрят на настоящее, чем мы – трудно это сразу объяснить: не то наследие питерской бюрократии, не то налет эсеровщины, уживающийся с тем же бюрократическим духом бывшей столицы»[44].
Поразительно как представление Веселовского и Готье о Петербурге и петербургских историках совпадает с записями Милюкова. Очевидно, что это указывает на общий стереотип, существовавший у московских историков.
Вообще московские историки ревностно относились к проникновению в свою среду чужаков, представителей других университетов. Характерную позицию занимал М. М. Богословский. После того как в 1911 г., в знак протеста против вмешательства министра народного просвещения Л.А. Кассо в университетскую автономию многие университетские преподаватели подали в отставку, а А.А. Кизеветтер отказался занять кафедру русской истории, Богословский принял предложение возглавить историко-филологический факультет, мотивируя это тем, что иначе наследие В.О. Ключевского достанется М.В. Довнар-Запольскому, выходцу из Киевского университета. Похожие настроения наблюдались и у М.К. Любавского. «Любавский очень осторожно относится к появлению в Москве беглецов из чужого университета»[45], – отмечал А.Е. Пресняков.
В этом смысле иная позиция была присуща петербургскому научному сообществу. Там традиционно находили пристанище представители различных университетских центров. Достаточно вспомнить К.Н. Бестужева-Рюмина и Н.И. Кареева, окончивших Московский университет, а также Н.И. Костомарова, воспитанника Харьковского университета. Все это привело к относительной аморфности Петербургской исторической школы.
Среди петербургских историков наиболее обстоятельные рассуждения о Москве и Петербурге и научно-исторических сообществах обеих столиц как культурных противоположностях мы находим у А.Е. Преснякова. Он не был коренным петербуржцем, но долгое время прожил в столице, учился в местном университете. Как специалисту по допетровской Руси ему было необходимо ездить в Москву, чтобы работать в архивах, где он часто сталкивался и с московскими историками. В своих письмах он фиксировал многие впечатления от знакомства со второй столицей.
Первое знакомство с майской Москвой 1892 г., которое мы находим у Преснякова, имеет весьма негативный оттенок: «Идя по Москве, я был действительно поражен видом белокаменной: грязь потрясающая. Кажется, в этой белокаменной белено только было, что мой китель»[46]. Но первое негативное впечатление вскоре сменилось симпатией к своеобразному колориту Москвы: «Делать нечего, и теряешь много времени. Трачу я его на хождение по Москве, которая все больше и больше нравится мне своей характерной физиономией и оживленностью. Я вполне понимаю, как скучен Петербург для москвичей, как бесцветна и скучна петербургская толпа сравнительно с здешней»[47]. Именно разнообразие и неформальность социокультурного мира Москвы начинают привлекать автора процитированных строк. Люди здесь кажутся более раскрепощенными и оригинальными: «Вообще в Москве, кажется, не переводятся живые люди»[48]. В противоположность грязной, но колоритной и неоднообразной Москве, Петербург уже представляется историку скучным: «В общем, Петербург такой же скучный и скверный, как всегда, несмотря на хорошую погоду»[49].
Пресняков во многом был согласен со своими московскими коллегами в оценке петербургской атмосферы. В письме матери от 4 марта 1894 г. находим следующие рассуждения: «Миклишевский, очень симпатичный и знающий человек, – без места. Его, впрочем, вызвали в министерство, поручили какое-то дело и, верно, оставят его здесь, хотя ему очень тяжело расставаться с Москвой. Сильно не по душе ему наша питерская атмосфера, и я вполне разделяю его мнение»[50].
Преснякова не устраивала соглашательская позиция по отношению к властям, которая была традиционно присуща представителям Петербургского университета. Комментируя события 1894 г., когда 42 московских профессора во главе с А.А. Остроумовым подали петицию с прошением о смягчении участи высланных из Москвы после волнений студентов, он пишет: «Молодцы москвичи, у нас ничего подобного быть не может»[51]. С годами симпатия и любовь к Москве только росли. Пресняков начал все больше ценить ее неповторимую «провинциальность». «А воздух чистый, свежий. Так хорошо дышится после города. И сама Москва не производит на меня такого „городского“ впечатления, как Петербург. Как-то тут свободнее, проще… И люди московские – другие, в трамваях, на улице… Спокойные, веселые, никуда не торопятся, не суетятся». Но при этом историк отмечал и разительные перемены, происходящие с Москвой: «А вместе с тем Москва растет, меняется, пожалуй, больше, чем Петербург… Правду говорят, „что город, то норов“»[52].
В 1909 г., в письме к жене, Пресняков признается, что Москва ему нравится больше, чем Санкт-Петербург. «Право, помимо пристрастия, хороший город. Гораздо шире, красивее Петербурга. Я рассказывал тебе, что тут и магазины много эффектнее, и как-то все крепче и свободнее. Очень бы хотел тебе Москву показать. И как-то боязно, что тебе моя милая Москва совсем не понравится. Ведь она довольно неряшливая и во многом все-таки купчиха. Не то, что элегантная, бойкая Варшава. Но по-своему она мне гораздо больше нравится. Тут мне, вероятно, и жилось бы хорошо, шире и свободнее, чем в Петербурге. Тут в жизни больше энергии и меньше суеты»[53]. Примечательно замечание автора о том, что в Москве «больше энергии и меньше суеты». Как это разительно отличается от мнения петербуржцев первой половины XIX в., которые считали Москву патриархальным и нединамичным городом, столицей дворянского гедонизма[54]. На смену праздному московскому дворянству пришла деловитая буржуазия.
Итак, отношение Преснякова к Москве было более чем положительным. Но, несмотря на искреннюю любовь к Москве и симпатию к московскому менталитету, именно Пресняков сформулировал тезис об особом статусе Петербургской исторической школы, во многом отличной от московской. На защите докторской диссертации «Образование Великорусского государства» в 1918 г. он произнес речь, в которой разделил Московскую школу, как школу, основанную на отвлеченном теоретизировании, и петербургскую, где господствует власть факта. «Я определил бы ее [петербургской школы. – В.Т.] характерную черту как научный реализм, сказывающийся, прежде всего, в конкретном, непосредственном отношении к источнику и факту, вне зависимости от историографической традиции»[55].
Здесь Пресняков как бы поставил с ног на голову тезис Милюкова: «В Москве хоть отбавляй оригинальности: она выдумывает, не боясь грешить отсебятиной. Петербург осторожен насчет выдумки, зато раз продуманное он мастер приводить в порядок». Если Милюков видел превосходство Москвы именно в смелости мысли, то теперь Пресняков усмотрел преимущество Петербургской школы в осторожности и обстоятельности, отказе от априорного теоретизирования.
Итак, из приведенного выше видно, что противостояние, которое было характерно для исторических школ в конце XIX – начале XX в., во многом основывалось на культурных стереотипах (которые нередко вполне могли совпадать с реальностью). Петербуржец – формалист, следовательно, и петербургский историк в первую очередь будет заниматься не осмыслением полученных исторических фактов, а их проверкой и первичной систематизацией. Москвич же – «оригинал», он предрасположен к осмыслению истории, к анализу первопричин и созданию смелых концепций.
Из изложенного материала можно сделать вывод, что различия между двумя научными сообществами скрывались не только в научном творчестве, но и в менталитете, сформированном культурной средой Москвы и Петербурга. Дихотомия «Москва – Петербург» наслаивалась на взаимоотношения научно-исторических сообществ обеих столиц, создавая предпосылки для разграничения «своих» и «чужих», формировала фон для рефлексии об особенностях двух научно-исторических сообществ.
9
Известный специалист в области истории исторической науки М.Г. Вандалковская даже считает необходимым говорить о «школе Соловьева-Ключевского»: Вандалковская М.Г. О традициях дореволюционной науки // Россия в XX веке: Судьбы исторической науки. М., 1996. С. 97–98.
10
Например: Тихонов В.В. Историк «старой школы»: Научная биография Б.И. Сыромятникова. Pisa, 2008.
11
Попов А.С. Указ. соч. С. 15.
12
Ключевский В.О. Курс лекций по русской истории // [Ключевский В.О.] Сочинения в девяти томах. Т. I. М., 1987. С. 35.
13
Попов А.С. Указ. соч.
14
Валк С.В. Историческая наука в Ленинградском университете за 125 лет // Избранные труды по историографии и источниковедению. СПб., 2000; Дубровский А.М. Ученый и его наука в письмах // Переписка С.Б. Веселовского с отечественными историками. М., 1998. С. 12; Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1990. С. 156; Он же. Два русских историка: С.Ф. Платонов и А.А. Кизеветтер // Современные записки. 1933. № 51. С. 314; Панеях В.М. Творчество и судьба историка: Борис Александрович Романов. СПб., 2000. С. 21–23; Пресняков А.Е. Речь перед защитой диссертации под заглавием «Образование Великорусского государства». Пг., 1920. С. 6; Шмидт С.О. Историография историографии // Исторические записки. № 8 (126). М., 2005. С. 307–308 и др.
15
Ростовцев Е.А. А.С. Лаппо-Данилевский и Петербургская историческая школа. Рязань, 2004. С. 36.
16
Шаханов А.Н. Русская историческая наука второй половины XIX – начала XX века… С. 148–267.
17
Там же. С. 405.
18
Готье Ю.В. Замосковный край в XVII в.: Опыт исследования по истории экономического быта Московской Руси. М., 1906.
19
Рожков Н.А. Сельское хозяйство Московской Руси в XVI в. М., 1899.
20
Готье Ю.В. История областного управления в России от Петра I до Екатерины II. М., 1913.
21
Богословский М.М. Областная реформа Петра Великого: Провинция 1719–1727 гг. М., 1902.
22
Кизеветтер А.А. Городовое положение Екатерины II: Исторический комментарий. М., 1909.
23
Веселовский С.Б. Сошное письмо. Исследования по истории кадастра и посошного обложения Московского государства. Т. 1–2. М., 1915–1916.
24
Яковлев А.И. Засечная черта Московского государства в XVII в. М., 1916.
25
Он же. Приказ сбора ратных людей. М., 1917.
26
Проблемная и идейная взаимосвязь этих работ будет подробнее освещена далее.
27
Свердлов М.Б. О Петербургской школе историков, корректности историографического анализа и рецензии В.С. Брачева. СПб., 1995. С. 22.
28
Чирков С.В. В.О. Ключевский и развитие отечественной археографии в конце XIX – начале XX века // В.О. Ключевский и проблемы российской провинциальной культуры и историографии: Мат-лы науч. конф. (Пенза, 25–26 июня 2001 года). Кн. 1. М., 2005. С. 130.
29
Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Ч. 1. СПб., 1896. С. 5.
30
Панеях В.М. Творчество и судьба историка: Борис Александрович Романов. СПб., 2000. С. 29–30.
31
Ростовцев Е.А. Указ. соч. С. 58.
32
Шаханов А.Н. Русская историческая наука второй половины XIX – начала XX века… С. 393.
33
Розенталь И.С. Москва на перепутье. Власть и общество в 1905–1914 гг. М., 2003. С. 11.
34
Валк С.В. Историческая наука в Ленинградском университете за 125 лет // Валк С.В. Избранные труды по историографии и источниковедению. СПб., 2000. С. 7.
35
Чирков С.В. В.О. Ключевский и развитие отечественной археографии в конце XIX – начале XX века // В.О. Ключевский и проблемы российской провинциальной культуры и историографии. М., 2005. Кн. 1. С. 116.
36
Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1990. С. 156.
37
Он же. Два русских историка: С.Ф. Платонов и А.А. Кизеветтер // Современные записки. 1933. № 51. С. 314.
38
Пресняков А.Е. Письма и дневники. 1889–1927. СПб., 2005. С. 34.
39
Там же. С. 412.
40
Там же.
41
Цит. по: Корзун В.П., Мамонтова М.А., Рыженко В.Г. Путешествия русских историков конца XIX – начала XX века как культурная традиция // Мир историка. XX век. Омск, 2002. С. 97.
42
Там же.
43
Веселовский С.Б. Дневники 1915–1923, 1944 г. // Вопросы истории. 2000. № 2. С. 106.
44
Готье Ю.В. Мои заметки // Вопросы истории. 1991. № 8–9. С. 156.
45
Пресняков А.Е. Указ. соч. С. 662.
46
Там же. С. 34.
47
Там же. С. 36.
48
Там же. С. 39.
49
Там же. С. 144.
50
Там же. С. 129.
51
Там же. С. 168.
52
Там же. С. 618.
53
Там же. С. 626.
54
Figes O. Natasha’s dance. A cultural history of Russia. London, 2002. P. 162.
55
Пресняков А.Е. Указ. соч. С. 6.