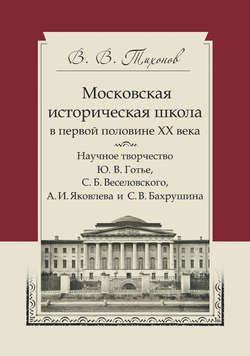Читать книгу Московская историческая школа в первой половине XX века. Научное творчество Ю. В. Готье, С. Б. Веселовского, А. И. Яковлева и С. В. Бахрушина - Виталий Тихонов - Страница 6
Часть I
Дореволюционный период
Глава 1
Теоретико-методологические и историографические основы исследования
4. Литература о жизни и творчестве Ю.В. Готье, С.Б. Веселовского, А.И. Яковлева и С.В. Бахрушина
ОглавлениеВ отечественной историографической литературе до сих пор отсутствуют работы, в которых творчество Готье, Веселовского, Яковлева и Бахрушина рассматривалось как нечто цельное. И все же анализу их жизни и научной деятельности посвящен внушительный комплекс работ. Условно этот массив литературы можно разделить на несколько частей: 1) учебники и учебные пособия, а также обобщающие труды по истории исторической науки; 2) работы, в которых указанные историки рассмотрены в рамках крупных историографических проблем; 3) монографии и статьи, освещающие индивидуальное творчество.
Первый пласт литературы, благодаря своей распространенности, заслуживает особого внимания. Пособия, в силу относительно невысокого количества историографических работ, также должны активно использоваться в историографических исследованиях. Первой в этом ряду стоит известная работа Н.Л. Рубинштейна «Русская историография». Автор рассматривает Ю.В. Готье, С.Б. Веселовского, А.И. Яковлева и С.Б. Бахрушина как составную часть «школы Ключевского». Готье, Бахрушина и Яковлева он причисляет к «младшим представителям» этой школы, у которых «экономическая проблематика выступает отчетливее [чем у их старших коллег. – В.Т.] и еще более приближает их работы к современности»[68]. В целом, их творчество было оценено как эволюция Московской школы. Отдельно анализируется Веселовский, которого автор причисляет к историко-юридическому направлению. Он отмечает блестящее знание Веселовским актового материала, но при этом пишет: «Все его [Веселовского. – В.Т.] попытки перейти к реальной интерпретации исторических явлений остаются в рамках основной историко-юридической концепции, обращены к крайним положениям исторической схемы Ключевского»[69]. Таким образом, Веселовский все-таки рассматривался в рамках «школы Ключевского», которого Рубинштейн также считал синтезатором исторического экономизма и наследия историко-юридической школы. В данном случае видимая разница оценок объясняется тем, что Ключевского нередко относили (и относят) к государственной школе, в то время как многие (в том числе и автор этой работы) историографы считают, что Ключевский сумел выйти за рамки государственной школы.
Немало внимания уделено Ю.В. Готье, С.Б. Веселовскому, А.И. Яковлеву и С.Б. Бахрушину в фундаментальных «Очерках истории исторической науки в СССР». В них творчество историков также не рассматривается как целостный феномен, но автор раздела об исторической науке начала XX в. Л.В. Черепнин указал, что «из „школы“ Ключевского вышел ряд историков, которые впоследствии отдали свои знания делу развития советской исторической науки (Ю.В. Готье, В.И. Пичета, С.В. Бахрушин, А.И. Яковлев и др.)»[70]. Данное издание представляет интерес благодаря оценкам (впрочем, нередко устаревшим) отдельных работ ученых. На высоком историографическом уровне Л.В. Даниловой написан раздел, касающийся изучению феодализма в V томе «Очерков…». Анализ работ Готье, Бахрушина и Яковлева, проделанный исследовательницей, до сих пор не потерял своего значения[71].
Деятельность исследуемых ученых затрагивалась и в известном пособии по историографии под редакцией В.Е. Иллерицкого и А.И. Кудрявцева. Один из авторов, И.К. Додонов, отметил «известное влияние воззрений Ключевского» на Ю.В. Готье и С.В. Бахрушина[72]. Большое количество оценок отдельных работ Ю.В. Готье, С.Б. Веселовского, А.И. Яковлева и С.Б. Бахрушина можно найти и в учебнике под редакцией И.И. Минца[73]. Характерной чертой данных учебных пособий, кроме их, безусловно, положительного значения для развития и пропаганды историографии в тех конкретных условиях, являлись идеологическая заданность, априорное осуждение наследия «буржуазной» исторической науки, что наложило свой отпечаток на оценку работ представителей Московской исторической школы.
Во многом в рамках советской историографической традиции было написано учебное пособие А.Л. Шапиро[74]. Тем не менее данная работа отличается стремлением к объективистскому подходу и содержит ряд очень ценных наблюдений и замечаний касательно представителей младшего поколения московских историков. К категории обобщающих трудов относится и известная книга русско-американского историка Г.В. Вернадского[75], впервые опубликованная в России в 1998 г. В ней даны краткие очерки жизни и деятельности большинства наиболее заметных историков России. Большим недостатком работы является то, что Вернадский писал ее в эмиграции, будучи удаленным от необходимых ему источников, многие вещи он записывал по памяти, что привело к множеству ошибок. Интересующие нас историки расположены в издании под рубрикой «Ученики Ключевского».
Заслуживает внимание и пособие С.П. Бычкова и В.П. Корзун, где отдельная глава отведена теме «В.О. Ключевский и его ученики»[76]. Продолжение эта проблема нашла в коллективной монографии «Очерки истории отечественной исторической науки XX века», где В.П. Корзун также высказывается по вопросу поколений в Московской исторической школе[77] (см. с. 000 данного издания).
Вторым комплексом литературы являются монографии, посвященные тем или иным проблемам развития отечественной исторической науки, где затрагивается научное наследие изучаемых историков.
Хронологически первой в этом ряду можно поставить монографию Г.Д. Бурдея, освещавшую развитие советской исторической науки в годы Великой Отечественной войны[78]. Монография насыщена конкретным материалом, позволившим автору поставить ряд важных и новых вопросов для того времени. В книге подробно разобрана организация научно-исторических институтов в годы войны, а одна из глав посвящена проблеме влияния Сталина на советскую историографию. На стыке исследования, публицистики и мемуаров написана книга известного историка В.Б. Кобрина[79]. Особый интерес в ней представляют воспоминания о многих выдающихся историках.
На высоком историографическом уровне написана уже упоминавшаяся монография А.Н. Шаханова «Русская историческая наука второй половины XIX – начала XX в. Московский и Петербургский университеты». Несмотря на то что она большей частью касается более ранних периодов развития отечественной исторической науки, в ней немало верных общих замечаний и конкретных наблюдений касательно и младшего поколения Московской школы. Он заметил, что «младшему поколению учеников Ключевского… принадлежит приоритет в широкой постановке вопросов социально-экономической истории XVII в.»[80].
Большой интерес представляет монография Т.И. Хорхординой, посвященная развитию архивоведческой мысли в России[81]. В ней большое внимание уделено анализу взглядов Ю.В. Готье и С.Б. Веселовского на отечественное архивное дело. В монографии А.М. Дубровского затрагивается важная проблема для развития исторической науки 1920– 1950-х гг. – взаимоотношение историков-профессионалов и властвующих структур[82]. Беспристрастный анализ отечественной историографии, посвященной изучению феодальных аграрных отношений, можно найти в нарочито объективистски написанной книге Н.А. Горской[83]. Автор воздержалась от обобщающих оценок, но конкретный разбор научной литературы в большинстве случаев представляется сделанным на высоком уровне и адекватным реальности. Заметным событием стала публикация исследования Л.А. Сидоровой о взаимоотношении в середине XX в. трех поколений историков. Ученики Ключевского были отнесены к «старшему поколению»[84].
Важнейшей частью историографии темы являются исследования, освещающие индивидуальную жизнь и научную деятельность историков. Рассмотрение ее стоит начать с работ о самом старшем из указанных ученых, Ю.В. Готье. Жизни и творчеству Ю.В. Готье посвящена довольно обширная литература. Колоссальное значение в изучении научной биографии историка принадлежит до сих пор единственной библиографии (конечно же, неполной) трудов ученого, составленной Н.М. Асафовой при участии самого Готье[85].
Отправной точкой изучения наследия академика стал вечер памяти, прошедший в Отделении истории и философии АН СССР 28 марта 1944 г. На нем выступили с докладами С.В. Бахрушин, С.К. Богоявленский, Б.А. Рыбаков и В.П. Любимов[86]. Выступления Бахрушина и Богоявленского стали основами их последующих статей о Готье.
Первая серия публикаций, освещавших научную биографию ученого, вышла после его смерти. Уже эти работы, в которых рассматривались различные аспекты деятельности Ю.В. Готье, были ориентированы на серьезный анализ научного наследия академика[87].
В своей статье С.В. Бахрушин, друг и коллега покойного, писал, что «Ю. В. Готье являлся живым звеном между прошлым и настоящим русской исторической науки, между лучшими традициями этого прошлого и новыми научными достижениями советских историков»[88]. Автор смело относит Готье к представителям «школы Ключевского», отмечая его большое влияние на Готье. «Ученик и последователь В. О. Ключевского, Ю.В. Готье воспринял от своего учителя все самые сильные стороны его исследовательского метода: строго критический подход к источникам и тщательную их разработку, исчерпывающую документацию, детальное изучение фактов»[89]. Автор отмечает устойчивость методики исторического исследования, присущей Готье. Следование научной традиции, по мнению Бахрушина, позволило ученому оставить след в самых различных сферах исторического знания[90].
Другой автор, не менее близко знавший Готье, чем Бахрушин, В.И. Пичета, также отмечал широту научного поиска историка[91]. Он заметил, что тематика работ Готье определялась «общим состоянием русской исторической науки»[92], тем самым указывая на актуальность его научного творчества и оправдывая недостатки трудов Готье. По мнению Пичеты, «Ю.В. Готье должен был стать в ряды тех исследователей, которые ушли от традиций историко-юридической школы и сосредоточили свое внимание на изучении вопросов экономического быта»[93]. В этой связи особое место в творчестве ученого занимала монография «Замосковный край в XVII веке», в которой, впрочем, по мысли Пичеты, «материал дается в отрыве от глубоких социальных процессов, от острой классовой борьбы»[94].
Серия статей о жизни и творчестве Готье была помещена в сборник «Московский государственный университет. Доклады и сообщения исторического факультета». Здесь авторы касались самых различных сторон деятельности историка. Так, Пичета рассмотрел его работы по истории Русско-Литовского государства[95]. А.В. Арциховский проанализировал вклад ученого в археологию, отметив, что «одной из главных научных заслуг академика Ю.В. Готье является объединение истории и археологии»[96].
Большой интерес, в силу глубины историографического анализа научного наследия Готье, представляет статья Н.Л. Рубинштейна[97]. Он отметил сильное влияние на историка не только его непосредственного учителя В.О. Ключевского, но и П.Г. Виноградова. По словам Рубинштейна, работы Готье, несмотря на широту тематики, были написаны на самом высоком уровне. Автор выделил три характерные черты научного творчества Готье: 1) «мобилизация новых источников и предельная интенсивность их использования»; 2) «конкретность исследования, достигаемая путем внешнего ограничения объектов изучения»; 3) «указанная конкретность исторического изучения при первом, поверхностном знакомстве с работой историка иногда воспринимается как господство факта, частного, отказ от обобщения. В действительности, служа предельной интенсивности изучения материала, она, напротив, соединяется с большой полнотой и широтой научного обобщения»[98]. В заключении Рубинштейн написал, что Готье как историку была свойственна социальная направленность исторического исследования.
В 1973 г. в связи со 100-летием со дня рождения историка в МГУ им. М.В. Ломоносова была проведена конференция[99], участники которой (Б.А. Рыбаков, П.А. Зайончковский, Ю.А. Поляков и др.) отметили весомый вклад Готье в развитие отечественной исторической науки. Тогда же, в связи с юбилеем, в печати появились статьи Т.А. Смелой и В.В. Галахова о научно-общественной деятельности ученого, а также сообщение С.Б. Филимонова об обнаруженных в отделе рукописей РГБ тезисах доклада академика «Историческое значение Московской губернии и задачи ее изучения» (от 1 мая 1925 г.)[100].
Новый всплеск интереса к Готье пришелся на 1990–2000-е гг. в связи с общим интересом к историкам «старой школы» и их роли в отечественной историографии[101]. М.В. Мандрик в своей статье[102] указала на тесную связь творчества ученого с научным наследием его учителя Л.В. Ключевского. «Но в то же время историк Ю.В. Готье всегда шел своим путем»[103].
Автор разделяет научную жизнь историка на два этапа: с начала XX в. до 1930 г. и с 1934 по 1943 г.[104] Кроме того, в работе есть много ценных фактов и отдельных замечаний. В своей другой работе М.В. Мандрик осветила факт репрессий по отношению к Готье в ходе так называемого «Академического дела»[105]. Рассмотрев на основе архивных документов все перипетии хода дела, исследователь пришла к выводу, что его последствия были катастрофическими для дальнейшего творчества ученого: «Готье после освобождения не приступил ни к одному крупному исследованию. Его творческая инициатива была подавлена»[106]. В статье Л.Г. Соболева были проанализированы дневниковые записи историка как источник по настроениям российской интеллигенции в 1917 г.[107] Завершить обзор можно статьей Ю.Н. Емельянова, который, осветив основные вехи жизни историка, подчеркнул его принадлежность к Московской школе Ключевского[108].
Итак, подводя итоги историографическому обзору работ, посвященных жизни и научному наследию Готье, отметим, что общим местом является отнесение этого ученого к Московской школе или «школе Ключевского». В указанных исследованиях можно найти множество верных оценок, важных фактов, тем не менее многие стороны деятельности ученого остаются неосвещенными, его научная биография не вписана в контекст эволюции Московской исторической школы. Более того, до сих пор отсутствует обобщающая работа, посвященная выдающемуся ученому.
Историографическая традиция изучения наследия Веселовского отличается определенными перекосами и непоследовательностью, о чем свидетельствует и отсутствие крупных работ об ученом. Долгое время об историке, умершем в 1952 г., не публиковалось исследований. Очевидно, это было связано с той напряженной ситуацией, которая сложилась вокруг ученого после публикации его книги «Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси»[109]. В печати после его смерти появился лишь один некролог[110]. Спустя некоторое время такое положение начало меняться. Первоначально повышенный интерес вызвало неопубликованное наследие историка. Первые работы о нем носили архивоведческий и археографический характер. В них звучал призыв организовать планомерную публикацию документального наследия С. Веселовского[111].
Начало следующего этапа в изучении творчества историка совпало со столетием со дня его рождения в 1976 г. В тезисах и статье В.Д. Назарова анализировалась концепция эволюции феодального землевладения Веселовского[112]. Автор относил его к государственно-правовой школе на ее позднем этапе развития[113]. Он также отметил, что «общеисторические взгляды С.Б. Веселовского нередко противоречивы и непоследовательны»[114]. Кроме всего прочего, важной чертой исследовательского почерка ученого В.Д. Назаров называет и «стремление… проникнуть в мысли и чувства людей далекого прошлого», т. е, историко-антропологическую направленность его творчества. В целом автор охарактеризовал Веселовского как крупнейшего знатока русского средневековья, который, впрочем, не смог воспринять марксистский подход в истории.
В 1977 г. вышел сборник статей в честь ученого[115]. В нем особого внимания заслуживают две первые статьи, написанные Л.В. Черепниным и М.Е. Бычковой. В статье Черепнина, который лично знал С. Веселовского, тесно переплелись личные воспоминания автора и тонкий анализ историографического наследия ученого[116]. Статья Черепнина являлась первой работой, в которой был хотя бы кратко показан весь творческий путь Веселовского. Многие мысли автора сохранили свою актуальность и для современных историографов. Значительный интерес представляет и статья М. Бычковой, анализировавшей генеалогические штудии историка[117]. По ее словам, Веселовский «возродил генеалогическое исследование в советской исторической науке»[118]. Особенно подчеркивалось то, что историк в своих работах продемонстрировал широкие возможности использования генеалогической информации в исторических исследованиях[119].
Заметным событием стала публикация небольшой монографии В.Б. Кобрина и К.А. Аверьянова, посвященной жизни и научной деятельности Веселовского[120]. Авторы значительное внимание уделили рассмотрению техники исторического исследования историка, его взглядов на задачи исторической науки, проанализировали конкретно-исторические работы. Большим плюсом издания стало то, что в качестве приложения была опубликована библиография трудов С. Веселовского и трудов о нем.
На современном этапе изучения научной биографии ученого стоит отметить попытки по-новому взглянуть на его творчество, чему во многом способствовала публикация ранее неизвестных дневников историка[121]. Так, в статье публикатора дневников, А.Л. Юрганова, автор пытается рассмотреть жизнь Веселовского как психологическую драму ученого и человека[122]. Продолжает эту линию статья Н. Северной, привлекшей к анализу дневников наработки современной психологии[123]. Большим подспорьем в анализе жизни ученого стала публикация его переписки. Автор вводной статьи и один из публикаторов А.М. Дубровский во введении утверждал, что С. Веселовский был из тех историков, которые не принадлежали ни к какой школе, являясь самодостаточной фигурой[124]. Последней крупной работой, посвященной обзору всего творческого пути историка, стала статья Д. Спорова и С. Шокарева[125]. Авторы рассмотрели деятельность Веселовского через призму его взаимодействия с властью, отметив его последовательный антимарксизм.
На фоне Готье и Веселовского достаточно скудной представляется история изучения творчества А.И. Яковлева. Нельзя сказать, что научное наследие ученого было обойдено вниманием исследователей. Тем не менее посвященные ему работы, как правило, представляют собой либо краткие очерки его жизни, либо касаются отдельных аспектов деятельности. Обобщающего исследования об этом выдающемся историке до сих пор нет.
Первым в этом ряду стоит статья В.Н. Бочкарева, ставшая первой работой, где рассматривался творческий путь историка, его место в отечественной историографии. Автор безапелляционно относит Яковлева к «исторической школе Ключевского». Он высоко оценивает исследовательскую и археографическую деятельность историка, обходя трудные моменты его карьеры[126]. После этой статьи историографическое осмысление наследия Яковлева надолго прервалось. Возвращение интереса к А.И. Яковлеву носило архивоведческий и археографический характер[127]. Всплеск внимания к историку наблюдается в 1990–2000-е гг. В контексте изучения истории чувашской интеллигенции исследовали творчество Яковлева Н.Г. Краснов[128] и Г.А. Александров[129]. Г.А. Александров в 2003 г. опубликовал в «Вопросах истории» статью, посвященную непосредственно А. Яковлеву[130]. К сожалению, кроме новых ценных фактических данных, вводимых автором в научный оборот впервые, статья грешит очевидными заимствованиями из старой работы В.Н. Бочкарева и, более того, иногда откровенным плагиатом. Последней заметной работой о Яковлеве стала статья В.Т. Клапиюка о преподавании ученого в библиотечном институте[131]. Характерной чертой историографии, посвященной А. Яковлеву, является практическое отсутствие попыток вписать его творчество в контекст развития отечественной исторической науки. Наиболее обширная историография посвящена С.В. Бахрушину. Это объясняется не только масштабом ученого и его заслугами перед исторической наукой, но и тем, что Бахрушин единственный из перечисленных ученых сумел «вписаться» в советскую историческую науку, став ее признанным классиком.
Первый этап изучения наследия ученого связан, как это часто случается, с откликами на его смерть. В некрологах единодушно указывалось на его неоценимый вклад в историческую науку[132]. С. Токаревым была высказана мысль, что С. Бахрушину «больше, чем кому-либо из историков, советская наука обязана тем сближением между историей и этнографией, которое так благотворно сказалось на развитии обеих отраслей знания»[133]. Серьезные аналитические работы появились спустя некоторое время после смерти историка. В начавшемся тогда публиковаться собрании сочинений историка вступительную статью написал В.И. Шунков[134]. В ней автор также указывал на огромное значение Бахрушина для развития советской историографии. Им же были рассмотрены взгляды Бахрушина на историю Сибири[135]. По его мнению, работы ученого по истории этого региона отличались в основном: «новой постановкой вопроса о характере русской колонизации и выяснением роли в ней торгово-промышленного населения, настойчивой разработкой истории отдельных народов Сибири и постановкой вопроса о характере их социально-экономического строя, введением в научный оборот огромного свежего конкретно-исторического материала, крупным вкладом в развитие источниковедения и историографии Сибири, деятельностью по подготовке новых научных кадров-историков Сибири и популяризации сведений по истории Сибири»[136]. Особого внимания заслуживает статья А.И. Андреева, посвященная разбору исследований С. Бахрушина о Сибири[137]. Он подчеркнул, что труды Бахрушина дали мощный импульс развитию изучения Сибири во всех ее аспектах. Также высоко оценил деятельность покойного ученого и Б.Б. Кафенгауз[138]
68
Рубинштейн Н.Л. Указ. соч. С. 500.
69
Там же. С. 513.
70
Очерки истории исторической науки в СССР (далее – ОИИН). Т. III. С. 317.
71
Данилова Л.В. Изучение истории средневековой России // ОИИН. Т. V. С. 110–187.
72
Историография истории СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции / Под ред. В.Е. Иллерицкого, А.И. Кудрявцева. М., 1961. С. 316.
73
Историография истории СССР. Эпоха социализма / Под ред. И.И. Минца. М., 1982.
74
Шапиро А.Л. Историография с древнейших времен до 1917 года. СПб.; Тверь, 1993.
75
Вернадский Г.В. Русская историография. М., 2003.
76
Бычков С.П., Корзун В.П. Введение в отечественную историографию XX века. Омск, 2001. С. 77–96.
77
Корзун В.П. В.О. Ключевский и его ученики // Очерки истории отечественной исторической науки XX века. Омск, 2005. С. 41.
78
Бурдей Г.Д. Историк и война. Самара, 1991.
79
Кобрин В.Б. Кому ты опасен, историк? М., 1992.
80
Шаханов А.Н. Указ. соч. С. 219.
81
Хорхордина Т.И. Российская наука об архивах. История. Теория. Люди. М., 2003.
82
Дубровский А.М. Историк и власть. Историческая наука в СССР и концепция истории феодальной России в контексте политики и идеологии (1930–1950-е гг.). Брянск, 2005.
83
Горская Н.А. Русская феодальная деревня в историографии XX века. М., 2006.
84
Сидорова Л.А. Советская историческая наука середины XX века. Синтез трех поколений. М., 2008.
85
Асафова Н.М. Ю.В. Готье: Мат-лы к библиографии ученых СССР. Серия: История. Вып. 1. М., 1941.
86
АРАН. Ф. 457. Оп. 1-а (1944). Ед. хр. 36.
87
Бахрушин С.В. Ю.В. Готье // Исторический журнал. 1944. № 2–3. С. 74–79; Богоявленский С.К. Академик Ю.В. Готье // Известия. АН СССР. Сер.: История и философия. 1944. Т. 1, № 3. С. 109–115; Пичета В.И. Академик Ю.В. Готье // Вестник АН СССР. 1944. № 3. С. 123–126; Он же. Академик Ю.В. Готье // Исторические записки. М., 1945. Кн. 15. С. 301–314; Он же. Труды Ю.В. Готье по истории Литвы // Московский государственный университет: Доклады и сообщения исторического факультета. М., 1945. Вып. 1. С. 17–20; Арциховский А.В. Ю.В. Готье как археолог // Там же. С. 21–24; Новицкий Г.А. Академик Ю.В. Готье // Там же. С. 13–17; Юрий Владимирович Готье (1873–1943) // Вестник древней истории. 1946. № 1. С. 215; Рубинштейн Н.Л. Памяти академика Ю.В. Готье // Ученые записки МГУ. 1946. Вып. 87. С. 156–160.
88
Бахрушин С.В. Ю.В. Готье… С. 74.
89
Там же.
90
Там же. С. 77.
91
Пичета В.И. Академик Ю.В. Готье… С. 303.
92
Там же.
93
Там же. С. 304.
94
Там же. С. 304–305.
95
Пичета В.И. Труды Ю.В. Готье по истории Литвы // Московский государственный университет: Доклады и сообщения исторического факультета. М., 1945. Вып. 1. С. 17–20.
96
Арциховский А.В. Ю.В. Готье как археолог… С. 21.
97
Рубинштейн Н.Л. Памяти академика Ю.В. Готье // Ученые записки МГУ. 1946. Вып. 87. С. 156–160.
98
Там же. С. 157–159.
99
Борисов Н.С. Столетие Ю.В. Готье // История СССР. 1975. № 4. С. 231–232.
100
Смелая Т.А. Академик Ю.В. Готье (к 100-летию со дня рождения) // Советские архивы. 1973. № 4. С. 42–45; Галахов В.В. Историографические материалы в фондах академика Ю.В. Готье // Археографический ежегодник за 1973 год. М., 1974. С. 236–237; Филимонов С.Б. Рукопись Ю.В. Готье // Советские архивы. 1973. № 4. С. 102.
101
Emelianov J.N. Gotie Juri Vladimirovich // Great Historians of the Modern Age. An international dictionary. N. Y.; London, 1991; Он же: Ю.В. Готье // Историки России. Биографии. М., 2001. С. 516–523; Мандрик М.В. К 125-летию со дня рождения историка Ю.В. Готье // Клио. 1998. № 1. С. 248–263; Она же. Ю.В. Готье // Ежегодник Северо-Западной академии государственной службы. СПб., 1999; Она же. «Я не марксист и за марксиста себя не выдаю»: историк Ю.В. Готье и «Академическое дело» // Исследования по русской истории: Сб. ст. к 65-летию И.Я. Фроянова. СПб.; Ижевск, 2001. С. 327–356.
102
Мандрик М.В. К 125-летию со дня рождения историка Ю.В. Готье… С. 248–263
103
Там же. С. 248.
104
Там же. С. 249.
105
Мандрик М.В. «Я не марксист и за марксиста себя не выдаю»: историк Ю.В. Готье и «Академическое дело»…
106
Там же. С. 350.
107
Соболев Л.Г. Дневник Ю.В. Готье как источник о настроениях российской интеллигенции в 1917 г. // История и революция. СПб., 1999. С. 184–188.
108
Емельянов Ю.Н. Ю.В. Готье… С. 516, 519.
109
Веселовский С.Б. Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси. Т. 1. М.; Л., 1947.
110
Академик С.Б. Веселовский [Некролог] // Известия АН СССР. Сер. истории и философии. 1952. Т.9, № 1. С. 50.
111
Левшин Б.В. Издание трудов академика С.Б. Веселовского // История СССР. 1958. № 5. С. 250; Он же. Обзор документальных материалов фонда академика С.Б. Веселовского // АЕ. 1958. М., 1960. С. 257–266; Он же. Библиография трудов С.Б. Веселовского // АЕ. 1968. М., 1970. С. 401–404; Дубинская Л.Г. Издание научного наследия С.Б. Веселовского // АЕ. 1976. М., 1977. С. 315–316.
112
Назаров В.Д. Историографические и источниковедческие итоги изучения феодального землевладения академика С.Б. Веселовского // XXV съезд КПСС и задачи историков-аграрников: XVI сессия симпозиума по изучению проблем аграрной истории: Тезисы докладов и сообщений. (Кишенев, 29 сентября – 2 октября 1976 г.). М., 1976. С. 201–205; Он же. Проблемы феодального землевладения в трудах академика С.Б. Веселовского // Советская историография аграрной истории СССР (до 1917 г.). Кишинев, 1978. С. 212–230.
113
Назаров В.Д. Проблемы феодального землевладения в трудах академика С.Б. Веселовского… С. 217.
114
Там же. С. 218.
115
История и генеалогия. С.Б. Веселовский и проблемы историко-генеалогических исследований. М., 1977.
116
Черепнин Л.В. Степан Борисович Веселовский (творческий путь) // История и генеалогия… С. 9–41.
117
Бычкова М.Е. Степан Борисович Веселовский – генеалог // Там же. С. 42–56.
118
Там же. С. 42.
119
Там же. С. 56.
120
Кобрин В.Б., Аверьянов К.А. С.Б. Веселовский. Жизнь. Деятельность. Личность. М., 1989.
121
С.Б. Веселовский. Дневники 1915–1923, 1944 г. // Вопросы истории. 2000. № 2, 3, 6, 8–12; 2001. № 2.
122
Юрганов Ю.Л. «Все это ушло далеко в вечность»: Дневник и жизнь С.Б Веселовского // URL: http://if.russ.ru/issue/7/20011129-urgan.html.
123
Северная Н. Веселовский Степан Борисович или эмигрант по призванию // URL: http://www.wplanet.ru/text_print.php?id=4347.
124
Дубровский А.М. Ученый и его наука в письмах // Переписка С.Б. Веселовского с отечественными историками. М., 1998. С. 8.
125
Споров Д., Шокарев С. Историк Московского государства в Сталинской России: К биографии С.Б. Веселовского (1876–1952) // URL: http://magazines. russ.ru/nlo/2006/78/spo6.html.
126
Бочкарев В.Н. Алексей Иванович Яковлев // Записки Мордовского научно-исследовательского института языка, литературы и истории. 1952. № 15. С. 101–120.
127
Душинов С.М. К истории отечественной археографии (издания, подготовленные А.И. Яковлевым) // Археографический ежегодник. 1976. М., 1977. С. 111–120; Он же. Личные фонд А.И. Яковлева в Архиве АН СССР // Советские архивы. 1981. № 5. С. 48–52.
128
Краснов Н.Г. Иван Яковлев и его потомки. Чебоксары, 1998. С. 300–311.
129
Александров Г.А. Историк А.И. Яковлев // Александров Г.А. Чувашские интеллигенты. Биографии и судьбы. Чебоксары, 2002. С. 172–201; Он же. Прекрасный работник для русской науки и школы // Ученые: Иллюстр. изд.: В 4 т. Чебоксары, 2006.
130
Александров Г.А. Алексей Иванович Яковлев – историк, археограф, педагог // Вопросы истории. 2003. № 8. С. 151–158.
131
Клапиюк В. Т. А. И. Яковлев – историк, педагог, библиотекарь, библиограф: (К 60-летию великой победы и 75-летию МГУКИ) // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства. 2005. № 2. С. 144–150.
132
Исторические работы С.В. Бахрушина // Вопросы истории. 1950. № 6; С.В. Бахрушин [Некролог] // Вопросы истории. 1950. № 3. С. 157–159; С.В. Бахрушин: [Некролог] // Вопросы географии. Сб. 20: Историческая география СССР. М., 1950. С. 5–9; Сергей Владимирович Бахрушин // Преподавание истории в школе. 1950. № 2. С. 92–93.
133
Токарев С. С.В. Бахрушин: [Некролог] // Советская этнография. 1950. № 2. С. 222–223.
134
Шунков В.И. Сергей Владимирович Бахрушин // С.В. Бахрушин. Научные труды: В т. I. М., 1952. С. 5–8.
135
Он же. Труды С.В. Бахрушина по истории Сибири // С.В. Бахрушин. Научные труды. Т. III. Ч. 1. М., 1955. С. 5–12.
136
Там же. С. 12.
137
Андреев А.И. С.В. Бахрушин – историк Сибири // Ученые записки Ленинградского государственного университета. 157. Факультет народов Севера. Вып. 2. Л., 1953. С. 246–254.
138
Кафенгауз Б.Б. С.В. Бахрушин // Ученые записки МГУ. Вып. 156. М., 1952. С. 258–262.