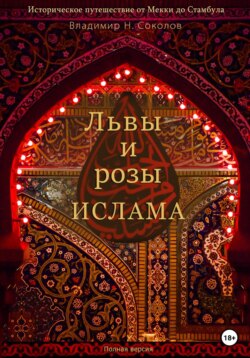Читать книгу Львы и розы ислама - Владимир Соколов - Страница 12
Часть I. На пути Аллаха
Глава 2. Аравия перед исламом
Религия арабов
ОглавлениеДо ислама главное место в бедуинской религии занимали не боги, а судьба – слепая, разрушительная сила, стойкость перед ударами которой служила мерилом мужества. «Судьба настигнет тебя, как старый слепой верблюд», – писал арабский поэт Зухайр. Ее нельзя было ни предвидеть, ни избежать, можно было только принять с достоинством. Боги шли только на втором месте.
В Аравии люди сами изготавливали себе богов и повсюду возили их с собой, как сосредоточие магической силы. Они высоко ценились – потерять бога означало потерять и силу.
Каждое племя почитало только своих, местных богов. Они были как бы старшими родственниками, покровителями, противостоявшими другим племенам и их богам. В древнем мире часто возникала тема, чьи боги сильнее. Иметь сильного, могущественного бога считалось благом для племени, поскольку он обеспечивал ему благосостояние и победу над врагами. Родственные отношение с богами подчеркивалось тем, что боги были похожи по характеру на своих подопечных: какое племя, такие и боги, и наоборот. Божество представляло собой как бы проекцию, собирательный образ племени.
Боги делились на южных и северных. На юге боги жили на звездах, планетах, солнце и луне. Луна, холодная и бесстрастная, считалась мужским богом; солнце, горячее и бурное, – женским. Это были более культурные божества, заимствованные у древних цивилизаций. Почитали звезду Сугейль – путеводный знак в ночном небе. В Мекканском святилище, построенном по преданию самим Авраамом, хранилось триста шестьдесят племенных идолов, которым курили благовония. Здесь протекал священный источник Замзам, некогда напоивший Исмаила и Агарь, и стояла знаменитая Кааба – гранитный куб, в северо-восточный угол которого был вделан черный камень, брошенный ангелом Адаму. К нему шли паломники, каждый из которых семь раз целовал камень. Говорили, что сначала камень был абсолютно белым, но потом почернел от грехов прикасавшихся к нему людей. Справа и слева от Каабы стояли два холма, на одном из которых возвышался бог Исаф, а на другом – богиня Наила. Считалось, что это мужчина и женщина, которые предались любви прямо в Каабе и за богохульство превратились в камень. В нише над священным источником стоял главный мекканский бог Хубала в виде высеченной из сердолика статуи с золотой рукой. Хубала мог предсказывать будущее, для этого существовало специальное гадание на стрелах.
На севере боги были гораздо проще. Кочевники поклонялись большим и высоким камням – бетилам, стоявшим вертикально посреди степи и видимым издалека. Они казались бедуинам окаменевшими гигантами, загадочным и могущественными существами. Например, у племени тайи был идол аль-Фалс – красный выступ черной скалы, похожий на человека.
Бетилы поменьше возили с собой, в качестве «карманных» богов. Их везли под балдахином на верблюде, в сопровождении кахин – предсказательниц с длинными распущенными волосами, которые били в барабаны и нараспев выкрикивали пророчества на особом ритмизированном языке садже (позже запрещенным Мухаммедом как «дьявольский»).
Арабам вообще очень нравились идолы. Расположившись на привал, они собирали четыре камня, выбирали из них самый красивый и делали его богом, а из трех остальных сооружали подставку для котла. Названный богом камень ставили в каком-нибудь приятном месте и обходили вокруг него, как вокруг Каабы. Такие камни называли ансаб, а обход – давар. Но все это были младшие, неглавные камни: главный камень находился в Каабе.
Арабы сознавали, что их идолы примитивны, поэтому могли и низложить их, если они чем-то им не нравились. Так, один араб разгневался на камень, от которого разбежались его верблюды, и объявил его не богом. Поэт Имруулькайс однажды отправился на войну и стал гадать перед идолом Зу-л-Халасам по стрелам – какая из них выпадет, разрешающая, откладывающая и запрещающая. Когда выпала запрещающая, он в гневе сломал стрелы, ударил ими по лицу идола, воскликнув: «Да укусишь ты член своего отца!», – после чего отправился в поход и благополучно его завершил. В племени бен-ханиф однажды сделали идола из молока, масла и финикового теста, а когда настал голод, съели его.
Однако все это были как бы младшие, подчиненные боги, игравшие большую роль в жизни людей, но являвшиеся частью мироздания, а не его основой. Основным же Богом-творцом был невидимое и непостижимое существо, стоявшее далеко от людей и слишком возвышенное, чтобы непосредственно влиять на их судьбу. Он не имел имени, и его называли просто Бог (аль-илах, или Аллах) или определяли его по качествам: милосердный, всевышний, владыка.
Кочевники сознавали себя частью племени, а не народа, поэтому местные боги для них были важнее всеобщего. Однако уже и в то время встречались люди, которые почитали единого Бога, а не племенных богов. Их называли ханифами. Ханиф – имя презрительное, значит безбожник или еретик. Ханифы верили в загробную жизнь и старались жить праведно, чтобы получить награду после смерти. Тем самым они выделяли себя из клана, сознавая себя особой личностью, для которой важней всего личное поведение, а не жизнь племени.
Арабы были удивительно невосприимчивы к другим религиям, которые они видели вокруг себя. Их почти не затронули ни христианство, ни зороастризм, ни иудаизм. Христиан (в Аравии их называли насара, то есть назореи), живших в арабских оазисах, не преследовали и не гнали – каждый мог верить во что угодно, – но считали чужаками, так же, как и их веру. В основном это были сектанты, раскольники, бежавшие из Византии от преследований властей: несториане, монофизиты. Только в пограничных областях их влияние было довольно сильным: гассаниды приняли монофизитство, а лахмаиды сочувствовали несторианам. В северном Йемене был целый город, Наджран, населенный одними христианами и имевший своего епископа. Семена христианской веры посеял здесь некий Фамийун, обративший местных жителей с помощью чуда: силой молитвы он вырвал из земли пальмовое дерево, которому поклонялись арабы.
В «пустынной» Аравии христианство тоже имело некоторые успехи. Некий Аспебет, вождь арабов, служивший персам, отказался выполнять приказ о преследовании христиан и, наоборот, стал их другом. Два монаха, Ефимий и Феоктист, вылечили его сына Теребона, после чего Аспебет принял крещение вместе с семьей и всем племенем, а потом стал и епископом арабов под именем Петра. Петр даже участвовал в 3 Вселенском соборе, осудившем Нестория.
Огромное впечатление на арабов произвел Симеон Столпник. Жизнь этого аскета, простоявшего на каменном столбе 38 лет, поразила бедуинов и склонила многих к христианству. При этом они продолжали вести прежний образ жизни, кочуя по пустыне и устраивая церкви у себя в палатках. После смерти Симеона арабы пытались отбить его тело у сирийских христиан, приведя для этого множество людей с верблюдами.
Но если воображение арабов увлекали монахи-отшельники и красочные христианские церемонии, то в суть догматики они не вдавались. Христиане казались им людьми склочными и беспокойными, постоянно ссорящимися друг с другом.
Гораздо сплоченней и влиятельней христиан выглядели иудеи. После разрушения Иерусалима и восстания Бар-Кохбы они рассеялись по разным землям, в том числе и по Аравии. Арабы называли иудеев «яхуди». Иудаизм был особенно силен в Йемене, где находилось Сабейское царство. Его жители без конца вели войны с христианами, порой очень жестокие. Один из йеменских правителей-иудеев Зу Нувас отправился в поход против христианского Наджрана и, не сумев его взять, пообещал жителям пощадить их жизнь и оставить им их веру, если они сдадутся. Однако слово свое он не сдержал: войдя в город, йеменцы выкопали в нем большие ямы, залили горючей жидкостью и сожгли в ней всех, кто отказался принять иудаизм.
Еще меньше влияния в Аравии имел буддизм, эхо которого иногда доносилось из далекой Индии. Царь Ашок Третий в III веке до н. э. посылал сюда миссионеров-буддистов, но их проповедь успеха не имела.
Кроме богов, арабы верили в духов и джиннов. По представлениям арабов, джинны стояли ниже бога, но выше человека. Они имели воздушное или огненное тело и обычно были невидимы. Ибн Халдун писал, что джинны не имеют собственной формы и изображения, но способны принимать разные обличья: животных, деревьев, кувшинов, красивых женщин. Джинны живут в камнях, в деревьях, в идолах – у каждого свое жилище. По природе они не добрые и не злые, но могут причинять добро или зло, когда захотят. Поэтому арабы на всякий случай приносили им жертвы и просили о помощи и защите.