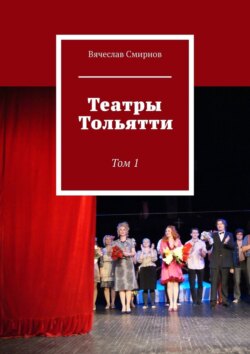Читать книгу Театры Тольятти. Том 1 - Вячеслав Смирнов - Страница 65
«КОЛЕСО»
Романтический муляж
ОглавлениеНостальгически реанимируя собственное творческое прошлое, режиссеры нередко ставят нынешних зрителей в сложное положение. Премьера театра «Колесо» «Варшавская мелодия» по пьесе Леонида Зорина в постановке народного артиста СССР и лауреата многочисленных государственных премий Петра Монастырского – тому подтверждение.
Напомним, что в прошлом году Монастырский поставил на сцене «Колеса» спектакль «Зыковы» по пьесе Максима Горького. Петр Львович – уже взрослый человек, ему 93 года, его творческая биография начинается с 1935 года, он – живая легенда советского и российского театра. Тем не менее, отзывы на спектакль были либо, мягко говоря, прохладными, либо их не было вовсе: имея собственное мнение по поводу неудачной работы, критики не хотели обижать заслуженного человека. Казалось, на этом «роман» с «Колесом» можно было бы считать завершенным. Но нет – отношения продолжились. В принципе, пьеса Зорина гремела в конце 60-х и 70-е годы прошлого века (впервые поставлена в январе 1967 на сцене Театра имени Вахтангова). Еще жива была память о послевоенном времени, чувства и мысли персонажей были близки и понятны зрителю. Ну, представьте, как если бы мы сейчас вспоминали, например, перестроечные годы. Но меняются времена, обстоятельства, меняется сам человек, и говорить о вечных ценностях и о нетленности тех или иных явлений не всегда уместно.
Сюжет небольшой пьесы объемом в полтора десятка страниц довольно прост. Первый послевоенный год. Студент Виктор, бывший фронтовик, знакомится с музыкантом Гелей, гражданкой Польши. На пути их чувств и предполагаемой семейной жизни встает закон 1947 года, запрещавший браки с иностранцами. Разлученные, они встречаются через 10, затем 20 лет. И все. В 90-е годы некоторые режиссеры предприняли ремикс «Варшавская мелодия – 2»: история персонажей продолжается еще через несколько десятилетий. Любовь-морковь – непременный двигатель всего, чего угодно, в первую очередь искусства. Взаимоотношения мужчины и женщины, усугубленные многочисленными препятствиями – канва бесконечного множества небезынтересных художественных произведений. Но посмотрим на продукт сорокалетней давности сегодняшними глазами.
В наши дни уже проблематично представить развитие взаимоотношений между гражданкой Польши и россиянином, памятуя о том, как в нынешней Польше относятся к России и русским. Стерильная целомудренность героев свойственна литературе советского периода, но представьте, что бы это значило: девушка морочит голову юноше на фоне того, что в послевоенные годы численная пропорция между погибшими на фронте мужчинами и выжившими в тылу женщинами была катастрофической. Словом, морочила голову столь долго, что само государство встало на пути возможного супружества. А столь же целомудренное развитие романа через 10, 20 лет? Совсем как в анекдоте: «Мадам!» «Между прочим, мадемуазель!» «Что, правда, ни разу?» И потом, тема человеческой трагедии, поднятая сорок лет назад, сегодня уже не выглядит столь глобально, скатываясь лишь к частному случаю, описанному не в самой выдающейся литературной форме. Девушки, что бы вы сказали своему парню, если бы он ежеминутно с настойчивостью зануды и педанта изо дня в день указывал на какой-либо ваш недостаток? Правильно: в доступной форме предложили бы ему общество более идеального объекта. В пьесе же русский паренек с маниакальной настойчивостью поправляет речевой поток польской девушки, которая, понятное дело, говорит с акцентом. Верх тактичности влюбленного юноши!
«Находки» в спектакле тоже могут вызвать зрительское недоумение. Можно не обратить внимание на то, что герой, сверяя время, иногда поглядывает на современные наручные часы с большим блестящим браслетом – может, он выменял «котлы» у союзников. Но то, что половину спектакля он разгуливает с кассетным магнитофоном (1946 год! Массовое производство подобно техники началось в начале 70-х!) – это нонсенс. Можно вспомнить сцену, когда персонажи встречают Новый 1947 год. На Викторе – ладно подогнанный цивильный с иголочки костюм. А ведь не секрет, что при повальной нищете того времени фронтовики донашивали форму еще лет 10—15 после окончания войны. Наконец, режиссерские «находки», «спецэффекты»: закадровые комментарии при пустой сцене («внутренний голос» героя) и бесконечная нарезка видеозаписей концерта Булата Окуджавы, транслируемая с большого телеэкрана, находящегося на сцене. Неужели все это нельзя было выразить театральными средствами?
Актеры – люди подневольные: что прикажут, то и играют. Зарплата, знаете ли-с. Персонажей пьесы воплотили Олег Ринге и Ирина Малышева. В принципе, для актера полезен любой опыт, в том числе и не самый удачный. Актер Ринге – пропорционально сложенный привлекательный мужчина, военная форма ему, несомненно, к лицу. Быть может, стоит лишь чуть подтянуть ремень и убрать складки на гимнастерке, собравшиеся на животе? Да и костюмеры могли бы подобрать ему сапоги поплотнее: в такой обуви марш-бросок закончится на первом же километре. Это, конечно, лишь банальные придирки. Хуже другое: актеру не удается изобразить влюбленного, рафинированный персонаж лишь добросовестно отчитывает текст роли. Игра Ирины Малышевой не профессиональнее, а… гармоничнее, что ли, естественнее. А на якобы «польский» акцент зрителю вовсе напевать. Например, персонаж Сталина, воплощенный в кинематографе, говорит то с азербайджанским, то с осетинским, то с аварским акцентом. Какая разница? Для большинства русских это все равно – кавказский акцент.
Предваряя премьеру, Петр Монастырский заявил, что после этого спектакля театральные фанаты будут по всем городам сопровождать театр на гастролях. Инициированное режиссером общественное обсуждение спектакля после премьеры должно было подтвердить этот тезис. Действительно, самарские взрослые тетеньки с восторгом вспоминали аналогичную постановку Монастырского сорокалетней давности. Поздний вечер… На улице очень холодно… Домой ехать далеко и долго… Трибуна, предоставленная режиссеру в виде спектакля не позволила ему до конца высказаться в рамках постановки. Необходимы массовые диспуты в стиле 60-х? «Когда же эти шестидесятники сдохнут?!» – обронил кто-то из зрителей. Грубо, цинично, но ведь мы, такие политкорректные и толерантные, готовы выслушать любое мнение? «Нельзя войти в одну воду дважды» – это не просто красивая фраза. Разумеется, не следует клепать халтуру на потребу публики. Но и идти на поводу у заслуженных-перезаслуженных деятелей культуры – тоже не выход из положения. Извините, если что не так.
ТО №8 (1651) 02.03.2007