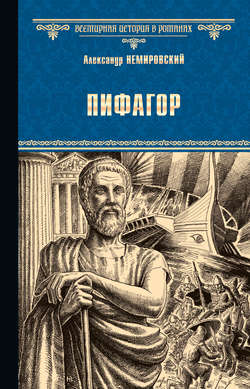Читать книгу Пифагор - Александр Немировский, А. А. Немировский - Страница 6
Часть I. Поликратов перстень
ОглавлениеВозвращение
Волны с беззаботной небрежностью плескались у низкого черного борта.
На палубе керкура не было никого, кроме прикорнувшего у весла кормчего да высокого мужа, шлепавшего босыми ногами по мокрым доскам от носа к корме. В его колеблющейся фигуре ощущалось торжественное ожидание. Останавливаясь, идущий хватался за поручни и пожирал взглядом приближающийся, приобретавший все более ясные очертания берег. Ветер раздувал просторную, старого покроя хламиду, трепал отброшенные на затылок вьющиеся на концах светлые волосы. И никто, взглянув на него, не поверил бы, что этому мужу уже перевалило за середину человеческого возраста.
Рассветало. Сверкающая корона Гелиоса сказочно выплывала из перламутровой раковины небес. Трепетные лучи вырывали зубчатый изгиб бухты. За каменной линией мола едва покачивались мачты, напоминавшие голые зимние деревья. В глубине за ними просматривались прямоугольные каменные строения с симметрично расположенными дощатыми воротами. Засверкали крыши – черепичное море, подступавшее к замыкавшим горизонт сиреневым горам.
– Что это за берег, Абибал?! – воскликнул длинноволосый, приблизившись к кормчему. – Не сбился ли ты ненароком с пути?
Кормчий обиженно тряхнул седой головой:
– Может, для кого другого, Пифагор, все берега и все моря на одну мерку…
Пифагор прервал его прикосновением:
– Прости меня, друг. Но я, право, не узнаю своего Самоса. Где милые сердцу рыбачьи хижины, где колья с развешанными сетями, где помнящая мои пятки палестра? Над Астипалеей, если это она, я вижу восьмиколонный храм. Левее вместо горы Ампел какая-то другая, словно бы укороченная. И вот эта гигантская статуя. Мне кажется, будто у нее светятся глаза. Наконец, музыка в такую рань. Не остров ли это феаков?[4]
Обратив лицо к берегу, кормчий прислушался.
– Да, музыка… Опять какой-то праздник. В глазницах Астарты драгоценные каменья ценою в талант[5] каждый. Напуганная их блеском рыба покинула бухту. Мелек отселил рыбаков на северное побережье, а на месте поселка построил эти огромные доки для кораблей, насыпал волнолом, такой же, как в Тире.
Пифагор слушал, внимательно переводя некоторые финикийские слова на родную речь. Финикиец называл Афродиту Астартой, а тирана – мелеком. Но уход рыбы из-за блеска драгоценных камней! Не басня ли это корабельщиков, подобная тем, какие болтун Гомер разбросал по своей Одиссее? Перенести в другое место целый поселок, соорудить такой мол, превратить статую в маяк… Кому это нужно? На что замахнулся этот человек! Конечно же в Азии в эти же годы произошли не менее разительные перемены. Исчезли многие царства. Разрушены великие города. Власть над половиной континента Азии досталась персам, народу, ранее мало кому известному. Но Пифагор, свидетель многих из этих перемен, наивно верил, что они обошли его Самос и он, возвратившись на родину, найдет остров таким, каким его оставил два с лишним десятилетия назад.
– Как имя мелека, о котором ты говоришь, Абибал? – спросил Пифагор.
– Поликрат… Насколько я понимаю, на твоем языке это означает «Всесильный».
– Да, – подтвердил Пифагор, – почти точно. Но как этот человек достиг могущества? Что дало ему такую силу?
– Конечно же самояны! – отозвался Абибал не сразу.
– Самояны? – протянул Пифагор. – Что это такое?
– Суда типа наших гаул, но несколько шире корпусом, с третьим косым парусом на верху задней мачты, двумя кормовыми веслами, – пояснил финикиец. – Их снаряжают в этих доках и спускают в бухту едва ли не каждый месяц. Кто теперь назовет эллинские суда плавающими лоханями! Самояны принесли твоему острову богатство и процветание, сделав его жемчужиной Икарийского моря и всей Эллады. Ведь самояны теперь по всем морям хрюкают.
Лицо Пифагора вытянулось.
– Хрюкают? – повторил он.
Абибал рассмеялся.
– Это мы так говорим. Ведь корабельные носы самоян завершаются свиными рыльцами, такими же, как днища самосских амфор. Фараон Амасис, если верить молве, посоветовал Поликрату заменить их на что-либо другое, ведь для египтян, как и для евреев, свинья – нечистое животное. Но тот будто ответил, что эти «свиньи» принесли ему счастье и власть. И впрямь, как бы он без самоян превратил в рабов обитателей островов, которые вы называете круговыми?[6] Теперь они исправно платят ему дань. Их трудом пробита гора, и через нее пропущена целая река.
– Что я слышу! Сквозь гору?! Совсем как в Иерусалиме?! И это на моем заброшенном Самосе! Видимо, и впрямь надо надолго расставаться с отечеством, чтобы оно могло тебя удивить!
– Можно было бы еще многое порассказать, – перебил Абибал. – Но вот уже твой берег. Как только сойдешь, я сразу отчалю. Если понадобится помощь, моя посудина будет здесь в следующее новолуние.
Пифагор, подхватив полотняный мешок, шагнул к сходням.
– Ты и так из-за меня отказался от плавания в Картхадашт и терпишь убыток.
– О чем ты говоришь, господин мой?! – взволнованно произнес финикиец. – Ты вернул к жизни моего первенца, и моя жизнь принадлежит тебе. Знай, что нет услуги, которой бы я тебе ни оказал. И она будет мне радостью, а не обузой.
Сходни, подтянутые дюжими руками, скрылись за бортом. Суденышко, мгновенно развернувшись, показало берегу корму. Последний раз блеснула седина Абибала. Пифагор перекинул котомку за спину и побрел по набережной навстречу все громче звучащей музыке.
Праздник Геры
Пифагор шагал по молу, обходя судно, застопоренное на очищенных от коры стволах. Нижняя его часть у киля блестит древесной слезой, на верхней, свежевыкрашенной, выделяются выписанные белым, никому не понятные иероглифы. На выгнутом дугой носу рядом с фигуркой бегущего кабана укреплена оливковая ветвь. Все говорит о том, что эта, судя по описанию Абибала, самояна предназначена в дар союзнику Самоса фараону.
Все отчетливее и призывнее звучали авлосы. И вот уже на мощеной дороге, повторявшей изгибы обозначенного прибоем берега, показалась священная процессия. Впереди шла верховная жрица в облике богини. Ее пеплос[7], переливаясь яркими красками, напоминал распущенный хвост павлина. Над обнаженными, покрытыми жемчугами и драгоценными камнями руками жрицы возвышалась чаша из красного электра[8] в форме ладьи с высоким носом и тремя лилиями вместо парусов. Венок на голове женщины сверкал литыми золотыми колосьями. Ниспадавшие из-под него светлые волосы свободно и мягко ложились на обнаженную шею. Стайки мальчиков и девочек, двигаясь справа и слева, размахивали ветвями ивы и пели:
Славься, владычица всеблаженная,
Под именами известная разными:
Тем, кто на Ниле родился, – Исидою,
Перворожденным фригийцам – Кибелою,
Критянам – Артемидой Диктиною,
Нам же – божественной матерью Герою.
За жрицей пестрой и шумной толпой двигались ряженые – в масках кукушек, с клювами и хохолками, в коричневатых с желтыми разводами гиматиях. Они одновременно опускали и поднимали полы, выкрикивая: «Ку-ку!» За «кукушками» с пляской шли обнаженные храмовые рабыни. В серебряных зеркалах, прикрепленных к их спинам, перекатывались, подобно медным шарам, смазанные жиром груди с позолоченными сосками, и вместе с ними плясало и переливалось во всей пестроте восточное сладострастие, не совместимое с именем той, которую эллины, а до них пеласги считали супругою Зевса и хранительницей святости брака.
Священную процессию замыкали авлеты. Прижатые к губам авлосы согласно выдували знакомую Пифагору с детских лет гулкую, дробную мелодию, которую называли «снопом», но звучала она менее стремительно и более протяжно, словно бы в нее каплями вливался тягучий, как мед, лидийский лад.
«Вот она, моя Итака, в бурном море перемен, – напряженно думал Пифагор. – О, как же не похож этот праздник на тот, что описан Асием! Владычица перестала быть одинокой. Гармония сделалась сложнее и запутаннее. И как постигнуть ее слагающие! Как вычислить формулу этих перемен и понять их смысл?»
Внезапно все умолкло. Скрылась бухта. Глазу открылся песчаный, ничем не защищенный берег с перемежающимися наподобие сосцов Кибелы холмами. Вместо посоха в руке Пифагора оказался меч необычайной формы, и он явственно ощутил тяжесть доспехов. Взгляд привлек зеленый островок. Из-за островка в нескольких стадиях от берега вышли корабли. Ветер надувал их розовые от заката паруса. «Ахейцы! – мелькнуло в мозгу. – Надо предупредить Приама».
Видение исчезло так же мгновенно, как и появилось. Слух наполнился гулкими ударами молотов, выбивавших клинья на бревнах. Киль под ликующие вопли заскользил по бревнам, и самояна, как утка, закачалась на волнах.
И вдруг неожиданно для себя Пифагор запел, сначала тихо, про себя, а потом все громче и громче. Один из устроившихся в тени платана игроков в кости, кинув на утоптанную землю астрагал[9], удивленно пробасил:
– Слышь, как подпевает босоногий.
Сказав это, он, кажется, лишь увидел поющего Пифагора, но не вслушался в его песню, ибо даже подвыпивший по случаю праздника гуляка должен был понять, что рожденная голосом незнакомца мелодия не имеет ничего общего со звучащим в отдалении пеаном[10], а если бы пение услышал человек, наделенный воображением и музыкальным слухом, он с первых же тонов понял бы, что мелодия не похожа ни на одну из когда-либо звучавших и, более того, что она выражает истинную, скрытую от непосвященных суть богини, которую ионийцы называют Герой, а обитавшие до них на острове лелеги – Керой, что на их языке означало «корень».
«Откуда этот напев? – думал Пифагор, двигаясь в обход агоры к улице Древоделов. – Не от испарений ли от этой древней земли? Или его нашептало море, по которому плыл Орфей? Видение опять вернуло меня к первому из моих земных существований. Ахейцы совершили очередной набег на Трою. А что стало с моей Парфенопой, где она закончила свои дни? И долго ли можно еще жить, оставаясь в неведении? Как раскрыть эту обжигающую тайну? Уже видны ворота. Нет, не Скейские[11], а Кузнечные».
Сердце Пифагора защемило. Взгляд выхватил старый дом, сиротливо зажатый между двумя новыми с башенками по углам. Тот же матовый цвет стен. Гнездо на шесте у кровли. Аист повернул белую, как гипс, голову и что-то невнятно прокричал. «Тот ли это аист, что меня напутствовал, или его сын? – думал Пифагор. – И сколько лет живут аисты? Воюют ли пигмеи с аистами или журавлями? Вопросы! Вопросы!..»
Отец
Послышался знакомый с детства звук, напоминавший стрекотание кузнечика. Резец возвратил Пифагора в юность, словно бы и не было этих долгих лет скитаний и он снова сидит рядом с отцом, наблюдая, как под его пальцами в твердый камень вписывается изображение.
Пифагор толкнул дверь и охватил лесху беглым взглядом. Ларь с углами, сбитыми чеканной медью, деревянная скамья с растопыренными ножками, стены, украшенные керамикой с геометрической росписью. Стол у окна, и за ним сгорбленная фигура. Поседевшая голова, и над нею в солнечном луче столбик каменной пыли. «Но почему так пусто? Где же мать? Где брат? Неужели нас осталось двое?»
– Что же ты медлишь, Пифагор? – послышался голос отца. – Ну вот я и дождался тебя. Но мать… – голос задрожал.
Пифагор бросился к старику, подхватил его вместе с сиденьем, прижал к груди.
– Довольно, отец, – произнес он нежно. – Помню я тебя насмешливым, гневным, нежным, решительным, раздраженным… однажды, на свадьбе брата, пьяным. Плачущим – вижу впервые.
Мнесарх смахнул со щеки слезу.
– Сегодня утром я проснулся так, будто меня схватили за грудь и тряхнули. А до того я видел тебя в полудреме рядом с седовласым незнакомцем, лицо твое то возникало, то исчезало, ты спрашивал: «Не остров ли это феаков?» Раньше со мной такого не случалось!
– Да. Порой открывается нечто, во что верится с трудом. К таким явлениям ныне устремлены мои мысли.
Пифагор опустил голову.
– Что нет матери, я понял сразу. Но почему ты один? Где наш Эвном? Неужели и он?!
Мнесарх попятился к выходу, и стало слышно, как крюк с жалобным скрипом входит в желоб наружной двери.
– Твой брат – беглец, – проговорил он, возвратившись, – Эвном присоединился к изгнанникам. Хотел взять с собой и меня, но я верил, что ты жив. Почти каждый день, когда не было работы, ходил в гавань.
– Погоди, отец. Объясни, что угрожало Эвному? От кого он бежал? О каких изгнанниках ты говоришь?
– Поликрат! – почти выкрикнул Мнесарх. – Второй Минос[12] и страшилище морей! Раньше у каждого, высаживающегося на ближние и дальние побережья, спрашивали: «Не разбойник ли ты?», а теперь: «Ты самосец?» Из-за Поликрата многие покинули остров, а некоторых он выслал. Разорены геоморы[13]. Отнятыми у них землями и рабами вознаграждены ничтожные людишки и жадные до чужого добра пришельцы. Раньше в саду Астипалеи звучали кифары, ныне все заглушает боевой клич упражняющихся критских наемников. Поликрат захватил власть с дюжиной воинов, а удерживает ее, содержа тысячу.
Мнесарх, задохнувшись от волнения, замолк и через мгновение продолжил:
– Помнишь Феспида?
– Как не помнить? Это было первое в моей жизни плавание на соседнюю Икарию. Как возвышенно он пропел нам свои стихи! И даже вкус яблок его помню. Яблоня с большим дуплом прямо у дома росла. В дупле я любил прятаться. Детская память цепка.
– Так вот. Навез Поликрат на наши острова наксосских коз. Они Икарию превратили во вторую Рипару. Ты знаешь, я человек некровожадный, но всех бы коз переколол. Да нет, – он засмеялся, – вкопал бы два столба и к ним большую доску приколотил с надписью: «Хайре, прохожий! Убил ли ты козу?»
– А с Феспидом-то что?
– Куда-то уехал. Выжили его козы. А о нашем городе что тебе сказать? Распущены священные филы[14]. Город теперь разделен по тысячам, назначены тысячники, им кроме сбора податей поручена слежка. В конце каждого года мы сообщаем о своих доходах и отдаем тирану их десятую часть, словно Аполлону. Когда будешь отмечаться у нашего тысячника, не говори лишнего. О бегстве Эвнома ему неизвестно. Сопровождая торговые суда в Кирену, Эвном, как мне стало известно, привел свою триеру в Пелопоннес.
Пока это удается скрывать. Но надолго ли? Вот так мы живем. Пугаемся собственной тени. Всюду соглядатаи. Поначалу твое решение повидать мир…
– Это не так, отец! На чужбину меня погнало не любопытство, не жажда странствий.
«Бедный мальчик…» – подумал Мнесарх.
– Вовсе не бедный, – возразил Пифагор, прочитав мысли отца. – Да пойми же наконец, мог ли я здесь жить спокойно, когда об Илионе распространяют всякую напраслину?!
– Да, – обреченно проговорил Мнесарх. – Но ты еще ничего не рассказал о себе. Где ты был все эти годы, у кого и чему учился? Впрочем, одного твоего учителя я знаю. Он был здесь и интересовался тобою.
– Так ты знаком с Ферекидом Сиросским! Да, я сначала побывал на Сиросе. А потом… Мне легче назвать страны, где я не был. А не посетил я Египта и лежащей за ним пустынной Ливии, а также сожженной Гелиосом Эфиопии. Не был в Тиррении и в землях живущих к западу от нее варваров. Также не испытал леденящего скифского холода. Главная наставница моя – природа – беседовала со мной на языках камней, животных и растений. Смысл ее поучений казался поначалу темным. И как будто лишь теперь я начинаю понемногу постигать отдельные отрывочные слова ее дружественной и одновременно враждебной нам речи. Потребовались Геракловы труды. Меня гнало от одной науки к другой, от учителя к учителю. Я, как птенец, ненасытно поглощал вкладываемую в меня наставниками мудрость, пока у меня не отросли крылья и не появилась тяга к полету.
– А потребности завести свое собственное гнездо ты не почувствовал? – нетерпеливо перебил Мнесарх.
– Если имеешь в виду семью – нет. Но я чувствую себя созревшим для создания школы, где сыновей заменят ученики. Их будет волновать не имущество учителя, а только то, чему глупцы и невежды не придают значения, – знания, опыт, искусство красноречия. Я вернулся, чтобы создать такую школу здесь, но все то, что ты рассказал, меня настораживает. Не придется ли отправляться с веслом на плече к каким-нибудь варварам, никогда не видевшим моря, и идти, пока не спросят: «Куда же ты, чужеземец, собрался с лопатой?»
Мнесарх поднял глаза.
– Гера милостива! Оберегла от варваров, – может быть, услышав наши мольбы, и от Поликрата избавит.
– Но не будь Поликрата, Самосом, как всеми другими ионийскими городами, владели бы персы! Стоит ли обращаться к Гере с подобной мольбой? Просто, по обычаю предков, воздадим ей хвалу. Я к этому уже готов.
– Не торопись, мой сын. Надо же тебе отдохнуть с дороги, а мне купить ягненка или поросенка.
– О нет, кровавых жертв я не приношу. Я видел во дворике куст пылающих роз. Этого достаточно.
Священная дорога
Сразу же за воротами по обе стороны дороги, прорезавшей заболоченную низину, замелькали гробницы с квадратными и овальными стелами, обращенными в сторону города. На самом древнем из городских некрополей нашли упокоение почтеннейшие из геоморов. Засохшая трава, отбитые углы живо дополнили рассказ отца об изгнанниках, лишенных отцовских могил.
Они остановились у одной из стел. Пифагор, наклонившись, прочел вслух:
– «Иадмон, сын Филарха, радуйся!»
Мнесарх прикоснулся пальцами к выщербленному краю.
– Радуйся… – произнес он с горькой усмешкой. – Знал бы ты, мой благодетель, кто владеет твоими угодьями под Керкетием и где скитаются твои сыновья и внуки. Знал бы ты, что на твоей могиле нет ни лент, ни окропленных благовониями восковых цветов, а обезображенная стела покрыта птичьим пометом… Сам Гермес не отыщет того, кто носит смарагдовый перстень, который я вырезал для тебя. И кто о тебе помнит?
Пифагор неожиданно рассмеялся.
Лицо Мнесарха вытянулось.
– Не говори так, отец! Месяц назад в Китионе подошел ко мне оборванец, обосновавшийся рядом с моим гостеприимцем и знавший, что я самосец, и спросил меня с ухмылкой, как поживает Иадмон.
– Не может быть! – воскликнул Мнесарх. – Как могут знать Иадмона на Кипре, если он забыт у себя на родине?!
– Да ты послушай! – продолжал Пифагор. – Из дальнейших слов этого бродяги я понял, что Иадмон и его раб фригиец Эзоп стали героями сочиненной каким-то бездельником басни, будто первый – дурень и нечестивец, а второй – умник и острослов. Черни захотелось иметь собственного героя. Кто гордится царем Кекропом, а кто – рабом Эзопом! Впрочем, на Востоке об Иадмоне ничего не слышали, но едва произнесешь, что ты самосец, как начнут склонять лисицу с зеленым виноградом, волов и кряхтящую телегу или чурбан, ставший царем у лягушек. Таковы причуды молвы!
Дорога постепенно заполнялась людьми. Загорелый рыбак тащил на плече белого персидского петуха, молодая женщина – голубя в клетке, пастух за спиною – барашка, старец под мышкой – гуся: дары за спокойное море, за рождение первенца, за удачный приплод. Все торопились встретиться с богиней.
Вскоре открылся Имбрас, ранее скрывавшийся за городской стеной. Извиваясь голубой змейкой, поток полз к заливу. С противоположного, плавно поднимающегося к горам берега донесся свирепый лай. Огромные молосские овчарки сгоняли овец в курчавые, меняющие очертания прямоугольники.
Пифагор недоуменно пожал плечами:
– Овцы на угодьях Геры? Помнится, здесь до самого моря тянулись грядки. Самосскую капусту хвалили даже лучшие эллинские огородники – мегарцы.
Мнесарх махнул рукой.
– Стада повсюду. Что Поликрат сделал с нашим островом! Ты не увидишь и наших знаменитых виноградников. Овцы завезены из Азии и Аттики, козы – с Наксоса. И эта зараза за десятилетие исковеркала все. Люди забыли запах свежевспаханного поля. Видишь ли, овцы и козы дают больший доход. Самосские пеплосы и гиматии ныне соперничают с милетскими, дешевые сосуды с самосским клеймом идут нарасхват. Раньше славились самосские розы, теперь – самосские козы.
– Козы?
– Ну да. Так называют обработанные козьи кожи для письма, вытеснившие из оборота египетский папирус даже в соседних с Египтом странах.
Солнце начало припекать, и путники свернули к одиноко белевшему среди кипарисов каменному столбику, увенчанному горделиво вздернутой юношеской головкой.
– Будь благословен, сын Майи, – проговорил Мнесарх, протягивая к герме руки.
Повернувшись к сыну, он сказал:
– Присядем. Сам Гермес указал нам место для отдыха.
Они устроились на смоковнице, судя по всему, поваленной бурей. Мнесарх тяжело дышал.
– На днях тебе станет легче, отец, – произнес Пифагор озабоченно. – В атмосфере нарушено равновесие. Дождь вернет дыхание.
Мнесарх удивленно взглянул на сына. На небе не было ни облачка.
На дороге появилась стайка девушек. Они непринужденно болтали и смеялись. Одна из них, самая молоденькая, неожиданно остановилась. В ее обращенном на Пифагора взгляде вспыхнул восторг. На светлом, с высоким белым лбом лице выделялись продолговатые глаза темно-каштанового цвета.
– Прекраснейший из мужей, подари мне твой цветок, – проговорила девушка.
– Прочь, бесстыдница! – крикнул Мнесарх. – Портовые девки… – небрежно бросил он. – Их квартал в пригороде, на месте старой палестры, называют самосской клоакой. Он известен всем мореходам от Боспора Киммерийского до Сикелии.
– Что ты застряла?! – прокричала одна из ушедших вперед подруг.
Девушка, словно очнувшись, поспешила на ее зов.
– Как она чиста и миловидна для блудницы, – проговорил Пифагор, глядя девушке вслед. – И конечно бы она получила цветок, если бы Гера благоволила к четному числу.
– Миловидна каждая девушка, пока Гера не превратит ее, как Ио[15], в корову, – раздраженно проговорил Мнесарх.
Они вновь вышли на дорогу.
– Скажи, отец, – проговорил Пифагор, – почему ты, не имея земель и обходясь без рабов, осуждаешь Поликрата за его меры против геоморов? Вспомни, что и в Афинах Солон, хотя он сам был знатного рода, лишил эвпатридов[16] их преимуществ. К тому же Поликрат спас остров от персов. Ведь на нашем Самосе нет залежей золота и серебра. Их заменили овцы и козы – для строительства самоян требовались деньги… Выходит, овцы спасли остров от персов.
– Не знаю, что тебе сказать.
– Вот я вижу – течет полноводный Имбрас, – продолжал Пифагор. – Если бы Поликрат не приказал пробить Ампел, река бы давно высохла и воды на столь разросшийся город могло бы не хватить. И конечно же без большого количества рабов такой труд не осуществить. Пришлось вести войну.
– Но Поликрат вел войну с эллинами! – вставил Мнесарх. – Рабами сделались не варвары, а лесбосцы. Среди них – представь себе! – был племянник Сапфо, и он не возвратился на свой остров.
– Видимо, погибло много других лесбосцев и нелесбосцев. Поликрат для обитателей Лесбоса и других неионийских островов хуже чумы; для ионийцев же, порабощенных персами, насколько я понимаю, он величайший из героев. Злодей и герой в одном лице! Такую двойственность можно обнаружить едва ли не во всем. В рассказах эллинов и варваров о богах и героях и об их противниках – титанах и драконах, если, конечно, повествователь не Гомер, есть много такого, что может быть сочтено выдумкой, но в выдумке немало правды, иногда высшей. Зло и добро, невежество и мудрость, вымысел и правда, женское и мужское – ни одно не может обойтись без другого, ему противоположного, создающего равновесие и рождающего гармонию. Но вот я вижу храм Геры. Прервем нашу беседу до поры.
Герайон
Остов огромный разобран на блоки,
Люди на известь их пережгли.
Я по Священной шагаю дороге,
Ноги мои по колено в пыли.
Но ведь не занято храма пространство,
И возникает в сознании он.
Здравствуй, мое Пифагорово царство
С мраморно-белым лесом колонн.
Святилище высилось на холме. Обращенное колоннадой к морю, оно сбегало к нему широкой гранитной лестницей. Вместо одного ряда колонн выросло пять, завершающихся изящными капителями. Фронтон заполнился мраморными, пестро раскрашенными фигурами. Левый угол его захватил полулежащий бородатый муж с рожками на курчавой голове. Конечно же это поток Имбрас. Центр заняла ива с раскинувшимися по обе стороны ветвями, образующими некое подобие шатра. В нем – изображенная по пояс женская фигура. В благословляющем жесте руки, в сдержанном повороте украшенной диадемой головы ощущалось величие. Гера выходила из земли, поддерживаемая двумя девами. В правом углу полулежала обнаженная молодая женщина с флейтой – наверняка Окироя. Имбрас и его дочь – свидетели появления на свет великой богини, покровительницы Самоса.
«О, как же это все не похоже на храм Феодора! – размышлял Пифагор. – Утрачено гармоническое изящество геометрических линий. Треугольник, ключ вселенной, отягощен чуждой ему сценой. И разве чудо нуждается в свидетелях? С лица Геры ушла беспомощная, застенчивая улыбка, присущая старинным священным изображениям.
Прижатые, словно приросшие к телу руки, отделившись, приобрели женскую полноту. Азия не только захватила ионийское и эолийское побережья, она, перешагнув пролив, овладела душами новых самосских художников, презревших древний отеческий стиль».
Пифагор поставил ногу на ступень.
«Сколько потребуется столетий, чтобы она сравнялась с теми, истертыми», – подумал он и проговорил:
– Но это же другой Герайон.
– Конечно, другой, – отозвался отец. – От Герайона твоего детства не осталось и следа.
– Пожар? – спросил Пифагор.
– Началось это так, – нахмурился Мнесарх. – Вскоре после того, как Поликрат с дюжиной гоплитов[17] внезапно захватил акрополь, поддерживавшая его толпа рассыпалась по городу. Многие геоморы в надежде найти убежище бежали в Герайон, но преследователи отрывали людей от алтаря, выволакивали наружу и убивали. Великий храм сгорел от опрокинутого светильника. Гасить было некому.
– Какое несчастье!
– Тиран дал обет отстроить святилище, – продолжил Мнесарх. – Может быть, он будет богаче и краше прежнего, построенного Ройком[18] и украшенного Феодором, но разве то, что я пережил, можно забыть?
– Ты тоже скрывался в храме, отец?!
– Нет, в тот день я там работал вместе с Феодором. Учитель попытался преградить вход в храм и был раздавлен.
– А кто же этот Поликрат, ставший тираном? Чужеземец?
– Да нет, он коренной самосец, по отцу потомок Анкея. Ты должен помнить Эака.
– Припоминаю. Кажется, у него был сын Пантагнот по кличке Кривой.
– Это младший. А старшие, Силосонт и Поликрат, были наемниками на службе у фараона Амасиса. Пантагнота за строптивость Поликрат, придя к власти, почти сразу убил, а с Силосонтом несколько лет правил вместе, но потом избавился и от него, и тот отправился в Египет. Сейчас Силосонт на Пелопоннесе, где возглавляет самосских беглецов. Добивается власти, полагая, что по старшинству она должна принадлежать ему. Самосцы говорят о нем с уважением. Но что я все о Поликрате…
Отец и сын медленно поднялись по ступеням и через проход, образованный двумя пахнувшими кедровой смолой столбами (видимо, дверь еще не была готова), вступили в храм. Взгляд Пифагора нащупал поодаль грандиозный квадрат алтаря пепельного цвета и в центре его зеленеющую иву.
Пифагор приблизился к алтарю и положил на его край, рядом с кучей медовых лепешек, три розы. Затем, спустившись, он подошел к отцу, стоявшему среди богомольцев с чашами в руках. В их глазах Пифагор прочел удивление. Конечно же им никогда не приходилось наблюдать за таким жертвоприношением.
Обойдя алтарь, отец и сын прошли к главной святыне храма – ксоану[19].
– Взгляни! – воскликнул Мнесарх. – Огонь не тронул Геры.
– Но ксоан почернел, – отозвался Пифагор. – И вот трещина. Раньше я ее не видел.
Пифагор не мог отвести от ксоана взгляда. И на мгновение ему показалось, что из трещины вырвалось пламя и он уже не видит ничего, кроме пламени. Оно съело все вокруг. Исчез отец. Скрылось солнце. Над горизонтом угрожающе навис серп месяца. Пифагор ощутил сильный порыв ветра. Что-то больно ударило его по голове. В легкой дымке перед ним возник старец, прижавшийся спиною к могучему стволу дуба. От нового порыва ветра на землю градом посыпались желуди, загудели привязанные к ветвям рога.
– Тебе повезло, Эвфорб, ты избежал этой бури, – издалека послышался голос Анкея. – Смотри, в каком исступлении нынче море. Опоздай ты на день, твой корабль разнесло бы в щепки. Не иначе, тебя оберегала святыня. Передай царю, что его дар станет знаком вечной дружбы нашей Кипарисии с Троей и что мы, лелеги островов, не оставим братьев в беде.
– Ахейцы уже удалились, – проговорил Эвфорб не сразу, – Трое ничто не грозит. Беда обрушилась на нас с тобою. Это было перед той ночью, когда лик Селены покрылся копотью, как щит, повешенный над очагом в мегароне[20]. Парфенопа со служанками была на берегу. Она похищена…
Рев бури прекратился так же внезапно, как и возник. Наступила тишина. Рядом по-прежнему стоял отец. Пифагор уловил в его взгляде беспокойство.
– Да ты меня не слышишь? Что с тобой?
Пифагор встряхнул головой:
– Теперь слышу. Идем.
Они остановились перед раскрашенной деревянной статуей египетского стиля.
– А это чей дар? – удивился Пифагор.
– Не знаю. Его доставила Родопея, любимая наложница Амасиса. Девочкой была она на Самосе рабыней, а теперь – почетная гостья Поликрата. Вот до чего мы дожили.
– Взгляни, отец. В руках идола жезл и плеть. Это священное изображение фараона. Такого за пределами Египта еще не было.
– Но ведь Амасис – союзник Поликрата.
– Однако что его могло заставить пойти на такой шаг? Кажется, фараон уже не доверяет своим богам или опасается, что его священные изображения будут разбиты? Боюсь, что Поликрат вскоре окажется лицом к лицу с царем царей.
У выхода Пифагор оглянулся и обвел взглядом храм. Отыскав ксоан Геры, он зашевелил губами. Понимающий речь губ услышал бы его беззвучный пеан:
Радуйся, Гера Самосская, трижды священная,
Дар мой принявшая за возвращение!
Радуйся, радуйся, вечно живущая!
Агора
Видения обрушивались на Пифагора как ураган. Тогда ему начинало казаться, что все его поиски и занятия не имеют никакого смысла, и что-то безудержно тянуло в ту жизнь, где он был не мыслителем, а воином. Если каждое мгновение последней жизни, начиная едва ли не с младенческих лет, он мог вспомнить по дням и часам, то та, самая древняя, состояла из обрывков, и никто не мог ему помочь восстановить последовательность событий, участником которых он себя постоянно ощущал.
Взгляд, брошенный на ксоан, напомнил Пифагору давнее, еще в той, первой жизни посещение Самоса и встречу с Анкеем, о том, что он должен был посетить царя Мурсили. Но над каким народом тот царствовал? Где находилось его царство? Какова цель посольства? Об этом не было сведений ни у Гомера, ни у Гесиода, ни у Асия. Отыскать бы хоть какой-нибудь предмет из той жизни и сделать его своим проводником в прошлое! И он отправился на агору.
Агору охватывала каменная стена. У ворот взгляду открывался гелиотропий[21]. Люди равнодушно проходили мимо, не осознавая, что перед ними лик вечности. Пифагор вспомнил, как тридцать лет назад, еще мальчиком, он вместе с отцом, находясь в толпе, наблюдал, как рабы, которыми руководил седобородый муж, устанавливали эту причудливо расчерченную плиту. Отец шепнул: «Запомни – это мудрец Анаксимандр. Гелиотропий – копия того, что он установил у себя на родине, в Милете».
На всю жизнь врезался в память облик этого человека – с окладистой бородой, лбом, испещренным морщинами, размеренными неторопливыми движениями, и он ему показался тенью самого времени. Позднее, во время своих странствий, Пифагор увидел такие же часы в Вавилоне и узнал, что там они появились на столетие раньше. Но все равно, был ли Анаксимандр изобретателем или подражателем вавилонян, гелиотропий стал для юноши подлинным чудом света, первой моделью космоса. Пространство и время на этой каменной доске находились в полном соответствии – ведь ее деление на двенадцать частей выражало соотношение времени и пространства. Передвижение гномона от одного деления к другому зимой указывало на одну величину, летом – на другую.
Позднее, уже на Спросе, Пифагор услышал от первого своего учителя Ферекида о величайшем из открытий, сделанном тем же Анаксимандром, – о том, что Луна – потухшее тело, отбрасывающее заемный свет Гелиоса. Тогда он сразу написал Анаксимандру, но получил ответ от его ученика Анаксимена о кончине учителя.
Миновав ворота, Пифагор окинул взглядом агору, столь не похожую на шумные финикийские базары. Не слышалось обычных выкриков. Господствовал установленный смотрителями порядок. Вскоре он оказался у столика менялы с разложенными на нем монетами разных городов, в просторечье именовавшимися по выбитым на них изображениям дельфинами, пчелками, львами, колосками. Столик словно бы охватывал весь эллинский мир – не только ближайшие полуострова и острова, но самые отдаленные области, куда уже проникла эта новинка, видимо, не случайно изобретенная одновременно с гелиотропием.
Заметив внимание к своему товару, меняла подошел к Пифагору и стал его убеждать, что дешевле он нигде не совершит обмена.
Пифагор поспешил отойти, понимая, что здесь ничто не напомнит о жизни в Илионе, которую он силился восстановить, но меняла не унимался:
– Я могу перевести твои деньги в Эфес, Милет, Афины, куда тебе угодно, даже в Сиракузы, и всего за пять на сотню.
Пифагор ускорил шаг.
– За три на сотню! – крикнул меняла вдогонку.
Больше всего народа толпилось в рыбном ряду. Здесь был выставлен только что вытащенный улов, и самосцы, обступив корзины, перебирали скользких, бьющих хвостами и шевелящих клешнями обитателей морских глубин.
Заглядевшись, Пифагор едва не столкнулся с критским наемником в доспехах, несшим в шлеме яйца и зелень.
– Не скажешь ли, приятель, где тут лавка оружейника? – обратился он к воину.
– Вон там, за скотными рядами, – отозвался тот на ходу.
Лавка оружейника была пуста, и хозяин ее полудремал.
При виде Пифагора он вскочил и стал нараспев расхваливать свой товар.
– Вот мечи из лаконской стали! Вот копья! Щиты коринфской работы, дешевле, чем в самом Коринфе! Поножи с Кипра! Фиванские шлемы! Превосходный критский лук и самшитовые стрелы! Вооружу на любую войну!
Пифагор взял в руки меч.
– Оружие прекрасное. Но оно для современного боя. А нет ли у тебя в продаже старинных пекторалей и боевых топоров?
– Старья не держим. Но если для забавы, а не для боя… Видишь, вон там, в конце ряда, лавка. Там скупают металл для переплавки. Может, что отыщешь.
Лавка старьевщика в полной мере соответствовала своему названию. За каждым из многочисленных предметов, разбросанных на полу и развешанных по стенам, была своя долгая жизнь, теперь уже никому не интересная и не нужная. Это было кладбище быта, по которому можно представить, как изменялась жизнь на острове за двести, если не более, лет. Котлы, топоры, сломанные ободы. Поначалу ни один из этих предметов не вызвал у Пифагора никаких воспоминаний о прошлой жизни. Но вдруг его взгляд остановился на валявшихся за прилавком слитках, напоминавших по форме бычьи шкуры.
Заметив взгляд Пифагора, торговец поднял один из слитков и положил на прилавок.
– Сегодня утром приволокли ловцы губок. Никто не знает, что это такое, но вещи явно древние. У Паруса в старину, как и ныне, разбивалось много кораблей. Металл хороший, чистая медь. Можешь вделать в дверь и отчеканить свое имя…
Старьевщик продолжал говорить, явно не догадываясь, что перед ним древнейшие деньги и что на одну из таких плиток в старину можно было бы приобрести полное воинское снаряжение.
Голос его постепенно стал затихать, пока совсем не исчез, и Пифагор перенесся в милый ему мир.
– Не рискуй, Эвфорб! – явственно услышал он голос Анкея. – Видишь, как кипит море. Корабль вот-вот расколется. Тебя смоют волны.
– Но мне нужны крепкие мечи. Алашия вновь не расщедрится. Кетейский царь в долг ничего не даст. Конечно же всех бычков мне не увезти, но хотя бы часть.
– Так что же ты молчишь? – донесся голос старьевщика. – Вещь-то стоящая.
– Я возьму одного бычка, – проговорил Пифагор, протягивая торговцу драхму.
Клисфен
По пути к дому Пифагора остановил муж лет двадцати пяти. Мягкий петас с загнутыми наверх краями открывал высокий лоб и темные волосы, стянутые сзади в тугой узел.
– Скажи, как добраться до Герайона?
Пифагор повернулся к городской стене.
– Видишь эти ворота? За ними начинается Священная дорога. Она прямиком приведет в храм. Он на островке в устье реки.
– А мне говорили, что храм на агоре, – удивился чужеземец.
– В старину располагали храмы подальше от обмана не только у нас, но и у тебя в Афинах.
– Как ты догадался, что я из Афин?
– По выговору.
– Да, ты не ошибся. Будем знакомы. Меня зовут Клисфеном.
– Какое великое имя! – воскликнул Пифагор. – Еще в юности я восторгался Клисфеном, властителем Сикиона, узнав, что им запрещено публичное чтение Гомера. Конечно же у меня и у твоего тезки разные причины возмущения Гомером. Сикионец ненавидел Гомера за то, что городская знать считала его героев своими предками и требовала на этом основании почетных привилегий, я же не прощаю Гомеру того, что он навязал нам Трою, войну, какой не было.
– Мне приятно твое суждение о Клисфене, – произнес афинянин. – Это мой дед по матери. Должен тебе, однако, заметить, что отец мой, будучи ненавистником Писистрата, отнявшего власть у порядочных людей, одобрял его распоряжение о записи песен Гомера, и не только потому, что слепец воспел нашего прародителя Нестора, – с Гомера началась эллинская поэзия. И еще он хвалил Писистрата за открытие библиотеки.
– О библиотеке слышу впервые! – перебил Пифагор. – Интересно, много ли в ней свитков и как они достались Писистрату?
– Этого не знаю. Писистрат отправил нашу семью в изгнание еще до открытия библиотеки. Я из рода Алкмеонидов.
– Я это понял из твоих слов о Несторе. Наш Поликрат также изгнал знатных самосцев.
– Ты не назвал своего имени.
– Пифагор, сын Мнесарха.
– Меня, Пифагор, заинтересовало твое столь необычное суждение о Гомере. Ты говоришь, что его описание Трои ложно. Какой же, по-твоему, была подлинная Троя, которую осаждали ахейцы?
– Осаждали! И ты веришь этой басне?! – воскликнул Пифагор. – Откуда бы у варваров взялись силы для осады великого города? Они лишь совершали набеги на Троаду.
– Так ты считаешь, что не было войны? – растерянно проговорил Клисфен.
– Поразмысли сам: откуда Гомеру могло быть известно об осаде и взятии Трои? Ведь он муж настолько незнатного происхождения, что даже постыдился назвать своих родителей.
– А ты, я вижу, из геоморов! – обрадовался Клисфен.
– Нет, я не из геоморов. Но по матери мой род восходит к кормчему «Арго» Анкею. По возвращении из Колхиды Анкей возблагодарил Геру за помощь в плавании и воздвиг владычице храм из стволов кипариса. Остров тогда назывался Кипарисией. Если ты хочешь узнать об Анкее, прочти поэму Асия. Не знаю, имеется ли она в библиотеке Писистрата, но у нас ты ее легко найдешь.
– У меня мало времени. Видишь ли, после кончины моего отца Гиппий и Гиппарх, сочтя, что я им неопасен, разрешили мне вернуться в Афины. Но кто знает, что на уме у тиранов и не придется ли мне снова бежать из Афин, бросив все. Вот почему я решил оставить деньги на приданое дочерям здесь, где часть своего состояния хранил отец моей матери.
– Как! У тебя уже дочери на выданье?! – удивился Пифагор.
– О нет. Старшей – пять, младшей – три, но дети, как цветы, растут быстро, и, если не позаботиться о них сейчас, дочери могут остаться бесприданницами. Если у тебя будет время, а я удержусь в Афинах, давай встретимся и продолжим нашу беседу там.
– С удовольствием. И как тебя найти?
– Сначала дома нашего рода были на акрополе. Теперь же тебе придется идти в Керамик, и там любой скажет, где мое пристанище.
Ливень
Такого ливня на Самосе не помнили старожилы. И от отцов своих о подобном не слыхивали. Удивительнее же всего было то, что дождь захватил только один остров, а на ближайшем к нему материке и на соседней Икарии не выпало ни капли Зевсовой влаги.
Ливень внезапно начался на рассвете и безжалостно хлестал весь день прямыми струями. По улицам к гавани неслись грозовые потоки, и каждый дом превращался в островок. С кровельных черепиц и уличных камней смывалась вековая пыль. На валунах, каких на Самосе великое множество, обнажались невидимые трещинки, и эти громады, казавшиеся ранее безликими, обретали человеческий или звериный облик. Это было врезавшееся в память самосцев великое очищение, и долго после него можно было слышать: «За год до ливня» или: «Через год после ливня, предвестника слез». Поэтому и возвращение Пифагора многие самосцы впоследствии связали с этим событием. Не зная о том, что он появился незадолго до него, говорили: «Он пришел вместе с ливнем».
Под шум капель Пифагор перечитывал единственный сохранившийся в доме свиток – трактат Феодора об архитектуре. Его привлек раздел о соразмерности. Феодор, пользуясь законами геометрии, открытыми вавилонянами, перенес в строение храма пропорции человеческого тела. Так же как вавилоняне, он считал совершенным числом шестерку, исходя из того, что ступня составляет шестую часть тела. Ему была совершенно незнакома десятичная система, открытая индийцами и позволяющая пойти в познании устройства мира куда дальше, чем при счете дюжинами. «Десятка! – думал Пифагор. – Великое, совершенное и все производящее число в божественной и небесной, равно как и в человеческой, жизни. Без него все беспредельно, неосязаемо и невидимо. В нем – гармония космоса. Оно несовместимо с завистью и обманом».
– Подойди ко мне! – послышался голос отца, и сразу же звякнул увеличительный хрусталь. Заскрипел отодвигаемый стул. Мнесарх встал.
Пифагор отложил свиток и подошел к столу:
– Можно взглянуть?
– Сейчас.
Отец погрузил кольцо в чашу с водой и обтер его полой хитона.
– Вот, взгляни!
К своему удивлению, Пифагор увидел на камне, как ему показалось, мифологическую сцену. Обнаженные тела, слившиеся в экстазе, были совершенны.
– Ты превзошел себя, отец! – воскликнул он, продолжая вглядываться. – Но скажи, кто эта красавица, привлекшая Пана?
– Эго не Пан. И не сатир. Видишь, голова без рожек? Перед тобой гетера с заказчиком, предложившим мне свой сюжет.
– Интересно, кому же захотелось иметь такой перстень? Конечно же не купцу, не мореходу, не…
– Не ломай голову. Подобный каприз мог возникнуть только у поэта.
Пифагор положил перстень на край стола.
– Тебе известны его стихи?
– Нет, но он представился поэтом, и в этом нет сомнения, поскольку он гость Поликрата. Тиран все время приглашает к себе знаменитостей. На его содержании в Летипалее живут многие. Незадолго до твоего прибытия Самос покинул поэт Ивик, кажется региец. Наш Асий, как понимаешь, не заказал бы такого перстня.
Пифагор улыбнулся:
– А если бы это и пришло ему в голову, кто бы мог в его время выполнить такой заказ? Резьба по камню, процветавшая в древности, возродилась лишь недавно.
Мнесарх вложил перстень в футляр.
– А заказчик лесбосец? – спросил Пифагор.
– Нет, беглец из ионийского Теоса, захваченного персами. Если он тебя интересует, можешь отнести ему его заказ. Старец каждое утро проводит в гимнасии.
– Старец? – удивился Пифагор.
– Он моих лет. Зовут его Анакреонтом. Он расхаживает по городу в сопровождении рыжеволосого юноши-красавца, тоже гостя Поликрата. Разное о них говорят.
В гимнасии
Дорогу к новому гимнасию не надо было спрашивать. Его пропилеи[22] издалека блистали мрамором колонн, выделяясь на фоне зеленой горы, которую Пифагор помнил с детства. Сквозь нее проходил теперь водный поток, охватывая гимнасий двумя рукавами и превращая его прямоугольник в полуостров.
Огороженное поле, полого спускавшееся к Имбрасу, занимали не более десятка атлетов, упражнявшихся в прыжках, беге и метании диска. Пифагор мгновенно определил того, кто ему был нужен, обратив внимание на юношу и старца, перебрасывавших друг другу мяч. Если он отлетал далеко, за ним вдогонку бежал мальчик лет четырнадцати. Тогда слышалось непривычное имя – Залмоксис.
Прошло немало времени, пока играющие обратили на Пифагора внимание, и старец, передав мяч юноше, приблизился.
Судя по седине и морщинам, ему было лет шестьдесят, но блестящие, коричневатого оттенка глаза придавали лицу юношескую живость.
– Не желаешь ли занять мое место? Эта игра, как и любовь, на троих не рассчитана. Мне же давно пора передохнуть.
Речь у него была чисто ионийской.
– Благодарю тебя, Анакреонт, – ответил Пифагор. – Но, право, ни в той, ни в другой игре у меня нет твоего опыта.
– Так ты знаешь меня? Откуда? Ты самосец?
Прочтя на губах собеседника непроизнесенные слова: «И где твои сандалии?», Пифагор улыбнулся.
– Мой отец Мнесарх посылает твой заказ.
– Триерарх![23] Я о тебе слышал! – воскликнул Анакреонт, меняя тон.
– Нет, не триерарх. Триерарх – мой младший брат Эвном. Я – Пифагор и покинул остров задолго до того, как ты здесь появился, еще до прихода к власти Поликрата. Вот твой перстень.
Анакреонт поднес перстень к глазам и радостно закричал:
– Метеох!
Юноша поспешно последовал на зов, и Пифагор оказался лицом к лицу с самим совершенством. Увлажненные недавним напряжением волосы, разделенные спереди пробором, ниспадая, подчеркивали матовую белизну щек и округлость подбородка.
– Взгляни! – обратился поэт к юноше. – Как раскинулась молодая кобылица на лугу Эроса!
Юноша скользнул по перстню рассеянным взглядом. Видимо, его мысли были заняты другим.
– Да посмотри же! Каков изгиб поясницы! Какая дымка страсти в глазах! Вот этим перстнем я буду запечатывать послания к тебе, если ты не раздумаешь уехать.
– Но ведь я должен навестить отца, – неуверенно проговорил юноша. – И вскоре вернусь.
– Должно быть, твой отец знатного рода? – вступил в разговор Пифагор.
– Его отец Мильтиад, владыка Херсонеса, страж проливов, в прошлом друг царя Креза, – ответил за юношу Анакреонт.
Пифагор, припоминая, наморщил лоб.
Метеох улыбнулся:
– Мне кажется, Пифагору должен быть известен афинянин Мильтиад, сын Кипсела, оказавший гостеприимство варварам, растерянно бродившим по городу в поисках своего будущего правителя.
– Вот именно! – обрадовался Пифагор. – За свое долгое отсутствие я стал почти чужестранцем. Удивительную же историю о юноше, сидевшем у порога и окликнувшем чужеземцев в странных одеяниях с копьями в руках и открывшем им двери своего дома, я услышал на Спросе от учителя Ферекида.
– О том, что долонки передали моему отцу изречение пифии, согласно которому они должны избрать своим вождем первого, кто окажет им гостеприимство, тебе известно, – проговорил Метеох с гордостью. – Так вот, тяготясь владычеством Писистрата, отец отправился вместе со своими новыми подданными и частью афинян на Херсонес и отделил перешеек стеною, чтобы защитить его обитателей от набегов непокоренных фракийцев.
– У этой стены мы и познакомились, – вставил Анакреонт. – И когда Мильтиад отправил Метеоха с дружеским посланием к Поликрату, я взялся его сопровождать.
– Залмоксис! – крикнул Метеох. – Собери мячи.
– Какое странное имя… – заметил Пифагор. – Если я не ошибаюсь, оно означает на языке крестонеев – есть во Фракии такое древнее племя – «затихший», «заснувший». Это слово имеет тот же смысл, что наш «медведь», поскольку животное уходит в долгую зимнюю спячку. Не правда ли, Залмоксис?
Мальчик оживился:
– Да-да, на нашем языке «залмоксис» означает «медведь». Лучше не называть его настоящего имени, чтобы он не явился.
– Вот так, друзья мои! В те годы, когда предки ионийцев бродили по горам в звериных шкурах и жили в шатрах, родичи Залмоксиса – это были пеласги – населяли города, частично до сих пор сохранившие пеласгийские названия. Да и Эллада называлась Пеласгией. Пеласги обучили охотников и скотоводов земледелию, ремеслам и письму. Нет, не тому, которым эллины пользуются сейчас, а письму пеласгийскому, кое в чем напоминающему египетские иероглифы.
– Убедительно, – с едва заметной улыбкой проговорил Анакреонт. – Но почему же исчез такой великий народ, столь превосходящий эллинов? Ведь от него должно бы было остаться что-то посущественнее, чем названия.
– И осталось, – сказал Пифагор. – Во многих местах Эллады можно увидеть полуразрушенные стены, искусно сложенные из огромных камней. Эллины называют их киклопическими, сочинив басню, будто это дело рук одноглазых великанов-киклопов. Эти стены возведены пеласгами, и кое-где этого не забыли: афиняне, сохранившие город с пеласгийских времен, до сих пор называют акрополь Пеласгиконом. Есть такие руины и у нас на Самосе. Когда вы будете входить в Астипалею, обратите внимание на лелегскую кладку с обеих сторон ворот.
– Лелегскую?
– Или пеласгийскую. Как тебе больше нравится, – продолжил Пифагор. – Ибо лелеги – одна из ветвей пеласгов, у нас на Самосе от них кроме части стены осталось пещерное святилище и дуб Анкея в горах.
Глаза Метеоха загорелись.
– А это далеко отсюда? Как туда попасть? – спросил он.
– Очень просто. Завтра можем отправиться туда вместе. И не забудьте захватить факел.
Пещера чисел
Явь – это круговращенье.
Все остальное – сны.
Жизнь – это возвращенье
По правилам кривизны.
Дряхлое вровень юному.
Свет возникает из тьмы.
И незримыми струнами
В мире связаны мы.
Кажется, только здесь да еще на поросших лесом кручах Керкетия, самой высокой горной гряды, не было слышно собачьего лая и блеянья овец. Но именно овцам эта долина была обязана своей прозрачной чистотой. Узнав, что животные любят сильфий и мясо их приобретает от него удивительный аромат, Поликрат, еще в то время, когда у него гостил изгнанный из Кирены тиран Аркесилай, приказал засадить долину этим знаменитым растением и огородить огромную плантацию забором, чтобы дать ему разрастись.
Берег ручья, вдоль которого вилась тропинка, зарос ирисом и асфоделью. Над цветами кружились шмели и осы, наполняя долину гудением.
Лощина пошла на подъем. Посадки сильфия оборвались. Тропа вывела на каменную осыпь, белизну которой подчеркивали склоны красноватого оттенка с редкими невысокими кустиками колючих растений. Тропинка становилась все круче. И вот путники – на площадке под кроной дуба-великана, рядом со скалой, зияющей неровным черным отверстием.
– Священный дуб Тина, – проговорил Пифагор, подходя к стволу, – Тином лелеги называли Зевса. Здесь они вопрошали его волю, тряся в горшке вместо жребиев желуди, здесь они принимали посланцев от других племен. А соседняя пещера не только укрывала от непогоды, но и была святилищем задолго до того, как у моря появился Герайон.
Узорные тени листьев пробегали по лицу Пифагора, придавая ему необыкновенную подвижность и одухотворенность. Его голос звучал глубоко и уверенно.
– Какой ты счастливец, Пифагор! – внезапно воскликнул Анакреонт. – Ты избежал страха.
Пифагор удивленно вскинул брови:
– Какого страха?
– Липкого, обволакивающего. Тебе не пришлось, спасаясь бегством, оставлять родной город, родные могилы. Сколько раз я вспоминал Бианта, советовавшего ионийцам переселиться на огромный западный остров Ихнуссу[24]. Только здесь, на Самосе, благодаря гостеприимству Поликрата мне удалось обрести спокойствие. Я стал под звуки кифары славить вино и любовь. Самос вернул мне способность радоваться. Это было подобно второму рождению.
– Могу тебя понять, – сказал Пифагор. – Поликрат сделал Самос скалою спасения для эллинов, обитавших в Азии. Но скала дает приют немногим, и, может быть, пора вернуться к совету Бианта?
Под холмом появился Залмоксис. Запрокинув голову, он смотрел вверх.
– Взгляни, как этот юный варвар похож на Диониса, – проговорил Пифагор.
– Да! – согласился Анакреонт. – В руке тирс[25]. И в поведении есть нечто сверхъестественное. Прошлой зимой этот юный раб проспал полмесяца, и мог бы больше, если бы его не разбудил Метеох. И, представь себе, в спячке он слышал все наши разговоры и сумел передать их слово в слово.
Раскачиваясь на ходу и, кажется, насвистывая и напевая, Залмоксис поднимался по тропинке, змеившейся среди редких пучков высохшей травы и колючего кустарника. Когда он остановился, блеснули глаза цвета лазурита. Его можно было бы принять за эллина, если бы не вздернутый нос и слегка утолщенные губы, которыми он сжимал стебелек сильфия.
– Кто твои родители, Залмоксис? – спросил Пифагор. – Расскажи о себе.
– Родителей я не помню. Меня подобрал младенцем охотник в лесу, точнее, в медвежьей берлоге. Я стал приемным сыном своего спасителя, крестонея.
Мальчик приподнял хитон, и открылась грудь с синими линиями рисунка: медведь на задних лапах с грозно разинутой пастью.
– Это его работа, – с гордостью произнес он. – Он был жрецом Бендис[26] и никому не доверял священных изображений угодных ей зверей. После гибели крестонея во время набега на херсонесских эллинов я оказался рабом.
Залмоксис отломил верхушку своей палки, оказавшейся полой, и принялся раздувать спрятанный там уголек.
– Оставайся здесь, – сказал Пифагор, когда мальчик зажег факел. – Придешь по моему зову.
Пифагор первым шагнул во мрак, за ним – Анакреонт и Метеох.
Мальчику было слышно все, что говорил Пифагор. Его голос, усиливаемый пустотой, приобрел необыкновенное, почти божественное звучание.
– «Почему я вас привел в пещеру?» – спросите вы меня. Во мраке вы лишены всего того, что потворствует обману его разума и служит источником заблуждения. Сюда не проникают лучи Гелиоса, катящегося по небу, подобно огненному колесу. На огромном расстоянии он видится окружностью, а на самом деле это колоссальный огненный шар, во много раз превышающий размеры Земли. Здесь не видно и звезд, которые кому-то кажутся гвоздями, прибитыми к небесной сфере, а это рассеянные в пространстве числа.
По шороху перекатывающихся камешков Залмоксис понял, что Пифагор перешел в дальнюю часть пещеры. Оттуда послышалось:
– Зрением и слухом обладают все населяющие землю существа. Каждое из них видит и воспринимает окружающий мир по-своему. Но только у человека есть некое мерило, позволяющее ему сопоставить наблюдения и ощущения, и ему для установления истины полезно порой оставаться во мраке и безмолвии.
Голос постепенно стихал, удаляясь, но через некоторое время он зазвучал явственнее.
– Небо подчинено всеобщему закону. В нем нет ничего оттого, что поэты именуют хаосом. Все небесные явления, отражающиеся в земной жизни, следуют с такой математической точностью, что мы в состоянии их предсказывать. Поэтому я называю мир космосом. Мне кажется, я знал об этом уже тогда, когда был Эвфорбом и сражался под стенами Микен с Менелаем.
Раздался шум перебивающих друг друга голосов. Пифагор и Анакреонт вступили в спор. Через некоторое время Пифагор позвал Залмоксиса.
Мальчик вошел в пещеру. Факел осветил земляной пол и неровные стены с потеками.
Отделившись от спутников, Пифагор сделал несколько шагов в сторону и поднес факел к стене.
На гладком участке стены проступили какие-то знаки.
– Так писали лелеги и фригийцы во времена моих предков, – торжественно произнес Пифагор, – Гомер как-то упомянул эти письмена, назвав их роковыми.
Анакреонт подошел поближе и провел пальцем по углублениям, оставленным резцом.
– О чем писали в те дремучие времена? Для меня это лишенные смысла палочки, крестики, кружочки.
– Это числа – единицы, десятки. Все нами видимое есть выражение числа, невидимого и вечного. Все сущее – воздух, вода, земля – вторично по отношению к числу. Исследуя числа, мы в состоянии понять не только расстояния, отделяющие нас от видимых и невидимых миров, но уяснить законы их возникновения и гибели. Что касается данного числа, то оно записано Анкеем. Под ним имеется плита – вы можете ее нащупать. На ней стоял ксоан Аполлона, находящийся ныне в Герайоне.
– Но откуда тебе, Пифагор, известно, что это надпись тех времен? – усомнился Анакреонт.
– Из видений, раскрывающих мои прошлые жизни. Иногда я вижу себя Эвфорбом, иногда – делосским рыбаком Пирром.
– Мало ли что может привидеться? – улыбнулся Анакреонт. – И я нередко себя вижу, задремав, в объятиях юной красавицы, покрывающей мою грудь страстными поцелуями.
– И ты, проснувшись, находишь их следы? Ведь нет? А вы видите на стене древние письмена. И вот еще…
Пифагор засунул руку под полу хитона и извлек оттуда небольшой слиток. Поднимая его, он проговорил:
– Этот предмет искатели губок вытащили со дна бухты близ скалы, которую называют Парусом. Вглядитесь. Это кусок меди, напоминающий бычью шкуру. Сравните – на нем те же знаки, что и на стене. Это не что иное, как деньги, какими пользовались во времена Приама и Анкея.
Пифагор торжествующе взглянул на собеседников.
– А между тем Гомер не знает о том, что в те времена были деньги. Помните, как у него ахейцы покупают вино?
Все остальные ахейцы вино с кораблей получали.
Эти медью платя, другие – блестящим железом,
Шкуры волов приносили, коров на обмен приводили
Или же пленных людей…
Что это, как не клевета на моих, да и на ваших предков? Представьте себе обрисованную Гомером картину – и куда бы продавцы вина могли деть, например, коров? Как бы они их разместили на своих беспалубных суденышках? Нет, не коровами и шкурами быков, не железом, имевшим тогда еще цену золота, а вот такими медными слитками, изображавшими шкуры, расплачивались в старину наши предки. И подобных нелепиц у Гомера хоть отбавляй!
Анакреонт протянул руку и, взвесив слиток на ладони, сказал:
– Увесистое доказательство.
Вращающийся калаф
На Самосе да и повсюду в местах обитания ионийцев, эолийцев, но не дорийцев можно было слышать забавные истории, героями которых выступали софосы (мудрецы). Если мореход следил за волнами, чтобы определить направление и силу ветра, то софос, сидя на скале над прибоем, считал набегающие волны и, сбиваясь со счета, рвал на себе космы. Если земледелец обращал взгляд на ночное небо для определения срока посева и сбора урожая, то софос наблюдал звезды целыми ночами, чтобы дать им название. Днем же он находил у себя под ногами нечто такое, на что другой не обращал внимания, и уверял, будто бы на месте луга или пашни некогда простиралось море. Вместо того чтобы скрываться в жаркое время в тени, он измерял тень деревьев и высоких домов, вызывая на себя гнев Гелиоса. Он появлялся в людных местах и, выбрав себе жертву, засыпал ее вопросами и потом сам же на них отвечал.
И конечно же весть, что вместе с невиданным дождем и на Самос, словно с неба, свалился софос, вскоре облетела остров. Многим было известно, что это пропадавший долгие годы Пифагор, сын камнереза Мнесарха. К дому у Кузнечных ворот шли и шли, чтобы взглянуть на чудака. Вопреки представлениям о софосе, рассеянном, нескладном, изрекающем темные поучения, не знающем, что делать с молодой женой в брачную ночь, это был высокий, видный и крепкий муж с загорелым лицом, внимательным взглядом серых глаз, с аккуратно подстриженной бородой. За ним как будто не замечалось никаких странностей, кроме разве той, что он всегда ходил босым и не носил шерстяных одеяний.
Часть любопытствующих побывала в пещере, которую все уже называли пещерой Пифагора, и не было среди них ни одного, кому бы его рассказы показались сложными, ибо для мужа, женщины и подростка, горожанина и пастуха он ухитрялся находить доступные им выражения и образы и порой по дороге в город вступал со слушателями в беседу, добиваясь полного понимания.
Всех постоянных слушателей, которых Пифагор наставлял в мудрости, вскоре стали называть любителями мудрости, и с тех пор в язык ионян, а затем и других родственных им племен вошло слово «философия» – страсть к мудрости. Впрочем, сам Пифагор считал себя не софосом, а только философом, подчеркивая, что он не претендует на то, чтобы войти в число семи, да и восьмым быть не намерен.
И открылось посетителям пещеры странное и удивительное. На одно из собраний Пифагор принес калаф, обвязанный снаружи гипсом и проткнутый стержнем, за который его можно было удерживать как бы в парящем состоянии. Держа ось, он крутил этот сосуд, уверяя, что такое же движение совершает Земля.
– Спорам о форме Земли нет конца, – пояснял он, продолжая вертеть калаф. – Милетские мудрецы мыслят ее в виде атлетического диска с загнутыми краями, удерживающими массу воды. Полагают, что такую же форму имеют Солнце, Луна и другие небесные тела, вращающиеся вокруг Земли. Ближе к истине милетянин Анаксимандр, считавший, что Земля, в отличие от плоских небесных тел, частично прибитых к небесному своду, частично плавающих в пространстве, имеет форму цилиндра. Но ошибается и он.
Пифагор поднял руку с калафом.
– Вот какова наша Земля! Она – шар. Такую же форму имеют Луна, Солнце и другие небесные тела. Они кажутся плоскими из-за дальности расстояния. И не заваливается Солнце за край Земли к ночи, чтобы выйти с другой ее стороны утром, а просто исчезает из виду для тех, кто находится в определенной точке земного шара. Наблюдатель, способный лететь с быстротою Гелиоса, видел бы его незаходящим. Для него не было бы ночи. Длительность дня зависит от того, в какой части Земли находится наблюдатель.
Пифагор накрыл ладонью верхнюю часть калафа.
– Это Арктика, страна гипербореев. Если силой воображения мы бы туда перенеслись, нам бы открылась равнина, освещенная незаходящим светилом. О нет, я не бывал в этой стране гиперборейской белизны. Но разве точный расчет и опыт с помощью этого калафа не заменяют зрение?
Пифагор опустил калаф на землю.
– Я не во всем согласен с милетскими мудрецами, – продолжал он, – но среди ионийцев и других эллинов они были первыми, кто учил мыслить. Ведь многие до сих пор верят россказням Гомера о реке Океане, о коварных сиренах, заманивающих своим пением мореходов на скалы, и прочих чудесах. Но наша Земля и мироздание полны истинных тайн, осмысление которых должно заменить сказки. В начале своих странствий я побывал в Тире, и мне рассказали о финикийце, служившем в египетском флоте во времена фараона Нехо. Этому финикийцу было лет семьдесят, но он сохранил память и ясный ум. От него я узнал, что фараон поручил мореходам, охранявшим египетские границы в Красном море, обогнуть Ливию и вернуться в Египет через Геракловы столпы (тирянин называл их Мелькартовыми). Но вот что более всего меня поразило: финикийские мореходы, привыкшие находить путь по звездам и обучавшие этому искусству эллинов, миновав Эфиопию… потеряли ориентацию! Исчез Возок, или Арктос, как называем его мы, указывающий путь на север. Да и солнце оказалось с правой стороны, хотя они двигались на запад. Вот тогда я впервые понял, что Земля – шар.
Гиганты
Казалось, что век, озадаченный золотом Креза,
Не сдаст никому монархической власти бразды.
Но в скалах тоннель насквозь продолбило железо,
Топор-триумфатор навел над проливом мосты.
И в новое русло текли рукотворные реки,
И Хаос сдавался под натиском чисел и мер.
И возникали впервые библиотеки,
И сделался свитком беспечно поющий Гомер.
В открытое море уже выходили триеры,
Свои колоннады наращивал храм-исполин,
Вершили судьбу не монархи, а инженеры,
И первым из них мегарец был Эвпалин.
Словно бы по молчаливому уговору, в самосской пещере раздавался лишь голос Пифагора. Его слушали, затаив дыхание, впитывая каждый звук, каждое слово.
– Мой отец, – проговорил Пифагор, – работает с линзой из горного хрусталя, позволяющей наносить на камень тончайшие линии. Но для того, кто смотрит на перстень, важны не эти мельчайшие детали, а то целое, что они создают, – образ. Для математика образом является число. Обращаясь к нему, он устанавливает общие законы, по которым возникают, развиваются и рушатся миры. Ему не нужен увеличительный хрусталь.
Внезапно послышалось:
– Великолепно!
Голос принадлежал незнакомцу плотного телосложения. Если бы не седая прядь, разделявшая его волосы на две половины, этому человеку можно было бы дать лет сорок, не более.
– Как жаль, – продолжил он, – что ты не появился на острове двумя годами ранее, тогда бы тоннель не отнял у меня стольких лет и обошлось бы без ошибки.
– Эвпалин! – воскликнул Пифагор. – Так это ты! Неужели тебе мало того, что ты уже совершил?! И ты еще говоришь об ошибке!
– Она едва не стала роковой, – поспешно возразил Эвпалин. – Тоннель пробивался с обеих сторон горы. Когда было пройдено по два стадия и три оргия, штольни должны были соединиться, но этого не произошло. И меня охватило отчаяние. Ошибка, как потом выяснилось, составила целых десять локтей. Теперь тоннель в одном месте стал коленчатым, и только сегодня, слушая тебя, я понял, почему это случилось. Я оперировал мертвыми числами, воспринимая их вне природных сил, которые стремился обуздать. Я видел в них только меру мира, не понимая, что они обладают властью сливать ручьи в могучие потоки, соединять материки, проникать на дно морей, овладевать воздушной стихией. Да мало ли какие нас еще ожидают открытия, если мы оседлаем числа!
Они покинули пещеру.
– Наконец-то я встретился с тем, для кого главное – преодоление препятствий, – произнес Пифагор.
– Что моя работа по сравнению с твоей! – отозвался Эвпалин. – Ты пробиваешь тоннели во мраке нашего невежества, и становится ясно, что мир стоит на пороге величайших открытий. Таково мнение и Поликрата, с восторгом говорящего о тебе.
– Поликрата? – удивился Пифагор. – Но мы ведь незнакомы.
– Содержание твоих бесед ему передает Метеох, и, собственно говоря, у меня поручение: если тебя не затруднит, найди время для встречи с Поликратом. Он отложит все свои дела, чтобы насладиться беседою с тобой. Таковы его подлинные слова.
Они направились к городу, продолжая беседовать. Когда показались башни и стены, Эвпалин предложил свернуть влево, и они оказались у бурлящего Имбраса.
– Вот, – сказал мегарец, показывая на желоб, из которого широким потоком лилась вода. – Это краса Керкетия Левкофея, которую я провел по высохшему руслу какой-то реки, а затем сквозь гору.
– Какой-то?! Так ты не знаешь нашего мифа об Окирое?! – удивился Пифагор.
Эвпалин недоумевающе взглянул на собеседника:
– Первый раз слышу это имя.
– Тогда слушай. У реки Имбрас была красавица дочь. Звали ее Окироя. Увидел ее с небес Аполлон и, спустившись на землю, стал преследовать. В облике Аполлона было нечто волчье, и Окироя изо всех сил помчалась к своему родителю. «Спаси, отец! – взмолилась она. – Меня преследует Аполлон». У Имбраса был друг, мореход Пампил, давно уже добивавшийся руки Окирои. Обратился к нему Имбрас: «Над моей дочерью нависла смертельная опасность. Спасти ее можешь только ты. Снаряди корабль и увези Окирою как можно дальше. Пусть она будет твоей женой».
Поблагодарил Пампил Имбраса, снарядил судно, взял на него Окирою и вышел в открытое море. Разгневанный Аполлон превратил корабль в камень. Ты можешь его наблюдать в бухте в виде скалы, напоминающей парус. Пампила сделал рыбой, а Окирою увез на мыс Микале, где она и поныне втекает в Меандр. И стал Имбрас сохнуть от горя по дочери. И совсем бы высох, если бы не мегарец Эвпалин, чудом своего искусства вернувший Имбрасу полноводие, соединив с другой его дочерью, отделенной от него Аполлоном.
– Вот оно что! – воскликнул Эвпалин. – Я и не догадывался, что Имбрас был царем, а океанида Окироя – нимфой, возбудившей, подобно красавице Дафне, страсть неистового Аполлона. Как бы и мне не вызвать его недовольства!
– Недовольства? – отозвался Пифагор. – Ты же не посягнул на его Окирою, ты заменил ее Левкофеей.
– Я имею в виду новое поручение Поликрата, – проговорил Эвпалин. – Мне приказано разрушить островок, который и впрямь имеет вид корабля или паруса, в зависимости от места наблюдения.
– Неужели такое возможно?!
– Да. С помощью смеси, которая в состоянии превратить в пыль целую гору.
– И ты ее использовал при прорытии тоннеля?
– О нет, я ее открыл во время работ и хочу впервые проверить на деле.
Астипалея
Через глубокий, пахнущий гнилой водой ров был переброшен мостик. Посередине него стоял стражник с обнаженным акинаком. На голубом гиматии поблескивали ряды золоченых, а может быть, и золотых блях. Пифагор уловил беглый взгляд, брошенный им на его ноги. «Видимо, никто на его памяти не входил сюда босым», – подумал он.
Дворец Поликрата был невысок, но выходящими почти к самым воротам крыльями охватывал весь акрополь, повторяя конфигурацию городской стены и превращая все остальное пространство во внутренний двор-сад. Дорожка проходила между рядами бронзовых фигур, поставленных перед деревьями. Пифагор сразу узнал в них статуи, некогда украшавшие Герайон. Его взгляд задержался на трех коленопреклоненных куросах, поддерживающих головами огромную серебряную вазу.
Оглядевшись, Пифагор увидел в тени колонны приветливо улыбающегося человека в пестром одеянии. Конечно, это Поликрат, вовсе не похожий на страшилище морей, – муж, склонный к полноте, но не полный, с небольшими прищуренными глазами. Значительность лицу придавал лишь нос, почти отвесно спускавшийся к буйно растущей бороде. Сделав навстречу Пифагору несколько шагов, тиран обнял гостя.
– Уже много дней, Пифагор, имя твое не покидает моих покоев. Лучше всего сказал о тебе Метеох: «Когда он говорит, теряешь дар речи, ибо боишься, что прервется поток, созданный силой ума и воображения, и вещи воссоздаются такими, какими ты их никогда не видел, такими, какими они должны быть». И конечно же, наслышанный о тебе, я мысленно потянулся в пещеру Пифагора. Не возражай! Кто отныне станет называть ее пещерой Анкея?! Ведь не называют же «Илиадой» сочинения Лина и других древних аэдов после того, как Гомер населил стены воспетой им Трои своими героями.
Они вошли в зал, залитый желтым светом от отверстия в потолке, закрытого пластинками янтаря. Ступни Пифагора погрузились в мягкость ковра.
– Ты находишься в той части дома, которую мои гости называют залом Колея. Ведь это он проложил дорогу в Тартесс, город на берегу океана. Здесь я и приму тебя, нового Колея.
– Да. Я много путешествовал, – проговорил Пифагор, усаживаясь на сиденье против Поликрата. – Но ветер судьбы погнал меня на восток, а не на запад. Колей работал для агоры, я – для знания. Он вернулся на корабле, набитом доверху серебром и янтарем, с серебряными якорями на бортах, а я – вот в этом гиматии и босиком.
– Чудачество великого мужа, – отозвался Поликрат.
– Скорее жизненная линия, Поликрат, – отозвался Пифагор. – После долгих странствий на чужбине у меня возникли иные пристрастия и привычки: например, я не приношу кровавых жертв богам, не ем мяса животных, не ношу шерстяной одежды – ведь и она добыта насилием над живыми существами.
– Все это так необычно, – задумчиво произнес Поликрат. – Я думаю, всем интересно будет прочитать о твоих странствиях и о том, как ты пришел к своему выбору. Как ты назовешь свою книгу?
– Ее не будет, – отозвался Пифагор, – ибо писание отвлекает от мыслей и служит пищей самомнению, создавая иллюзию собственной значимости. К тому же мы, ионийцы, с тех пор как три века назад заговорил Гомер, болтаем без умолку. Пора и остановиться.
– Но тишина – это ведь смерть! – заметил Поликрат.
– Если она вечная, – возразил Пифагор. – Надо замолкнуть на время, хотя бы для того, чтобы собраться с мыслями. К тому же молчание – это не тишина. Неведомый во времена Гомера авлос, закрывающий рот, служит молчанию. Дыхание, даруемое нам космосом, возвращается в его гармонию.
– Возможно, ты прав, – произнес Поликрат. – Но тот, кто не пишет, беззащитен перед молвой. Он может утратить родину и родителей.
– Перед молвой беззащитен любой из творцов, – отозвался Пифагор. – Солон, в отличие от Гомера, не преминул рассказать о себе и своих родителях. И что же? Разве не говорят, будто он был гостем и советчиком Креза, хотя умер за двадцать лет до его воцарения? И я почти уверен, что мне дадут в учителя египетских жрецов.
– У кого же ты тогда учился, если не у них? – спросил Поликрат.
– Моим первым учителем был Ферекид, сын Бабия.
– Поразительный человек! – воскликнул Поликрат. – Он побывал у нас и, напившись воды из колодца Геры, сказал, что на третий день произойдет землетрясение. Его высмеяли. А землетрясение произошло, к счастью, не катастрофическое. Пострадал лишь один храм Аполлона в горах.
– Нет эллина, лучше истолковавшего природу, чем Ферекид, – подхватил Пифагор. – Землетрясения возникают от давления наполняющего поры земли газа. По насыщенности воды газом Ферекид и смог предсказать бедствие: Ферекид поделился со мной и многими другими открытиями, но сам он более всего ценил учение финикийцев и поэтому направил меня на мою родину в Сидон.
– Твою родину? – удивился Поликрат.
– Да, я родился в городе великих мастеров Сидоне. Когда мои родители прибыли в Дельфы, мать была уже тяжела мною, и пифия посоветовала ей родить в Сидоне.
А на Самос они вернулись уже после моего рождения. В Сидоне, куда я попал вторично двадцати лет от роду, я встретил последователей Моха. Мох, живший за шесть веков до Фалеса, достиг в понимании космоса неизмеримо больше, чем милетяне. Он установил, что все сущее состоит из мельчайших, невидимых глазу частиц, а не из воды, как полагает Фалес.
– Откуда же он мог это знать, если частицы, о которых ты говоришь, невидимы?
– Мох был математиком, а в математике необязательно видеть все, что вычислено.
– И долго ты пробыл среди последователей Моха?
– Три года. Затем дорога ввела меня в крепость знаний Вавилон, где мне были открыты тайны звездного неба. Из Вавилона я отправился еще дальше на восток, в страну, где верят, что бессмертна любая душа и что нет страшнее преступления, чем насилие над живым существом.
– Ты имеешь в виду страну, куда проложил путь Дионис?
– Да, Индию, в которой никто из эллинов до меня не побывал.
– Зато мы наслышаны о ней, а иногда нам достаются ее дары. Вот взгляни на этот индийский камень. Он мне дороже всех моих богатств.
Поликрат снял с пальца перстень и протянул его Пифагору.
Разглядывая лежащий на ладони Поликрата смарагд, он одновременно изучал руку собеседника, пытаясь понять характер этого человека, мысли которого ему не удавалось прочитать. Цельная линия резко обрывалась. Пересечение ее с другой предвещало смертельную угрозу.
– Это дар моего друга Амасиса, – проговорил Поликрат, надевая перстень. – По его совету я расширил гавань и создал флот.
Они вышли на галерею, возвышавшуюся над колоннами таким образом, что ее центр приходился на среднюю из них. Это было то крыло здания, которое Пифагор с моря принял за восьмиколонный храм.
– Какой прекрасный обзор! – вырвалось у Пифагора. – Видна вся бухта вплоть до Герайона.
– А также и полуостров Микале по ту сторону пролива, – добавил Поликрат. – О, если бы Самос оторвался от своих корней и его можно было бы оттащить поближе к Европе! Страшно подумать, что этот клочок суши, единственный свидетель младенческого крика Геры, ее девичьих забав на лугах у Имбраса, может достаться персам.
– В день моего возвращения на Самос спускали корабль с египетской надписью на носу, – заметил Пифагор.
– Так я отблагодарил Амасиса, отпустившего ту, что сделала нас друзьями.
– Ты имеешь в виду Родопею?
– Да, ее, новую Елену Прекрасную. Ведь она родилась на Самосе и была в девичестве рабыней Иадмона.
– Господина Эзопа?! – удивился Пифагор.
– Да, его. Иадмон отправил Родопею в Навкратис на обучение к местным гетерам. Амасис же взял ее во дворец, сделал своей наложницей и, будучи уверен, что она, им осчастливленная, пожелает кончить дни в Египте, соорудил для нее небольшую пирамиду. Но Родопею потянуло на Самос. Хочешь с ней познакомиться?
– Есть ли человек, который от этого откажется?
– Тогда посети нас завтра после полудня.
Недовольство
Пифагор петлял по темным улицам, стараясь подавить гложущее чувство неудовлетворенности. Все, что он говорил о себе Поликрату, было ложью или, точнее, попыткой скрыть правду. В страхе перед нею он покинул родительский дом и отправился на чужбину, чтобы стать там человеком без рода и без имени. Открывшиеся ему уже в юности видения подчас мешали понять, кто он на самом деле – Эвфорб, Пирр или даже сын Гермеса Эталид. О первой своей жизни он даже в находивших на него припадках откровенности долгое время не мог рассказать никому, ибо что бы могли подумать, узнав, что к нему, Пифагору, среди бела дня явился Гермес и предложил на выбор любой дар, кроме бессмертия. Не мог он никому поведать о своем странном страхе перед буквами. Когда он пытался занести их на папирус, они двоились, поворачивались друг к другу так, что их можно было читать и справа налево, и слева направо, как делают финикийцы и иудеи. И странным образом из этого бреда выросла уверенность в парности как всеобщем законе бытия. Бред стал источником его знаний о космосе. Конечно, Пифагор понимал, что Эвфорб – это тоже бред, но и он натолкнул его на здравую мысль, что все сказанное Гомером о Троянской войне – злокозненная ложь, и он мог бы это доказать с помощью неопровержимых доводов.
Из-за Гомера произошла давняя ссора с отцом. Когда он, еще будучи мальчиком, поведал ему о своем открытии, отец возмутился:
– Ты еще молод, чтобы судить того, о месте рождения которого спорят семь городов.
– Это ни о чем не говорит, – возразил тогда он, – это спор из-за тени осла. В ней пытаются скрыться от слепящего света истины. О месте моего рождения спорить не будут.
– Вот в этом ты прав, – усмехнулся отец. – Ты не можешь закончить работу даже над одним-единственным перстнем. О тебе просто не вспомнят.
Именно тогда он, разобиженный, отправился на Сирос к Ферекиду.
«Конечно же Гомер выдумал свою Троянскую войну и все эти корабли, на которых ахейцы приплыли в Троаду. Но сколь великолепна эта выдумка и кому она принесла вред? А я в спорах с нею погубил мать, я-то ведь знаю, что она ушла в Аид с горя. Глупое упрямство!»
Раздражение собой вскоре перенеслось на недавнего собеседника. «Отец прав. Есть в этом человеке что-то отталкивающее. И откуда эта непроницаемая броня, которой он себя окружил? Зачем он меня пригласил? Кто я для него? Одна из диковин, которой он хочет украсить свой дворец? И почему я принял его приглашение встретиться с Родопеей? А о Ферекиде я ему хорошо сказал. Надо обязательно навестить старика. Интересно, что он думает о Поликрате? А ведь Ферекида не раздражали мои нападки на Гомера. Он, кажется, понимал, что в споре с тенями я обогащаюсь. Да и впрямь спор с Гомером, никогда не покидавшим Ионии, позволил мне открыть для себя Финикию, Вавилон, Индию и понять, насколько превратно судят о мире те, кого считают семью мудрецами. Кто они, эти великие мужи, принесшие свою жизнь на алтарь ясности и изрекающие темные истины наподобие пифии? Не пытаются ли они, подобно персидским магам, заговорить самих себя от пугающей сумятицы мира?»
В триклинии
Вовсе не то вы мыслите Эросом —
Эрос ваш мучает, жжет и томит.
Мой же – нас всех возвышает над серостью,
Право дает называться людьми.
Низкий прямоугольный стол, застеленный белой материей, блистал золотой и чеканной серебряной посудой, украшениями из гиперборейского янтаря. На ложах возлежали трое. Поликрат опаздывал. Но вот пахнуло восточными благовониями. В зал во всем блеске красоты вступила Родопея. Совершенные формы просвечивали сквозь полупрозрачный пеплос, заколотый на плече пряжкой из Электра. На груди поблескивало золотое украшение. Поликрат шел сзади с кифарой в руках.
– Друзья мои, – начал Поликрат, – в такие вечера, когда самая жизнерадостная из муз Талия призывает к дружескому застолью, мы обыкновенно выбираем симпосиарха[27]. Сегодня же я привел к вам царицу пира и его награду. Готовы ли вы подчиниться воле моей гостьи?
– Готовы! Готовы! – послышались голоса.
Поликрат и Родопея заняли свои места. Тиран протянул ей кифару.
Родопея положила инструмент на обнаженные колени и, тронув струны, запела грудным голосом:
Я объявляю агон и буду сладкой наградой
Всю эту ночь до появления Эос.
Я для того, кто суть обозначить сумеет
Бога, к которому тянется каждый живущий,
Как к магнезийскому камню железо,
Бога, который безумную жажду сближения
В наших телах и радость в душах рождает,
Ту, пред которой иные желанья ничтожны.
– Итак, задание получено, – произнес Поликрат, обводя взглядом присутствующих. – Давайте начнем агон. Из него я исключаю себя, чтобы взять роль судьи. О могуществе Эроса много сказано. Но речь идет о природе Эроса, о предмете, насколько я понимаю, почти неисследованном.
– Это верно, – согласился Эвпалин, – в рассуждениях поэтов о строении мира нет ясности. Согласно Гесиоду, сначала родилась широкогрудая Гея, а за ней появился Эрос, потом Уран и Тартар. Если это так, надо думать, что Эрос – это сила, соединившая Гею с Ураном. Здесь я должен вспомнить, что сказано о Гее в священных книгах иудеев: «Гея была безвидна и пуста». Итак, потянувшись к Урану, Гея преобразилась. На ее могучем теле появились два ровных, как бы прочерченных циркулем круга. В этих местах тело Геи вздыбилось, образовав два купола. Несколько ниже возникло глубокое ущелье. Гея стала напоминать женщину, и Уран, с яростью обрушившись на нее, ее оплодотворил, став родителем титанов, киклопов и сторуких великанов.
– Превосходное дополнение Гесиода, – сказал Поликрат, пододвигая к себе чашу. – У Гесиода Эрос наряду с Хаосом, Геей и Тартаром – одно из четырех лишенных родителей первоначал. Но место и роль Эроса у него неясны. Он только называет его «сладкоистомным» и «приводящим в безумие». Ты же, Эвпалин, соединив два мифа, объяснил, что без Эроса Гея, будучи бесформенной, как Хаос, из которого она вышла, не могла бы привлечь к себе Урана, и ты исключил из мироздания Тартар. Так ли я тебя понял?
– Так, – ответил Эвпалин. – Тартар, как его понимают поэты, – бессмыслица.
– Превосходно! – воскликнула Родопея. – Но все же какова природа самого Эроса, этой могучей силы соединения мужского и женского начал?
– Это вечно пылающий и творящий огонь, инстинкт созидания, – ответил Эвпалин, – и в то же время основа всякой деятельности. Недаром ведь Афродита была супругой Гефеста.
– Кажется, теперь мой черед, – начал Анакреонт. – Я ничего не знаю о первоначальном Эросе, и мне нет до него дела. Меня мучает Эрос, сын Афродиты. Он, единый по своей сути, постоянно меняет облики, представая то прекрасной девой, то обольстительным юношей. Я тянусь к нему, а он то подает мне надежду, то отворачивается. Счастливец Гомер обращался к музе в начале великой поэмы, а я не устаю взывать к нему, шалуну и мучителю, в каждом, даже самом маленьком стихотворении. Вот последнее из них:
Бросил шар свой пурпурный
Златовласый Эрос в меня
И зовет позабавиться
С девой пестрообутою,
Но смеется презрительно
Лесбиянка прекрасная,
На другого любуется.
Взгляд Поликрата обратился к Метеоху.
– Теперь ты.
– Что я могу сказать после таких стихов? Да и опыта у меня нет.
Юноша растерянно развел руками. Звякнула чаша. Взоры пирующих обратились к пятну, расплывавшемуся на скатерти. Поликрат дал знак слуге, стоявшему у стены.
– Не надо, – проговорила Родопея, – вавилонские маги гадают по очертаниям таких пятен.
Пятно стало похожим на несущегося во весь опор коня. Родопея закрыла лицо ладонями.
– Успокойся, царица, – обратился к ней Пифагор, – стоит ли верить магам? Я согласен с Эвпалином. Эрос – это вечный огонь, вокруг которого вращаются Земля и другие космические тела. Но прав и Анакреонт. В твоих великолепных строках, Анакреонт, Эрос – златоволосый и златокрылый лучник. Ведь стрела – это солнечный луч. Не так ли? Индийский Эрос Кама – тоже лучник, но лук у него не из кизила, не из орешника, а из медового тростника, стрелы – из сцепившихся пчел. У тебя Эрос принял форму мяча цвета заката, в который ты вступил. И уже с первой строки становится ясно, чем закончится великая песня.
Прекрасно вечернее солнце, но юные жаждут не старческой бессильной красоты.
– Боги мои! – перебил Анакреонт. – Как ты истолковал мои стихи! Я ни о чем подобном и не думал. Ко мне строки явились сами, и я старался их не спугнуть.
– Вот-вот! – подхватил Пифагор. – За тебя думал Эрос. Он творец любого творчества и основа могущества. О последнем хорошо сказано в индийском мифе. Послушайте. Как-то два старых бога Вишну и Брахма встретились с юным Шивой и стали перед ним хвалиться своей мощью. Шива выслушал их и сказал: «К чему много слов? Сейчас я приму свой истинный облик, и тот из вас, кто найдет его пределы, будет самым могущественным». В один миг Шива превратился в огромную колонну с округлой капителью. Она стала расти, уходя в небо. И тогда Брахма, превратившись в лебедя, воспарил, чтобы достигнуть ее края, Вишну же стал кротом, чтобы дорыться до ее корня. Прошло много тысяч лет, и старые боги вернулись к Шиве, признав свое поражение, ибо сила Эроса беспредельна.
Родопея сняла с головы венок и протянула его Пифагору.
– Мне нравится твое толкование, Пифагор, ты показал, что эрос – основа не только жизни, но и поэзии. Ты дал зримый образ тому, чему я посвятила жизнь. Пусть же этот венок увенчает твою голову в знак того, что я готова идти за тобой. Ты будешь первым…
– Первым?! – рассмеялся Поликрат.
– Первым, – повторила Родопея, – ибо я впервые не потребую за любовь вознаграждения. Я его уже получила.
Пифагор поднялся.
– Я счастлив, царица, что своим рассказом возбудил в тебе силу эроса. Сам я не ищу сближения ни с женщинами, ни с мальчиками. Мой эрос так же беспределен, как тот, перед которым склонились Брахма и Вишну, но он бестелесен и открывается лишь в сочетании чисел и звучании небесных сфер. Но если ты сочла меня победителем, я не отвергну награды.
Мнения
Почти сразу за победителем и царицей пира, сославшись на неотложные дела, зал покинул Поликрат. Анакреонт, Метеох и Эвпалин остались за столом, и конечно же речь зашла о Пифагоре.
– Удивительный человек, – проговорил Анакреонт, наклоняясь над чашей. – Вот уже две декады, как я с ним знаком, и до сих пор он остается для меня загадкой.
Сделав глоток, Анакреонт продолжил:
– Меня удивляет его неприятие Гомера. Пифагора возмущает то, как Гомер описывает старину. Гомер для него – не авторитет в героическом прошлом, а чужестранец, едва ли не невежда. Пифагор глядит на Гомера глазами Ахилла, Приама, Гектора – одним словом, их современника. Но ведь не бывает, чтобы человек жил в нескольких поколениях сразу.
– Не знаю, Анакреонт, не знаю, – сказал Эвпалин, приподнявшись на ложе. – Мне он кажется сосудом, в котором спрессовано нечто такое, что, если ему дано будет развернуться, оно перевернет весь мир. Его вымысел столь неудержим и дерзок, что не может быть оспорен по законам реальности, и тем самым он становится явлением, совершенным числом, о котором он нам рассказывает и в которое веришь, как в божество. Он становится для нас линзой, расширяющей границы наших чувств и наших возможностей. Ты помнишь изречение, выбитое у входа в храм Аполлона в Дельфах: «Познай самого себя»? Запись, достойная славы Дельфийского оракула, обратившегося к глубинам человеческого сознания. Но, восприняв этот совет или призыв, Пифагор поставил вопросы, какие не приходили в голову ни одному из тысяч эллинов или варваров, переступавших порог храма, – какова природа слуха и зрения, соответствует ли видимый и ощущаемый мир существующему? Давая на эти и иные вопросы ответы, он, право, превзошел всех мудрецов и открыл для понимания законов бытия и жизни неизведанные, новые пути. Не знаю, жил ли Пифагор во времена Приама, но я уверен в том, что его жизнь не определена сроком, данным смертным, и ему суждено жить и через сотни, и через тысячи лет.
Анакреонт отодвинул чашу.
– Пожалуй, ты прав. Такие люди, как Пифагор, подобны богам. Поначалу, не зная его, я с ним спорил, а теперь только слушаю. Глядя на него, легко поверить, что он пил воду из Инда и побывал в тех местах, где восходит Гелиос и рождаются звезды. Однако его величие не подавляет. Он может отыскать ключ к каждому сердцу и найти общий язык не только с молчаливыми рыбаками – я сам был свидетелем его беседы с рыбаком на агоре, – но и с морскими разбойниками.
– Да-да! – подхватил Метеох. – Увидев детей, бросивших камни в бродячую собаку, он заговорил с ними на равных, и дети к нему потянулись. Я уверен, что они больше никогда не обидят беззащитное животное.
– Но самое удивительное, – перебил Анакреонт, – что ни разу в разговорах Пифагор не назвал имени Орфея. А ведь учение о метемпсихозе[28] принадлежит именно ему. И я никогда не слышал от Пифагора об Аиде и о наказании там душ. Не кажется ли вам это странным?
– Я тоже это заметил, но странным мне это не показалось, – проговорил Эвпалин. – Орфей старался вырваться из круга, назначенного смертным судьбой, считая его мучительным. Пифагор, напротив, стремится войти в этот круг и пережить заново если не все свои прошлые жизни, то главные из них. И именно это дает ему возможность прозревать будущее. Орфей стремился принести утешение смертным, Пифагор нам ничего не обещает, а обращает наши глаза и уши к невидимому и неслышимому.
Золотой амулет
Пифагор осторожно отодвинул лежащую между ним и Родопеей кифару. Рука потянулась к золотому амулету, блестевшему в лощине между двумя розовыми округлостями, и на миг застыла.
– Нет! – тихо проговорил он. – Только не это!
– Понимаю, – вкрадчиво произнесла гетера, – неприятно видеть на мне дар другого. Но эту вещь я получила еще девушкой от грабителя гробниц… Есть в тени пирамид и такая профессия. Жрец Амона, которому я показала эту вещь, повел меня в храм. Там на стенах была изображена схватка со вторгшимися в Египет чужеземцами. Жрец называл их народами моря. У них были точно такие предметы.
…Губы Пифагора зашевелились. Он был не с нею. Говорил с кем-то другим. Родопея прислушалась.
– Нет, Приам, меня привлекает форма. Это небесный знак – две переходящие друг в друга окружности. Это два солнца. Они ослепят Менелая.
Глаза Пифагора ожили. Он положил руку ей на грудь и улыбнулся одними губами.
– Что с тобой? – спросила Родопея. – Ты словно заснул и меня не слышал.
– Нет, слышал. Это было видение из другой моей жизни. Я беседовал с Приамом, перед тем как принять решение о схватке с Менелаем.
Глаза Родопеи расширились.
– Ты сражался под Троей?
– Под Микенами. Сражался и погиб. Потом моя душа переселилась в делосского рыбака Пирра. Тогда у меня была дочь Мия, такая же красавица, как ты.
– Ты хочешь сказать, что знал Елену Прекрасную? – усмехнулась Родопея.
– О какой Елене ты говоришь? Не о Елене ли, богине спартанцев?
– Но ведь Гомер…
– Откуда бы ему знать о Елене, если он жил через три века после Приама?! Я не обманываю. А вот ты… Ты отдалась грабителю пирамид, и он расплатился с тобой золотой безделушкой. Мало того, он обещал сделать тебя царицей. Твои подруги, узнав об этом, потешались. Несмотря на насмешки, ты всегда носила эту вещичку как амулет и помнила о том, кто сделал тебя женщиной. Эрос тебя не обманул. Грабитель пирамид Амасис стал воином, потом военачальником и, возглавив восстание египетской черни, – фараоном. Он выполнил свое обещание и взял тебя во дворец. Не без твоего влияния он стал верным другом Поликрата, а ты – залогом их дружбы. Потом что-то произошло, и он повелел отвезти свою статую Гере как прощальный дар. Но ведь кроме статуи было послание. Можешь не говорить какое. Но ведь было.
Родопея сорвала с себя амулет.
– Да, было. Все было. Было и сновидение, и истолкование его жрецом. И насмешки подруг. И прощание. И клятва никогда не снимать амулет. Было и послание Амасиса. Война с Персией неизбежна. Поэтому я покинула Египет. Вскоре бедствие обрушится и на Самос. Впрочем, зачем я тебе все это говорю? Ведь ты маг, величайший из магов. Для тебя нет тайн. Ты снял с меня заклятье. И я хочу быть с тобою в трех лицах, трижды прекрасный.
Пифагор поднял голову, и вдруг перед его глазами возникла гордая, золотистая и сияющая голова, лебединая шея. Это была Парфенопа, встречи с которой он ждал столько лет, время от времени пытаясь сложить ее облик из черт женщин, так же, как Родопея, предлагавших себя. Теперь все это позади. Она явилась к нему такой, какой он ее потерял, и в движении ее губ можно было прочитать имя – Эвфорб. И она поет. «О, боги мои! Это же песня Орфея!»
Парфенопа плавно двигалась навстречу ему, пока, приблизившись, не слилась с женщиной, раскинувшейся рядом, и Пифагор рванулся к ней.
Оплыв
Стремительно взлетали вверх и опускались, взметая жемчуг брызг, весла. О скорости можно было судить лишь по дрожанию корпуса, силе бьющего в лицо ветра и изменениям панорамы. Пролив, отделяющий остров от материка, понемногу сужался. Самос разворачивался освещенной солнцем зубчатой стеной кипарисов, и, наверное, древнее название острову – Кипарисия – могли дать лишь те, кто обитал на Микале.
Поликрат и неожиданно вызванный им Пифагор стояли рядом на носу пентеконтеры. Лицо тирана не выражало никаких чувств. После того как они обменялись краткими приветствиями, Поликрат не проронил ни слова, и Пифагор терялся в догадках: «Почему он предпочел иметь спутником меня, с которым едва знаком, а не тех, кого знает много лет? И куда мы плывем? Если на подвластные Поликрату острова, незачем входить в пролив. Или, может быть, в проливе судно движется быстрее и Поликрату хочется похвастаться быстротою хода? Вот и мыс Трогилий. Сколько раз эфебом, глядя на него, я встречал поднимающееся из-за Микале солнце, пока оно не позвало меня в путь и я не двинулся ему навстречу».
Пролив расширялся. Судя по развороту, Поликрат намерен посетить берег, открытый Борею. Пифагор мгновенно оживил в памяти очертания Самоса на медной доске Анаксимандра. «Барашек», обращенный головою к Азии. Очертания острова совпадали с направлением движения ионийцев, бежавших на другой материк от бедствий, которые постигли материковую Элладу после погубившего Трою землетрясения. Так на азиатском побережье появились ионийские города, от которых Самос отделен проливом.
Обойдя баранью головку мыса Посейдона, судно спускалось по выгибу шейки в бухту.
«Сюда переведены рыбаки, – думал Пифагор. – Если бы Поликрат намеревался здесь высадиться, судно должно было переменить направление. Но оно шло прежним ходом. Видимо, Поликрат решил обогнуть акрополь своей морской державы. Так же в дни праздника обходят теменос[29] храма Мелькарта в Тире, так же и персидские маги делают круги во время жертвоприношения огню. Это магический круг, отделяющий священную территорию от неосвященного мира и закрепляющий над нею власть высших сил. Поэтому так серьезен и значителен Поликрат».
Судно совершило еще один разворот. Побережье по обе стороны мыса Дрепан было равнинным и, кажется, шевелилось от курчавой волны пасшихся овец. Справа по борту в тумане выступила едва различимая Икария.
– Несколько дней назад мною получено послание от Амасиса, – внезапно проговорил Поликрат. – Поблагодарив за самояну, фараон напомнил мне, что счастье недолговечно и что ни один из известных ему счастливцев не кончил хорошо. Поэтому – таковы его подлинные слова – «тебе, мой друг, надо шагнуть самому навстречу несчастью». Как ты думаешь, что он имел в виду?
– Видишь ли, – начал Пифагор после недолгого раздумья, – вавилонские, а также индийские мудрецы полагают, что счастье и несчастье – это две гири, колеблющиеся на чаше весов. Судьба смертного также колеблется на этих гирях, и если счастье сильно перевешивает, то это может привести к такому резкому повороту, что человек летит в пропасть и ничто его не в силах удержать. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать чрезмерного счастья и надо самому поддерживать равновесие.
– Как же мне поступить?
– Изменить свою жизнь. Помнится, в таком случае один индийский царь покинул дворец, став отшельником. Может быть, отказаться от самого тебе дорогого.
– Здесь не Индия, – отозвался Поликрат. – А насчет дорогого? Вот что. Я откажусь от перстня. У меня нет вещи дороже его. И ты будешь свидетелем того, как он исчезнет в пучине. Вот здесь, перед мысом Канфарион, самое глубокое место.
Поликрат снял с пальца перстень и, закрыв глаза, бросил его за борт. Проследив за описанной дугой, Пифагор перевел взгляд на тирана. И сразу же его оглушил поток мыслей, считываемых с губ Поликрата. «Вот и нет перстня, как нет и дружбы. Амасис беспокоится обо мне, а Силосонта не только не задержал, а отправил на своем корабле в Навплию. Пора действовать. Выделю Меандрию пять кораблей. Этого хватит, чтобы покончить с осиным гнездом».
Поликрат повернул голову.
– Вот я без перстня, – проговорил он. – Ощущается непривычная легкость. Надо будет заказать другой.
«Такого, как тот, ты не найдешь! – подумал Пифагор. – Он был броней, мешавшей мне узнать о твоих намерениях».
– Да, к вещам привыкаешь, как к чему-то живому. Но ты не огорчайся. Главное, что внял совету друга, – проговорил он.
Достигнув западной оконечности острова, судно свернуло в открытое море. Слева по борту возникали и рушились пенные гребни. Это скопище острых скал и подводных камней мореходы называли некрополем кораблей и старались к нему не приближаться. Впереди островок Рипара, обиталище чаек. Зобастые и тяжеловесные, поднявшись в воздух, они становились похожими на гаммы[30]. И Пифагор начал их машинально складывать. Получилось тридцать шесть.
Судно развернулось еще раз и двинулось вдоль южного берега, блестевшего песчаной полосою пляжа. В глубине показались гора Хесион и у ее подножия – освещенный закатом храм Артемиды. Здесь был исток Имбраса, считавшегося супругом Хесион и отцом Окирои. Отсюда недалеко до Герайона, а там уже гибельный Парус и гавань.
Какое-то смутное воспоминание шевельнулось в душе Пифагора, но тотчас же ускользнуло.
– Эвпалйн обещает уничтожить это бельмо на глазу Самоса, – услышал он голос Поликрата. – Но не знаю, успеет ли.
Улов
Город еще спал. Молчали на насестах петухи. До слуха Пифагора доносилось лишь уханье ночной стражи стен – сов – и еще какой-то посторонний шум. Пифагор поспешил на него и нагнал телегу с мусором. Присоединившись к ней, он покинул город незамеченным.
Рядом со свалкой проходила дорога, пересекающая город с юга на север в самом узком месте. Пифагор шагал, насвистывая любимую мелодию, которую еще в детстве напевала ему мать. Проснувшиеся дневные птицы подхватили ее, дополнив своим щебетом и хлопаньем крыльев.
Небо быстро светлело. За перевалом дохнуло Бореем. Поправив растрепавшиеся волосы, Пифагор прибавил шагу и вышел на берег. Вот и бухта, куда переправлены рыбаки. По колено в воде четверо тащили сеть, кажется, не подозревая, что кто-то за ними наблюдает.
И словно туман застлал глаза Пифагору. Когда же он рассеялся, изменилась панорама. Вместо узкой бухты взору открылся плоский песчаный берег и плывущий к нему керкур, а на нем человек, в котором он узнал самого себя. Рыбаки с берега махали ему руками, среди них девушка, ее лицо показалось Пифагору давным-давно знакомым, но он никак не мог вспомнить, кто она.
Видение исчезло так же внезапно, как и появилось. Пифагор не имел власти над своей памятью. Скорее она обладала властью над ним, неожиданно раскрывая эпизоды прошлой жизни. Но ему не удавалось соединить обрывки видений в нечто целое. Об Эвфорбе и его схватке с Менелаем писал Гомер, но Гомеру не было известно об ученых занятиях Эвфорба. Что касается последней жизни, проходившей на прилегавшей к Делосу Рении, то не было никакой надежды узнать что-либо от постороннего лица.
Взглянув на берег, Пифагор увидел рыбаков с обильным уловом. Он сбежал по склону. Рыбаки, услышав шум шагов, обернулись. У одного из них, сгорбленного старца, глазницы были пусты, однако черты лица показались Пифагору знакомыми. Старец подошел к Пифагору, и тот ощутил лбом и щеками прикосновение бегающих холодных пальцев. Неожиданно старик вздрогнул и испустил вопль.
– Пирр! Друг мой! Ведь мы с Мией тебя похоронили на Рении! Поставили тебе кенотаф[31]. Где же ты был все эти годы? Почему не давал о себе вестей? А впрочем, что я? Ты ведь не знал, что Писистрат превратил нашу Рению в некрополь, перенеся туда могилы с Делоса, а Поликрат приковал ее цепью к Делосу и посвятил Аполлону.
– Отец, – обратился к старцу молодой рыбак, – это не твой земляк, а софос Пифагор. Его знают все на Самосе.
– Нет, нет! Это Пирр! Мне ли не узнать моего друга!
– Не сердись, господин, – обратился юноша к Пифагору. – В таком возрасте что не привидится. Отец тебя с кем-то спутал.
– Нет, не спутал, – настаивал старик, – это мой друг, попавший в бурю за год до очищения Делоса Писистратом, друг, которого я долгие годы считал покойным.
– Извини, господин, – повторил юноша. – У моего отца все смешалось в голове после того, как Поликрат приковал его островок цепью к Делосу. Ты, наверное, пришел за рыбой, но сначала нам надо разделить улов.
– Тогда можете взять каждый по пять крупных и по тринадцать мелких рыб, и останется еще одна, самая большая.
Рыбаки переглянулись.
– Как ты можешь знать, сколько рыб мы поймали? – спросил один из них.
– Я посчитал. И вы можете мне поверить. Если я ошибся, оплачу весь улов, если нет – вы возвратите Посейдону тех рыб, какие еще будут дышать.
– Идет! – обрадовались рыбаки и бросились разбирать рыб.
Прошло немного времени, и от кучки осталась лишь одна большая рыбина. Пифагор подошел к ней, и рука его, коснувшись чешуи, ощутила легкое жжение, как тогда, в Астипалее, когда он коснулся перстня Поликрата.
– А что это за рыба? – обратился он к стоявшему рядом рыбаку.
– Мы называем ее пампилом. Забирай ее себе.
– Да нет! Такая большая рыба должна принадлежать самому большому человеку Самоса.
– Ты прав! Я сам отнесу ее во дворец, – проговорил один из рыбаков.
Протягивая драхму, Пифагор сказал:
– А оставшихся в живых, как договорились, верните Посейдону.
Простившись с рыбаками, Пифагор отправился к проливу, отделявшему остров от мыса Микале, и долго смотрел на противоположный берег. В памяти его вставал пролив, отделяющий Рению от Делоса. Раньше он колебался – стоит ли наносить Поликрату такой удар. Теперь сомнения исчезли.
Взрыв
Открыв глаза, Поликрат отер ладонью пот. Ночной кошмар все еще не покидал его. Это была встреча с Амасисом, но не в зале дворца, а на носу пентеконтеры, оплывавшей остров. И было это не днем, а ночью. Сияли звезды, и их отражения мерцали в воде. Египтянин стоял слева, как тогда наяву Пифагор, и поворачивал руку, любуясь блеском кольца. Знакомая золотая оправа. И поначалу Поликрат подумал, что это его кольцо, а затем понял, что на пальце Амасиса полная луна почти с такой же тенью, какую можно увидеть в ясную ночь. Тень перемещалась, принимая пугающие очертания. «Зачем ты заменил смарагд в моем перстне?» – спросил Поликрат. Амасис повернулся. Выступили провалы носа и щек. Блеснули сплошь золотые зубы. «Спасибо тебе за золото», – зловеще прошамкал мертвец, и Поликрат проснулся.
«Конечно же сон навеян новым посланием Амасиса, о котором я размышлял весь день, – успокаивал себя Поликрат. – Мертвец во сне – к счастью. Но какая нелепица – золото во рту…»
Поликрат спустил ноги, и ступни его утонули в ворсе мидийского ковра, покрывавшего пол всей спальни. Вспомнился сатрап Багадат. Ковер – плата за посредничество в дружбе с фараоном.
Мысль Поликрата перенеслась к донесению с Пелопоннеса о неудаче брата в Спарте. Он улыбнулся, живо представив себе, как вытягивались лица эфоров[32], слушавших речь Силосонта – брат коротко говорить не умел, – и как старший эфор, когда речь была кончена, наверняка, кривя губы, произнес: «Ты так долго разглагольствовал, что я успел забыть начало, когда ты добрался до конца».
Поликрат дернул шнур. Занавес раздвинулся, и в спальню хлынуло утро вместе с сиянием моря. Внутренняя гавань пуста. Поликрат вспомнил, что на полдень назначен взрыв Паруса.
«Наконец, – подумал он, – исчезнет эта преграда и корабли смогут входить в гавань даже во время бури. И этого всего добился я, один я. Тоннель, искусственная гавань и безопасный вход в нее. Персы захватили все ионийские города, кроме моего Самоса. Мне удалось отстоять свободу с помощью фараона и разорвать союз, когда он стал опасным. У Камбиза нет оснований гневаться на меня. Я чист».
За спиной Поликрата послышались торопливые шаги. Обернувшись, он увидел повара с сияющим от радости лицом.
– Рыбак, – прокричал он, – принес рыбу, и я ее принял.
– Ну и что? Почему не принять? Рыба была свежей?
– Еще била хвостом. Но, когда я ее стал потрошить, нашел вот это. – Повар разжал кулак, и на ладони его блеснул перстень.
Поликрат закачался и стал бледнее стены. Перепуганный повар немедленно исчез, и через несколько мгновений вбежал казначей Меандрий с телохранителями.
Тотчас же послышался грохот взрыва. Но Поликрат, кажется, его не услышал. Он лежал на ковре, с тупой обреченностью повторяя:
– Не принял… Не принял…
Сотворение мифа
Пифагор шел, не разбирая дороги, натыкаясь на кусты. «Что меня заставило покинуть город? Не почувствовал ли живущий во мне дух рыбака Пирра, что на этом берегу есть некто, знавший меня в другой жизни? И каким образом я сумел сосчитать вытащенных на берег рыб? Как ощутил в брюхе одной из них кольцо? Почему внушил мысль отнести рыбину Поликрату? Что руководило мной – тщеславие или какой-то неосознанный расчет? «Познай самого себя» – гласит надпись на стене дельфийского храма. Понимал ли впервые сказавший это, что обративший взор в самого себя обречен на блуждание во мраке сновидений? И зачем ограничивать мир самим собою? Да, я увидел кольцо в брюхе рыбы, и не все ли равно, как пришло это необыкновенное зрение? Не важнее ли им воспользоваться, чтобы открыть глаза другим?»
К своему удивлению, Пифагор оказался около дуба Анкея, словно кто-то привел его сюда, чтобы он провел ночь на его выходящих из земли корнях.
Тишина располагала к раздумью, и он вновь и вновь перебирал в памяти числа. Арифметика была для него главной из наук. Он ставил ее выше астрономии и геометрии и надеялся приблизиться к пониманию числа чисел – высшего божества.
Так прошла ночь. Под утро Пифагор задремал и вскоре проснулся от звука, напоминающего падение громовой стрелы. Небо было чистым, и он подумал, что в горах обвал. И лишь тогда, когда взгляду открылось море, вспомнился разговор с Эвпалином. Ему стало не по себе. Чтобы развеяться, он двинулся в гавань, и первым, кого он встретил, оказался мегарец, прохаживавшийся по молу.
Пифагор взглянул туда, где совсем недавно высился Парус, породивший миф о похищении Окирои.
– Конец мифа, – проговорил Пифагор. – И к этому причастен ты, Эвпалин. У всего есть конец. Мифы смертны, как и те, кто их создает. Но на место угасших приходят новые.
– Что ты имеешь в виду?
– Поликратов перстень. Ведь море вернуло его тирану.
Эвпалин испытующе посмотрел на Пифагора:
– Это действительно так. Я как раз в это время явился во дворец, чтобы доложить об окончании всех моих работ, и застал Поликрата без сознания, с перстнем, зажатым в кулаке. Его нашли в брюхе огромной рыбины, доставленной каким-то рыбаком. Но ты-то этого знать не мог!
Пифагор загадочно улыбнулся:
– Я это предвидел в тот миг, когда Поликрат занес руку с перстнем для броска. Вот тебе и то, что когда-нибудь станет мифом. И за ним тоже что-то стоит.
– Верная мысль, – согласился Эвпалин.
– Если за мифом ничто не стоит, это выдумка, может быть, и великая, но с ножками пигмея. У нее короткая дорога. У мифа же – далекий путь, потому что он не единоличное творение. Искать его создателя – дело столь же бессмысленное, как пытаться отделить воды моря от вод втекающих в него рек. Мы с тобой, Эвпалин, соучастники гибели одного и начала другого мифа. А ты, как мне кажется, задумал нечто более грандиозное, чем тоннель и мол.
– Ты прочитал мою мысль, и я к этому уже привык. Я действительно мечтаю построить мост, который соединит два материка. Во всяком случае, мне на Самосе больше нечего делать.
Диалог
Простившись с Эвпалином, Пифагор шел домой, ведя спор со своей пребывавшей в сомнениях душой героического века.
– Чего это тебе вздумалось, Пифагор, возвращать Поликрату перстень? – спросил Эвфорб.
Пифагор не сразу нашелся что ответить.
– Мог ли бы я допустить подобное по отношению к моему покровителю Приаму?! – не унимался Эвфорб.
– Конечно, не мог, – отозвался Пифагор. – Тебе бы это просто не пришло в голову. А если бы и пришло, ты бы не смог этого осуществить. У нас с тобой разные горизонты. В твое время, как на этот раз правильно описано у Гомера, такие знатные люди, как мы, сами мастерили себе ложе и строили дома. Жизнь была прозрачней и гармоничней.
Даже язык у тебя другой, и мне приходится переводить некоторые слова, словно я беседую не с самим собой, а с чужестранцем. Ты ведь называешь Милет Меловандой, Илион – Вилушей, Самос – Кипарисией, Пелопоннес – Аппией. Что касается твоего первого вопроса, то у тебя впереди еще полтысячелетия, моя же последняя жизнь на исходе. Да и что болезнь Поликрата и даже его гибель по сравнению с той темнотой, которая грозит человечеству, если факел знаний, зажженный мною в Индии и пронесенный через весь материк, погаснет? Сколько потребуется столетий, пока его воспламенит кто-нибудь другой?.. Вот ты был в Вавилоне еще до меня и изучал там математику, так же как я, но лишь для того, чтобы удовлетворить собственную страсть к знаниям и честолюбие. Ты и не помышлял о том, что знание нуждается в защите.
– А зачем знанию защита? Ведь нет Агамемнона, стремящегося к его захвату и обладанию.
– Дело, мой друг, не во внешней опасности, она существует и теперь, но в разных уровнях знания. В твое время не могло быть конфликта между мудростью и властью. Приам не пытался использовать твои знания в своих интересах. Он был законным царем, ему не угрожал ни Гектор, ни Парис. Поликрат же страшится родного брата. Не забудь – ты ведь человек медного века, а я железного.
– Допустим. Но почему тебе понадобилось наносить Поликрату такой удар исподтишка? Ведь это бесчестно.
– А честно было превращать акрополь в свою резиденцию? Честно было…
– Но Поликрат делал это для спасения своих подданных, своих соотечественников.
– А я считаю делом своей чести спасение не Самоса, как он мне ни дорог, а науки от деспотии не только Поликрата и ему подобных, но и от персов, стремящихся к порабощению эллинов.
– А кто такие персы? Не потомки ли они Персея?
– О нет, хотя, как ни странно, такое мнение высказывается довольно часто. Персы – это народ, находившийся в твое время за Эламом и переселившийся в земли Элама через пять поколений после окончания твоей жизни. Затем они захватили земли, принадлежащие царям Лидии, Вавилона, Египта. Самос, по расположению ближайший к ним остров, казалось бы, предназначен судьбой быть на грани между Азией и Европой. Отсюда должен был бы вестись диалог между материками. Но стало необходимым перенести дух в более безопасное место, найти ему новый центр, крепость разума. Я вскоре покину эти места, где начинался в тебе, и больше никогда не вернусь на наш остров. Я буду вести диалог оттуда, и он не завершится с моей смертью.
4
Остров феаков – в греческой мифологии счастливый остров.
5
Талант – самая крупная (26,2 кг) весовая денежная единица, заимствованная греками из Передней Азии.
6
Кикладскис (дословно – «круговые») острова – архипелаг островов Эгейского моря, расположенных вокруг Делоса наподобие круга.
7
Пеплос – греческая женская одежда без рукавов, сколотая на плечах пряжкой.
8
Электр – сплав золота и серебра, известный уже в глубокой древности.
9
Астрагал – игральная кость, обычно четырехгранная, бросаемая игроками поочередно.
10
Пеан – гимн, чаще в честь Аполлона, но также и других богов.
11
Скейские ворота – ворота Трои, обращенные к морю, с видом на лагерь ахейцев.
12
Минос – легендарный царь Крита, при котором остров достиг небывалого могущества на морях.
13
Геоморы (дословно – «землевладельцы») – на Самосе так называли знать, поскольку основой ее могущества были земельные владения.
14
Филы – родовые деления в Греции, вплоть до замены их территориальными филами составлявшие основу общества. В ионийских городах чаще всего были четыре филы.
15
Ио – юная жрица, дочь Аргоса, возлюбленная Зевса.
16
Эвпатриды – афинская знать.
17
Гоплиты – греческие тяжеловооруженные воины.
18
Ройк, сын Фидея, – самосский литейщик и архитектор.
19
Ксоан – деревянная статуя. Поскольку во времена Пифагора статуи высекали из камня, ксоаны были признаком глубокой древности и пользовались особым почитанием.
20
Мегарон – в греческом эпосе главное помещение дворца и дома культового назначения.
21
Гелиотропий – солнечные часы.
22
Пропилеи – предворотное сооружение в виде колоннады.
23
Триерарх – начальник триеры.
24
Ихнусса – древнее название Сардинии.
25
Тирс – жезл, атрибут бога вина Диониса.
26
Бендис – фракийская богиня, которую отождествляли с греческими богинями Артемидой, Гекатой и Персефоной. Видимо, покровительство охоте было одной из ее главных функций.
27
Симпосиарх – руководитель застолья, избираемый пирующими.
28
Метемпсихоз – учение о переселении душ.
29
Теменос – священный участок.
30
Гамма – третья буква греческого алфавита, обозначала не только звук «г», но и число «три».
31
Кенотаф – ложная могила. В древности было принято сооружать кенотафы людям, чье тело не найдено.
32
Эфоры – должностные лица в Спарте, которым принадлежал контроль за нравами и деятельностью любого спартанского гражданина, включая царей и членов совета.