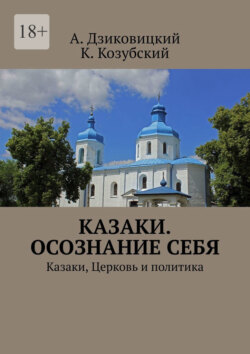Читать книгу Казаки. Осознание себя. Казаки, Церковь и политика - А. Дзиковицкий - Страница 4
ЧАСТЬ 1
ЦЕРКОВЬ В РОССИИ
1. ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ КАЗАКОВ ПРИ РОССИЙСКИХ МОНАРХАХ
Оглавление…неизменно придерживаться старой веры […]
священников, не выполняющих волю Круга,
считать еретиками и изгонять…
«Заветы» атамана Игната Некрасова.
С первых веков христианства казаки (точнее, те их предки, которые приняли христианство) в религиозном плане были напрямую связаны с Константинопольским патриархом, которого они признавали как своего духовного владыку. И так продолжалось во времена гуннов, хазаров, Киевской Руси, Золотой Орды и первых десятилетий Московского княжества.
Интересна связь знаменитого Азовского сидения с христианской идеологией казаков в XVII веке. Напомним: Азовское осадное сидение – это взятие и затем 5-летняя оборона крепости Азак казаками, начавшееся весной 1637 года, когда армия донских и запорожских казаков в 4.500 воинов захватила эту на то время сильную турецкую крепость. Действовали казаки самостоятельно, без какой-либо помощи со стороны, зная, что это – их древняя столица.
В низовых донских станицах в присягах обществу существует и поныне и, конечно, была во времена возрождённого в начале ХХ века Донского государства клятва: «Обещаюсь помнить престол Ивана Предтечи». Церковь с таким названием когда-то находилась в Азаке (Азове). Во время Азовского сидения это был храм в ведении Вселенского (Константинопольского) патриарха. Собственно, то, что храм находился во владении мусульман, и было идеологической основой изгнания турок казаками из бывших христианских городов.
Церкви Ивана Предтечи давно нет. Иконы из неё, которые долго хранилась в монастыре в Воронеже, пропали во время Гражданской войны начала ХХ века. Но память о религиозном обосновании взятия Азака осталась, со временем даже став чуть ли не основным мотивом Азовского сидения…
Чуть позже, в 1654 году, на Казацкой Раде в Переяславле был заключён союзный договор между козацким гетманом Войска Запорожского Богданом Хмельницким и царём московским Алексеем Михайловичем. Из года в год затем самостоятельность казаков урезывалась, а власть царей возрастала. И уже во второй половине XVII века союз с Москвой не ставился генеральной старшиной под сомнение. Но, в то же время, в религиозной жизни автономия запорожцев от церковных властей в Москве оставалась незыблемой. Более того, она была чуть ли не специально демонстрируемой. Наглядным свидетельство таких независимых отношений может служить изображение козаков на самой почитаемой ими иконе «Покрова Пресвятыя Богородицы», написанной во второй половине XVII века. На ней, вопреки официальному церковному преданию, как его принимали в Москве, в нижней части картины изображены представители козацкой старшины, кошевых атаманов, гетманов. Но такая же вольность в иконописи имела место быть не только в Запорожье, но и на Дону, и даже в более позднее время.
Пришедший к власти в Московии царь Пётр I с чрезвычайным напором и жестокостью «ломал через колено» страну и общество, стремясь уничтожить все старые обычаи и правила жизни, насадив вместо них всё чужеземное, европейское и, прежде всего, немецкое. Не осталась без его внимания не только бытовая и общественная жизнь подданных, но и духовно-религиозная. Но не столько на уровне сознания, сколько в организационном плане, подражая при этом, видимо, в какой-то мере протестантским монархиям Европы. В этом ключе Пётр I взялся также за переделку церковного управления казаков. Войско Донское было лишено особого церковного статуса. Уничтожив Московскую патриархию, Пётр лично решал церковные дела (подобно английским монархам), и именным указом 2 июня 1718 года передал донские храмы и монастыри из ведения Крутицкого митрополита в Воронежскую епархию.
Получив о том грамоту из коллегии, Войско в который уже раз пришло в смущение. До того времени, по старому войсковому праву, всеми церковными делами на Дону ведал войсковой Круг и никаких епископов, как начальствующих лиц, не признавал. Однако, уступая царскому повелению, Круг согласился по церковным делам быть в непосредственном ведении Священного Синода, о чём возбудил соответствующее ходатайство.
Царь эту просьбу отклонил. Он думал, что достаточно одного его повеления, чтобы разрушить вековой уклад духовной жизни целого народа, правда, уклад своеобразный, отличный от византийско-московского, но освящённый веками. Он ошибся. Донские казаки, как и в старое время, продолжали в Кругу своём, по станицам и в самом городке Черкасске, избирать из среды своей достойных лиц и поставлять их в духовное звание, предварительно посылая их для рукоположения в другие, но не в Воронежскую, епархии.
Как особый самобытный народ, посылавший своих епископов на 1-й и 2-й Вселенские Соборы, донские казаки в течение веков усвоили и древние взгляды на церковные обряды и таинства, не отказавшись и при Петре от них, считая уже эти обряды и таинства своими самобытными. Вот почему они всегда так чуждались всего московского и позднейших наслоений в Греческой Церкви, называемой казаками «еллинской», а не истинной, апостольской. Поэтому не только Донское Войско, но даже станицы, иногда недовольные присланными им священниками, лишали их места.
Усвоив себе главные догмы Христова учения, как они были установлены первыми Вселенскими Соборами, казаки, будучи долгое время оторванными от всего христианского мира и притом считавшие себя выше и сильнее других наций, во всей остальной духовной жизни остались верными своим старым заветам. Это характерно сказалось во взглядах казаков на некоторые церковные обрядности и, в частности, на «таинство брака».
Брак на Дону даже в первой половине XVIII века считался не таинством, а гражданским союзом супругов, одобренным местной казачьей общиной, станичным Сбором. Венчание в церкви или часовне было не обязательным, хотя многие из этих союзов, после одобрения общины скреплялись церковным благословением. Развод производился так же просто, как и заключение брака: муж выводил жену на майдан и публично заявлял Сбору, что «жена ему не люба» и только. Женились 4, 5 и более раз и даже от живых жён. Несмотря на указы Петра I и его преемников, а также настоятельства воронежского епископа о воспрещении этого «противнаго» явления, донское казачество продолжало следовать в отношении брака своим старым обычаям, как это раньше делали и их сородичи, готские казаки новгородских областей.
* * *
В 1722 году Пётр I предпринял Персидский поход. Во время похода царь познакомился с гребенскими казаками. Но, общаясь с гребенцами, Пётр обнаружил, что они старообрядцы. Причём, не стали таковыми под действием расколо-учителей, а выяснилось, что церковные реформы сюда просто не дошли. Законы Софьи против старообрядцев Пётр отменил, но и сам их не жаловал, взимал с них двойной налог, приказывал нашивать на одежду позорные «тузы».
Хотя на Дон и послана была строгая грамота императрицы Елизаветы 20 сентября 1745 года о воспрещении вмешиваться в церковные дела и не допускать среди казаков этого «противнаго святым правилам» явления, как жениться от живых жён и четвёртыми браками, она не помогла делу. Казаки продолжали твёрдо держаться за свои старые устои, следуя древнему обычаю жениться и разводиться с ведения и согласия станичного Круга. Освящение этого гражданского акта церковным благословением было предоставлено совести верующих и юридического значения на Дону не имело. Брак, одобренный станичным Сбором, считался законным.
В 1762 году воронежский епископ Иоаким доносил Священному Синоду, что «казаки, под страхом наказания, запрещают своим священникам слушаться распоряжений архиерея и судят их по своему обычаю в Кругу»; а атаман Иловайский прямо писал, чтобы архиерей не смел вмешиваться в духовные дела казачьих приходов, так как причты их определяются по утверждению «казачьяго Круга и старшин».
Церковная жизнь донских казаков сохраняла известное отличие от общепринятой в Российской империи. Так, в 1765 году воронежский епископ Тихон I доносил (уже не в первый раз) Священному Синоду, что в трёх черкасских благочиниях 58 лиц самовольно определены Кругом без его, архиерейского, благословения и что беспорядки казачьих церквей (то есть не подходящих под порядки московские) исправить нет никакой возможности.
Кроме того, Тихон доносил, что «Войско Донское и ныне, самовольно властвуя, в духовныя дела вступает, в церквах в дьячки и пономари определяет и грамоты даёт. Посвящённых в стихари собою отрешает, в казаки записывает и священников (из других епархий) к себе собирает».
В 1767 году Воронежская Духовная консистория требует от Войска Донского, чтобы Войсковая Канцелярия давала команды по требованию духовных правлений к осмотру и изъятию в казачьих куренях икон, писанных не по утверждённому Священным Синодом канону, а также, чтобы «в городе Черкасске и во всех станицах разных чинов людей обязать подписками, чтобы иконописцы к писанию таких образов допускаемы не были».
В ответ войсковой наказной атаман Сидор Кирсанов 5 сентября 1767 года отписал в Военную коллегию, что «казаки Войска Донского со всеми семьями заражены расколом (так называли тогда старообрядцев. – Примечание А. Дзиковицкого) и имеют в своих домах образа не по преданиям церковным […], а по церковным преданиям образами писанными явно гнушаются. […] если привести в исполнение распоряжение преосвященнейшего Тихона по указу Священного Синода об отобрании икон чрез команды, произойдёт замешательство».
Военная коллегия, получив это донесение, рапортовала Синоду, что, «во избежание замешательств и ожесточения со стороны раскольников Войска Донского, необходимо при отобрании икон употребить приличные средства, не прибегать к помощи воинских команд, в которых находится много раскольников, и не разглашать о том народу».
Священный Синод, приняв в соображение сказанное, разъяснил, что в синодальном указе не говорится об осмотре икон в домах и о привлечении команд, да и вообще речь идёт не о раскольниках. Приказали: послать преосвященнейшему Тихону указ, чтобы «команд не требовать, икон ни в церквах, ни в домах городков и станиц не осматривать, отобрания икон не чинить и подписок не требовать».
Около того же времени священник Терновской архангельской церкви за донос о старообрядцах был станичным атаманом и казаками забит в большую колоду и отослан в Войсковую Канцелярию. Войско настаивало, чтобы воронежский епископ до детей донского духовенства не касался, «потому что духовные причётники, – как говорится в представлении, – производятся из казачьих детей». Для обучения их, а также детей священников, дьяконов «и прочих церковных детей» на Дону имелись уже школы с самого начала XVIII века. В казачьей иконописи так же, как и среди казаков на Днепре, сохранялось своеобразие. В частности, на одной иконе, написанной в начале 1770-х годов, личник изобразил стоящую на облаке (которое прогнулось) Богородицу, по сторонам от которой стоят Святитель Николай и Архистратиг Михаил. Под ними – две группы казаков, вместо положенных групп апостолов и Андрея Юродивого с Епифанием. С логической точки зрения «иконника» (иконописца) чубатые казаки вполне вписываются в образ, и тем самым событие VIII века оказывается максимально приближенным к реальной действительности.
В Донском Войске даже после присоединения его к Российской империи право казаков самим избирать себе тех священнослужителей, которые были им любы, отстаивалось неукоснительно. Так, в 1768 году «по приговору» аксайских казаков некий казак В. П. Власов, уроженец Черкасска, был представлен к посвящению в сан священника в новой Троицкой церкви. 25 октября Власов был уволен с казачьей службы и в тот же день наказной атаман Войска Донского С. Кирсанов написал преосвященнейшему Тихону прошение о назначении ктитора церкви Донской Богоматери Власова на одобренную казаками должность. 26 октября в храме Донской Богоматери отец Василий преосвященнейшим Тихоном был рукоположен в диакона, а 28-го – в иерея.
На Дону отношения казаков с Церковью были весьма своеобразны. В частности, вдовые священники на Дону служили с незапамятных времён. У днепровских казаков всегда священники в Сечи и её паланках были из монахов, и в Черкасске с запорожцами были тоже священники-монахи, а на Дону это было совсем необязательно. На Николин день на Дону освящали водку вместо воды, и разносили молящимся в храме. Подобных донским церковных обрядов и обычаев не было на всём остальном пространстве Российской империи. Общемосковских церковных порядков не было также и в епархии Сугдейско-Азовской, ведению которой принадлежали древние готаланы.
* * *
За поимку вождя восстания Емельяна Пугачёва донской полковник А. И. Иловайский грамотой Екатерины II был назначен наказным атаманом Войска Донского и награждён чином армейского полковника, а через год пожалован войсковым атаманом. Иловайский, несмотря на участие в подавлении казачьего восстания за свои права и вольности, оставался в душе истым казаком. Поэтому он старался поддерживать старые казачьи устои и оградить самобытность Войска от каких-либо нововведений и поползновений фаворитов царицы.
Подтверждением этому в делах Синода имеются донесения епископа Воронежского, что атаман Иловайский запрещает ему вмешиваться в духовные дела казачьих приходов, так как причты их определяются с утверждения «Казачьяго Круга и старшин», и даже набил колодки на протопопа Черкасского собора за то, что тот осмелился власть своего архиерея поставить выше «веча», то есть Круга Старшин. Епископ доносил также, что казачьи церкви не ведут венечных записей и метрик.
Этими донесениями объясняется многое. Атаман Иловайский не был ни изувером, ни крамольником, напротив, считался человеком просвещённым и заботился о насаждении образования на Дону и поднятии его экономического развития. Иловайский действовал так в отношении «московской Церкви» под нравственным влиянием Войскового Круга, состоявшего в то время ещё из наследников вольных казаков.
Запорожское Войско являлось идеологической, организационной и военной базой в борьбе днепровских казаков за свою самостоятельность. В какой-то мере свидетельством этого может служить написанная в XVIII веке казачья икона «Покрова» с изображением на ней совсем не вписывающегося в строгие каноны московской Церкви символа казацкой независимости – гетмана Богдана Хмельницкого.
Казаки крепко держались своего быта и по мере сил берегли свою автономию. Возможно, благодаря этому глухому сопротивлению была 5 апреля 1829 года учреждена самостоятельная Новочеркасская и Георгиевская епархия, которую специально для казаков выделили из состава Воронежской епархии, давно погрязшей в спорах и склоках с казаками в связи с особенностями церковной жизни и обрядности последних. Правительство пошло по пути, некогда намеченному в Золотой Орде, и включило в новообразованную казачью епархию Область Войска Донского, Черноморское Казачье Войско и Кавказскую Область, то есть территории проживания донских, запорожских и терских казаков.
В 1832 году в пределах Рогожской слободы в Москве прошёл знаменитый Рогожский собор, куда съехались старообрядцы со всей России, в том числе казаки. На Соборе обсуждался замысел утвердить епископство за границей, поскольку иметь своего епископа старообрядцам не разрешали власти. Дальнейшие поиски архиерея по всему миру увенчались успехом и новоизбранный митрополит Амвросий начал служить в Белокриницком епископстве на территории Австрийской империи (ныне это территория Украины), стал рукополагать в сан епископов и священников для старообрядцев.
Продолжая линию на раздробление казачества, решением правительства от 17 июля 1842 года казачья Новочеркасская и Георгиевская епархия, просуществовав всего 13 лет, была расчленена. Из её состава была выделена Кавказская епархия (на землях Черноморского Казачьего Войска и Северного Кавказа). А остальная часть Новочеркасской и Георгиевской епархии была переименована в Донскую и Новочеркасскую.
Казаки-некрасовцы, находясь столетиями в эмиграции в Турции, продолжали пользоваться «Заветами Игната». Писанный свод своих законов некрасовцы утеряли, но ещё и в ХХ веке пользовались «Заветами» по памяти. В духовной жизни «Заветы» требовали неизменно придерживаться старой веры, никонианское и греческое духовенство у себя к службе не допускать, старообрядческих священников, не выполняющих волю Круга, считать еретиками и изгонять, за богохульство убивать. Но двуперстие, старая вера только вдохновляли некрасовцев в боях, а не служили основной целью их движения. И в начале XVIII века на Дону и Кубани, и позднее на турецком Майносе религия оставалась лишь частью национальной идеологии некрасовских казаков, а не самоцелью.
Несколько иной облик приобрела община, оставшаяся в Добрудже, – «дунаки» или «хохлы», как их называли майносцы. Эти постепенно потеряли казачьи национальные черты и обратились в эмиграцию религиозную. Некрасовцы дунайской ветви принимали к себе всех уходивших с родины старообрядцев – и русских, и украинских. Поэтому впоследствии они ассимилировались с позднейшими выходцами из России, утратили язык своих предков, обычаи, фольклор, предания и песни об Игнате, его «Заветы». Не потеряли только желания называться казаками.
Со временем кубанцы-майносцы стали различаться с дунаками и по религиозному обряду. В то время как первые отказались от всякого духовенства и остались при своих начётчиках (их называют «беспоповцами»), вторые стали принимать к себе духовных пастырей белокриницкой или австрийской иерархии. В начале XX столетия среди дунаков стало распространяться «единоверие», причём их причётники рукополагались в священники московскими епископами.