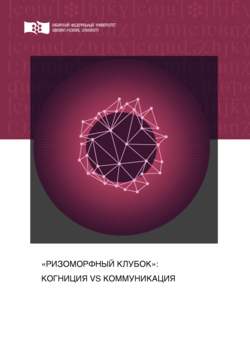Читать книгу «Ризоморфный клубок»: когниция vs коммуникация - А. В. Колмогорова - Страница 4
Глава 1
Онтогенез коммуникативного поведения в аспекте когнитивной экологии
1.3. Формирование принципов когнитивных предвосхищений и когнитивных ожиданий в диалоге
ОглавлениеПо С. Коули (Cowley, 2004a), умственный или ментальный опыт суть социальный опыт, поскольку важнейшую роль в протекании интеллектуальных процессов играет так называемое неглубокое мышление (shallow thinking), базирующееся на способности предсказывать, прогнозировать ситуации и способы поведения в них на основе опыта социального взаимодействия с другими членами социума.
Таким образом, в рамках данной концепции диалог предстает на уровне плана содержания как: а) взаимное наложение когнитивных ожиданий (как, я думаю, будут вести себя люди, с которыми я взаимодействую) и когнитивных предвосхищений действий (каковы, с моей точки зрения, ожидания других людей в отношении моего поведения в отношении их) взаимодействующих субъектов; б) план содержания телеологичен – для достижения согласованности действий, создания общей области взаимодействия для субъектов, имеющих разный когнитивный опыт (по конфигурации, содержанию, сложности структуры и т. д.); на уровне плана выражения: в) использование миметических схем (схем имитации, повторения за кем-либо) для реализации как вербального, так и невербального компонентов диалогического взаимодействия; г) мультимодальность плана выражения (в равной мере опора на вербальные, просодические, жестовые структуры).
В нашем материале (видеокорпус взаимодействий русских матерей со своими детьми объемом 70 часов звучания) привлек внимание такой вид взаимодействия, как рассказывание стихотворения, который характерен для общения матерей с детьми, начиная с 18 месяцев, т. е. с началом активного речевого онтогенеза. В педагогике существует устойчивая традиция считать рассказывание стихотворения методическим средством развития памяти ребенка. На наш взгляд, это особая практика общения, которая призвана сформировать в речевом и – шире – когнитивном опыте ребенка навыки диалогического общения. Анализ этих навыков, формируемых в подсознательных действиях матери, может дать ценный материал для выявления некоторых фундаментальных принципов диалогического взаимодействия в целом.
Уже упоминалось, что Л.С. Выготский, опровергнув гипотезу Ж. Пиаже об изначальной эгоцентричности детской речи, признал первичной ее формой социальную речь (Выготский, 2007: 50). Однако для формирования в коммуникативном опыте ребенка паттернов «правильного» диалогического общения ребенку еще не достает жизненного опыта: он просто не знает, что от него ожидают его партнеры по коммуникации, каких реплик должен ждать он сам. В данном случае рассказывание стихотворения превращается в диалогическое взаимодействие, при котором хорошо известная обоим коммуникантам форма (текст стихотворения как последовательность звуков, интонем, синтаксических конструкций и лексического наполнения) снимает трудность формальной реализации принципов предвосхищения и ожидания, позволяя сосредоточиться на их аффективном воплощении, на их принципиальной важности для диалогизирования (табл. 1.1).
Анализируя данный фрагмент, мы можем наблюдать постепенное формирование в когнитивном опыте ребенка принципа предвосхищения каждого следующего диалогического шага: сначала (1) ребенок опирается на принцип цитации, просто повторяя последнее слово в реплике матери;
затем (2) продолжает строку, следуя принципу диалогического предвосхищения (мысленно отвечая на вопрос: что от меня ждут, что я скажу сейчас), видит одобрение; после некоторой паузы (3) продолжает строчку в соответствии с ожиданиями взрослого и имитирует интонацию мамы, реализуя миметический (имитативный) принцип, получает еще большее одобрение; на следующем шаге (4) достигается максимальная согласованность действий коммуникантов – ребенок улавливает принцип диалогического предвосхищения в полной мере, а также использует миметический принцип, имитируя как просодику матери, так и ее невербальное поведение, устанавливается визуальный и эмоциональный контакт; в завершение (5) эмоциональное возбуждение ребенка спадает, использование принципа предвосхищения остается стабильным. Отметим, что интонационная характеристика такого «совместного» рассказывания стихотворения в полной мере повторяет интонационный рисунок обычного диалога двух коммуникантов. Какую теоретическую интрпретацию наблюдаемому можно дать?
Таблица 1.1
Диалогизирование в процессе рассказывания стихотворения (мама – 25 лет, дочь – 2 года)
Н.Д. Арутюнова отмечала: «В рамках межличностной праздноречевой деятельности наиболее желательна для говорящего реакция, отвечающая условию согласия, единомыслия и единочувствия. Адресат должен принять приглашение к сопереживанию. В этом состоит цель говорящего» (Арутюнова, 1999: 655). Таким образом, один шаг диалогического взаимодействия (одна адъяцентная пара), представляя собой сцепление ожидания одного коммуниканта и предвосхищения другого, может быть описаны так:
Я – коммуникант Z, ожидаю, что Х скажет нечто Y ↔ Я – коммуникант Х, думаю, что Z ждет, что Я скажу нечто Y′; Я говорю Y′ или неY′, а визуально представлены на рис. 1.1.
Рис. 1.1. Схема диалогического сцепления
Соответственно, чем ближе оба Y друг другу, тем успешнее диалогическое взаимодействие. При этом коммуникант Z строит свои ожидания на основе тех интенций, которые им заложены в реплике, и тех парадигматических лексических связей, которые в его языковом сознании данные интенции актуализировали (он опирается на план содержания высказывания). Коммуникант Х же опирается на синтагматическую структуру высказывания Z, его план выражения и мультимодальные характеристики, чтобы суметь смоделировать его план содержания, а затем – содержание собственного высказывания.
Можно предположить, что если интенции и ожидания Z для Х неясны или их понимание затруднено, то для реализации принципа предвосхищения Х воспользуется имитацией (миметическими схемами). Как говорила героиня одного сериала подруге, жаловавшейся на то, что не понимает, о чем говорят в тусовке коллеги ее нового бойфренда, и не знает, как вести с ними беседу: «Просто повторяй последние реплики твоих собеседников». Сравните в следующем обмене репликами: Боря оказывается настолько увлечен своим делом, что не слышит и не реагирует на реплики Феди, который, в свою очередь, затрудняется смоделировать, чего от него хочет Боря, и на реплику «Слышь ты, баран» отвечает зеркально «Слышь ты, тетерев»:
Федя: Хоро́ш пи́ть / говорю́ . Рабо́тать на́до.
Боря: Во́т / звук пошел. Слы́ шь ты́ / бара́н.
Федя: Слы́ шь ты́ / те́терев. Ты́ че / огло́х / что́ ли?
(НКРЯ, Олег Фомин и др. День выборов, к/ф, (2007)).
Есть случаи, когда ожидания и предвосхищения «сцепляются» практически автоматически благодаря типичным для некоторой лингвокультуры парным речевым паттернам (Дура! – Сама дура! – вторая часть адъяцентной пары актуализируется мгновенно). Сравните следующий обмен репликами, который происходит в ситуации, когда некто пренебрегает порядком, установленным в очереди, и прорывается вперед:
Мужик у пивной: Куда́ намы́ лился?
Костя: Да я́ посмотре́ть!
Мужик у пивной: Что́ смотре́ть? Дава́й, дуй в коне́ц о́череди!
(НКРЯ, Карен Шахназаров и др. Исчезнувшая империя, к/ф (2008)).
В последних двух строках можем наблюдать механизм диалогической цитации, понимаемый Н.Д. Арутюновой как случай использования реплик собеседника (или их фрагментов) в иных (обычно оппозиционных) коммуникативных целях (Арутюнова, 1986) и расширенный в трудах Н.Д. Голева и его учеников (Голев, 1989; Шпильная, 2016: 98) до понимания его как деривационного механизма текстообразования, определяющего прагматическую выводимость означаемого из означающего диалогического текста, прагматико-формальную когерентность диалогического текста в актах его антропоязыкового функционирования.
Кроме того, существует известная всем представителям лингвокультурного сообщества национально-специфическая «синтагматика интенций», когда в русской коммуникативной практике, например, за оскорблением следует оскорбление, за жалобой – обвинение (У меня горе – кошелек украли! – Сама виновата – не надо было его наверх в сумке класть), за самодискредитацией – похвала (У меня сегодня пироги какие-то не такие получились… – Да что ты – очень вкусно!), за похвалой – оправдание (Вы сегодня чудесно выглядите! – Да нет, что вы, это просто свет так падает…).
Наконец, важным средством реализации принципа когнитивного предвосхищения выступает лексическая когезия, актуализирующая в языковом сознании взаимодействующих коммуникантов парадигматические связи лексических единиц (отношения синонимии, антонимии, гипо-гиперонимические связи), сравните актуализацию синонимов в следующем микродиалоге:
(3) Мам / у нас с Зубковым сегодня прикол был. Елена Александровна [учительница] задала нам узнать у родителей / как они относятся к Маяковскому. ― А чего ж ты у меня не спросила? (НКРЯ: Домашние разговоры // М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова. Речь москвичей: Коммуникативно-культурологический аспект. М.: ИРЯ РАН, 1999, 1991‒1999).
Взаимно наслаивающиеся когнитивные принципы ожидания и предвосхищения диалогической реплики, по нашему мнению, составляют основу диалогического взаимодействия. Доступными лингвистическому анализу способами реализации принципов ожидания и предвосхищения являются используемые диалогирующими субъектами миметические схемы, парные речевые паттерны, синтагматика интенций, лексическая когезия. Принципы ожидания и предвосхищения как когнитивная основа диалогического взаимодействия, а также вышеперечисленные способы реализации данных принципов формируются в практиках общения матерей со своими детьми, т. е. подлежат усвоению в онтогенезе, являясь частью становления как социальной, так и речевой личности.