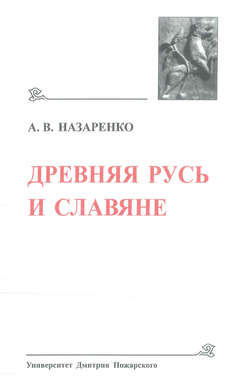Читать книгу Древняя Русь и славяне - А. В. Назаренко - Страница 5
III. Династический строй Рюриковичей Х-XII веков в сравнительно-историческом освещении[117]
ОглавлениеВ относительно недавно вышедшей книге двух известных английских исследователей, которая претендует, по замыслу авторов, на формулировку во многом подчеркнуто нового взгляда на историю Древней Руси, среди прочих неординарных мыслей высказывается убеждение, что одной из характерных особенностей древнерусского княжеского семейства было отсутствие у него каких-либо определенных династических правил: в каждом конкретном случае (начиная от отдельного столонаследия и кончая общерусскими договорами вроде Любечского 1097 г.) Рюриковичи будто бы гибко применялись к особенностям сложившейся ситуации, не стесняя себя теми или иными общими династическими принципами[118]. Будучи увлечены собственными идеями, авторы не склонны придавать большого значения разбору историографии, постулируя это даже в качестве исследовательской позиции[119]. Возможно, в иных случаях такой подход и имеет какие-то оправдания, но никоим образом не в случае с деликатной проблематикой династических взаимоотношений в семействе Рюриковичей в целом и в отдельных его ветвях в частности, несмотря на всю противоречивость суждений, высказывавшихся в науке на этот счет, а быть может, – именно ввиду такой противоречивости.
В данном случае позиция С. Франклина и Дж. Шепарда смыкается с крайностями так называемой «договорной теории» междукняжеских отношений, сформулированной в свое время В. И. Сергеевичем[120] в его полемике с «родовой теорией» С. М. Соловьева[121]. Развитие науки показало бесперспективность абсолютизации какого-то одного – будь то родового, будь то договорного – начала, ибо ни собственно родовые отношения внутри династии сплошь и рядом не обходились без договора, их подкреплявшего[122], ни договор не мог функционировать вне понятий династического легитимизма[123]. Поучительно наблюдать, как далеко за пределами древнерусской проблематики и абсолютно независимо от нее вдруг возникают схожие историографические коллизии. Так, давно и, казалось бы, прочно закрепившаяся в науке теория, выводящая территориально-политическую структуру Франкского государства эпохи первых Меровингов из архаической практики внутри-родовых разделов[124], вдруг была подвергнута радикальному сомнению в пользу идеи о том, что эти разделы определялись вовсе не какими-то общими династическими понятиями, а политическим договором ad rem, который исходил исключительно из особенностей ситуации[125]. Не приходится сомневаться, что субъекты этой полемики не подозревали о существовании своих русских прототипов вековой давности. Но для русиста эти симптоматичные схождения должны послужить лишним поводом вывести династическую проблематику Рюриковичей на простор сравнительно-исторических сопоставлений.
Разговорам о Древнерусском государстве как семейном владении Рюриковичей, начатым в рамках «родовой теории», суждено было надолго умолкнуть отнюдь не вследствие критики со стороны школы В. И. Сергеевича. Когда после работ С. В. Юшкова и Б. Д. Грекова в отечественной науке почти исключительно утвердился взгляд на Древнюю Русь как на государство феодальное, взаимоотношения между Рюриковичами даже древнейшей поры (до конца XI в.), если о них заходила речь, трактовались, как правило, в терминах сюзеренитета – вассалитета, то есть семейная терминология стала восприниматься лишь в качестве формы, которая скрывала фактически феодальные отношения[126].
В свое время, приступая к исследованию междукняжеских отношений на Руси, мы исходили из такой историографической ситуации как из данности и пытались путем типологических сопоставлений определить, с какого именно времени реальное содержание семейной терминологии оказалось выхолощенным, когда именно она превратилась в форму для иноприродного содержания? Внутридинастические отношения, в силу их относительно хорошей освещенности источниками, представлялись нам удобным материалом для выявления их постепенной феодализации, которая, в свою очередь, могла служить известной мерой «феодальности» общества в целом, а также помочь в поисках рабочих критериев синхро стадиальности разных обществ, тогда как эти критерии обеспечили бы уже научную обоснованность типологической компаративистики[127]. Однако углубление в тему, и прежде всего именно в сравнительно-исторический материал, убедило нас в необходимости отличать династическую проблематику от вопросов становления феодализма.
Феодальные, иными словами сюзеренно-вассальные, отношения связывают не членов династии друг с другом, а членов династии – со знатью, в той мере, в какой она состоит из держателей бенефициев (оговоримся на всякий случай, что ведем речь о раннефеодальном периоде). Таким образом, то, что можно было бы назвать феодализацией общества, происходило не внутри династии, а рядом с ней, хотя и при ее участии. Это очевидно на примере Франкского государства – в отличие от Руси, где скудость (если не сказать – отсутствие) выразительных данных о феодализации в домонгольское время заставляла историков искать следы феодализма там, где обнаруживается хоть какая-то иерархичность отношений, то есть внутри на удивление разветвленной и многочисленной княжеской династии. Пример Франкского государства ясно показывает, что видеть в междукняжеских династических разделах проявление пресловутой «феодальной раздробленности» совершенно неверно; образование династических уделов и феодальная децентрализация не имеют между собой ничего общего. Во-первых, разделы между членами династии сопровождают всю историю Франкского королевства, начиная с его основателя Хлодвига (умер в 511 г.), когда не только о феодальной раздробленности, но и о начатках феодализма говорить затруднительно. Во-вторых, мы видим, как совершенно независимо от династических уделов – отнюдь не на их основе, а внутри них – образуются те самые устойчивые наследственные территориальные владения знати, которые со временем становятся главными носителями феодальной раздробленности[128]. Удивительную типологическую близость династических порядков на Руси Х-XII вв. и во Франкской державе VI–IX столетий[129] невозможно продлить на общественно-политический строй обоих государств, который вырастает из слишком несхожих корней.
К сфере династической истории принадлежит по преимуществу и тема столонаследия, хотя эволюция его форм, попытки вывести его из сферы обычного права, подвергнуть особому регулированию, разумеется, стоят в связи с развитием государственности и государственного правосознания, и о некоторых сторонах этой зависимости пойдет речь и в настоящей работе.
Основополагающим принципом, определявшим взаимоотношения между членами правящих династий во многих раннесредневековых европейских государствах, был институт, изученный в первую очередь на франкском материале и получивший в науке название братского совладения[130] (corpus fratrum, Brüdergemeine, gouvernement confraternel)\ оно выражалось в непременном соучастии всех наличных братьев в управлении королевством по смерти их отца, что имело следствием территориальные разделы между ними, возникновение королевств-уделов[131]. Показательно, что при этом сохранялось представление о политическом единстве, которое, таким образом, вовсе не связывалось с единовластием как нормой, а было воплощено именно в единстве правившего рода. Благодаря этому единству единовластие всегда присутствовало как потенция, способная реализоваться в любой момент в силу династической конъюнктуры.
В феодализирующемся государстве corpus fratrum являлось пережитком эпохи варварских королевств, когда королевская власть была прерогативой не одной личности, а всего правившего рода, что обусловливало применение к объекту властвования процедур обычного наследственного права. Это могло быть связано, как считается, с идущим из древности представлением о сакральной природе королевской власти, в силу которой каждый член королевского рода ео ipso обладал властной харизмой. Следствием было известное безразличие к дифференцированной титулатуре: «королем» (тех) был всякий член рода, королями в равной мере титуловались все участники династических разделов по corpus fratrum у франков. Сходным образом и на Руси вследствие монополии Рюриковичей на княжеское достоинство важно было подчеркнуть принадлежность к роду с помощью универсального титула «князь», а также место во внутриродовой иерархии (как правило, посредством указания на принадлежность к поколению «отцов» или «сыновей»), тогда как к употреблению внешних символов власти, в том числе и развернутой титулатуры, наблюдается известное безразличие[132]. Не удается обнаружить в источниках и следов сколько-нибудь развитой церемонии княжеского настолования, которая была бы связана с вручением тех или иных инсигний власти (венца, державы и т. и.) или церковным помазанием[133]. Единственное, что стремится иной раз подчеркнуть летописец в связи с интронизацией киевских князей – это отчинную преемственность, то есть чисто династически-родовую сторону дела: «седе имя рек на столе отне и дедне».
Слом династического легитимизма у франков в VIII в., когда Меровинги были сначала de facto, а затем и de iure насильственно устранены от власти и на престол взошел Пипин Младший (751–768), первый король новой династии Каролингов, имел следствием повышенное внимание к репрезентации власти и введение в коронационный церемониал дополнительных сакральных процедур – в частности, церковного помазания. Необычность для «варварских» династий такого нововведения была очевидна и стала даже предметом иронии со стороны византийских наблюдателей[134]. Но и эта естественная озабоченность Каролингов проблемой легитимизации своей династии не могла воспрепятствовать усвоению (или сохранению) ими идеологии и практики братского совладения. Более того, позволительно догадываться, что они воспринимали последнее в качестве одного из признаков легитимности, «правильности» устройства династии. Если говорить о титулатуре, то это выразилось в продолжавшейся ее нивелировке, которая, как ни парадоксально, имела место даже после учреждения у франков империи в 800 г. Трудно найти документ более официальный, чем политическое завещание Карла Великого (768–814) – так называемое «Размежевание королевств» («Divisio regnorum», 806 г.), и потому особенно показательно, что все трое сыновей Карла, которые были в живых на тот момент, не только получали по распоряжению отца примерно равные уделы, но и титуловались совершенно одинаково – reges. И напрасно историк стал бы искать в завещании вроде бы столь уместного упоминания об «империи» или праве на титул «император»[135]: завещание оказывается несомненным документом идеологии братского совладения.
Эти типологические наблюдения еще раз подтверждают неоднажды высказывавшееся в науке суждение, что эпизодически встречающийся в древнерусских текстах X – третьей четверти XII в. титул «великий князь» (в той мере, в какой он применялся к киевским князьям) не был официальным в смысле отражения какого-то устойчивого политико-династического терминологического обычая. В определении «великий» следует скорее всего видеть чисто риторическую амплификацию, иногда калькирующую иноязычные образцы (как в договорах с греками первой половины X в.)[136].
Аналогично обстояло дело и в сфере собственно владельческой: государственная территория и доходы с нее рассматривались как общесемейная собственность. Тем самым на последнюю распространялось обычное наследственное право, предполагавшее равное наделение всех сонаследников. Иногда такие разделы власти между братьями считаются проявлениями древнего германского права[137], однако славянские материалы показывают, что этот институт был распространен шире. Так или иначе он отмечается во многих раннесредневековых государствах: в Дании[138], Норвегии[139], Великой Моравии[140], Чехии, Польше[141] и др. Это типологическое сходство объясняется, очевидно, тем обстоятельством, что в своей основе древнейшие династические установления воспроизводили обычное наследственное право, имевшее у соответствующих народов общие корни[142]. Останавливаться здесь на этом параллелизме у нас нет возможности, тогда как сосредоточиться именно на франкских материалах заставляет не только благоприятное состояние источников. Дело еще и в том, что в других ранних германских королевствах братское совладение очень рано было утрачено, сменившись ярко выраженным сеньоратом (как у вандалов[143]) или единовластием на выборной основе, хотя и ограниченной рамками одного рода (как у вестготов[144] или лангобардов[145]), и лишь у франков возобладал архаический принцип раздела. Вопрос о причинах такой исключительности оставляем в стороне; для нас важно констатировать сам ее факт, который и создает возможность сравнения династического строя у франков и на Руси. Каролингские мажордомы конца VII – первой половины VIII в. в лице Пипина Среднего и Карла Мартелла препятствовали разделам между меровингскими королями – но только затем, чтобы практиковать их внутри собственной быстро крепнувшей династии. Единоличная власть короля Хлодвига, создателя Франкской державы, стала возможной в результате поголовного уничтожения им на рубеже V–VI вв. всех родичей и представителей других королевских родов у франков[146]. Но основанное Хлодвигом королевство все равно и им самим, и его преемниками воспринималось как патримоний и потому оказалось поделено поровну между четырьмя его сыновьями[147].
Сходный процесс на Руси пришелся, очевидно, на середину и третью четверть X в., после чего княжеская власть сосредоточилась в руках Игоревичей. Между тем, еще в 940-х гг. существовало достаточно многочисленное княжеское семейство, главные представители которого перечислены в преамбуле русско-византийского договора 944 г.[148] Наличие в этом списке женщин, а также скандинавские имена послов не позволяют видеть в лицах, имевших право на личных представителей во время переговоров, ни посадников киевского князя на местах, ни местных родоплеменных князей, а только кровнородственный коллектив Рюриковичей. Весь он, как есть основания думать, консолидированно пребывал в Киеве[149], из чего можно заключить, что речь идет о ранней стадии братского совладения, которая выражалась в праве на долю в государственном доходе (данях), но пока еще без территориальных разделов. Эта практика, равно как не вполне ясная территориально-политическая структура Древнерусского государства первой половины X в. в целом[150], подвергается затем (вероятно, в правление княгини Ольги и ее сына Святослава) преобразованиям, в ходе которых на смену нераздельному совладению приходят территориальные уделы.
Архаичность corpus fratrum лишний раз подчеркивается тем, что сыновья от наложниц при разделах обычно уравнивались в правах с сыновьями от свободных жен. Так, по поводу раздела между сыновьями датского короля Кнута Могучего (умер в 1035 г.), произведенного по распоряжению последнего, Адам Бременский (70-е гг. XI в.) замечает: несмотря на то, что «Свен и Харальд были сыновьями от наложницы, они, по обычаю варваров, получили равную долю наследства среди детей Кнута»: Харальд – Англию, Свен – Норвегию, а законный сын Хардекнут – Данию[151]. Соответственно и у Меровингов внебрачные дети были равноправными наследниками франкских королей; Каролинги, поставившие королевскую власть в зависимость от легитимизирующей церковной санкции в виде помазания, не могли вполне игнорировать разницу в династическом статусе между рожденными в церковном браке и внебрачными детьми, но и они оставляли за собой право признавать при желании или необходимости внебрачных сыновей в качестве законных наследников[152]. Конкубинат был в порядке вещей и в славянских династиях. Козьма Пражский (первая четверть XII в.), сообщая о внебрачном происхождении чешского князя Бржетислава I (1034–1055), который был сыном князя Олдржиха (1012–1034) от наложницы Божены, отмечает не только позволительность, но даже определенную династическую престижность конкубината в то время[153]. Великопольский и мазовецкий князь Збигнев, старший сын польского князя Владислава-Германа (1079–1102) и брат Болеслава III (1102–1138), был рожден еще до брака своего отца с его первой супругой[154]. Возможно, связь Владислава с матерью Збигнева церковь объявила конкубинатом только для того, чтобы открыть дорогу для политического брака Владислава с дочерью чешского князя Братислава II[155], но показательно, что это ничего не изменило в юридическом статусе Збигнева, который в 1093 г. был объявлен законным наследником, а после смерти отца получил половину державы.
Аналогичным было положение дел и на Руси. Мстислав, сын киевского князя Святополка Изяславича (1093–1113), «бе от наложнице», что, однако, ничуть не мешало ему действовать равноправно наряду с законными сыновьями: в 1097 г. он был посажен отцом на Волыни[156]. Есть данные, указывающие на внебрачное происхождение и самого Святополка Изяславича[157]. В свете сказанного наделение Новгородом «робичича» Владимира Святославича наравне с братьями Ярополком и Олегом, получившими Киев и землю древлян соответственно, выглядит вполне закономерно, тогда как явно анекдотический характер летописного рассказа о приглашении Владимира новгородцами («Аще бы шел кто к вам»)[158] только затемняет суть дела.
Однако в самой патримониальной природе corpus fratrum был заложен роковой порок. Да, династическое единство, несмотря на наличие уделов, служило очевидной манифестацией и реальным залогом единства государственного. На этом принципе была построена вся психология власти, характерная для братского совладения. Впечатляющей декларацией ее может служить ответ франкского императора и итальянского короля Людовика II (850–875) на несохранившееся послание византийского императора Василия I (867–886). Едва взойдя на престол василевсов, Василий I поставил под сомнение признанный в свое время его предшественником Михаилом I (811–813), хотя и с оговорками, императорский титул франкских государей, причем одним из аргументов для Василия I, как можно понять, было отсутствие единовластия у франков. В 871 г. в Константинополе получили характерное разъяснение: «Относительно того, что ты говоришь, будто мы правим не во всем Франкском государстве, прими, брат, краткий ответ. На самом деле мы правим во всем Франкском государстве, ибо мы, вне сомнения, обладаем тем, чем обладают те, с кем мы являемся одной плотью и кровью (выделено нами. – А. И.), а также – единым, благодаря Господу, духом»[159]. Столь развитое династическое сознание, разумеется, не могло рассчитывать на понимание в Византии[160]. Но хуже было другое. Возникавшая время от времени вследствие благоприятной династической ситуации устойчивость того или иного удела не могла не приводить к столкновению между принципом родового совладения и идеей отчинности удела, которая была столь же неотъемлемой частью патримониального сознания, как и родовое совладение, являясь, в сущности, проявлением этого сознания на уровне удела. Таким образом, патримониальное сознание, коль скоро оно определяло династические отношения, порождало не только братское совладение, но и его конфликт с идеей отчинности.
Принцип братского совладения предполагал в случае смерти одного из братьев только один образ действий: удел умершего доставался не его потомству, а остававшейся в живых братии – так называемое «прирастительное право» (Anwachsungsrecht), если пользоваться немецкой юридической терминологией. Так, трое братьев, сыновей франкского короля Хлотаря I (511–560/1), ставшего в 558 г. единовластным правителем Франкского государства, в 568 г. поделили между собой удел умершего четвертого брата, Хариберта (561–567)[161]. Совершенно понятно, что подобная практика должна была приводить к конфликту с достаточно взрослыми сыновьями покойного, коль скоро таковые имелись, с их выраставшим из патримониального быта правом на наследование удела отца – отчинным «заместительным правом» (Eintrittsrecht). Отчинному праву и у франков, и на Руси принадлежало будущее, но на этом основании вовсе не следует думать, что оно было моложе братского совладения[162]. Примеры наследования по «заместительному праву» в государстве Меровингов столь же древни, как и по «прирастительному», и известны уже с VI в. Когда в 533 г. умер старший сын Хлодвига Теодерик I, его удел наследовал сын Теодеберт I, несмотря на наличие у Теодерика братьев. После гибели в 524 г. Хлодомера, младшего в потомстве Хлодвига, его удел оказался под управлением его матери, вдовы Хлодвига Хродехильды[163], предназначаясь в будущем для трех малолетних сыновей Хлодомера.
Неудивительно поэтому, что столкновения между дядьями и племянниками столь обычны как для Франкского государства, так и для Древней Руси. Теодеберт I, будучи к моменту смерти Теодерика I вполне взрослым и пользуясь поддержкой воинов своего отца, сумел отстоять свое отчинное право, несмотря на намерение его дядей, Хильдеберта и Хлотаря, разделить наследие старшего брата[164]. В случае же с сыновьями Хлодомера их малолетство позволило тем же Хильдеберту и Хлотарю через некоторое время вмешаться и, после убийства двух племянников и пострижения третьего, разделить королевство брата[165].
Наиболее ранними примерами на Руси могут служить вооруженные выступления подросших сыновей младших Ярославичей, имевшие место в киевское княжение их дядей Изяслава и Всеволода. В 1057 г. на смоленском столе умирает один из младших Ярославичей – Вячеслав, и в Смоленск из Волыни переводится его брат Игорь, который вскоре, в 1060 г., также умирает[166]. О судьбе Волыни после 1057 г. сведений нет, но вот Смоленск по смерти Игоря Ярославича оказался поделен между тремя братьями покойного[167] – достаточно типичный случай действия «прирастительного права». Это заставило в 1081 г. возмужавшего Давыда Игоревича обратить внимание на свои династические права путем мятежа – захвата сначала Тмутаракани, а затем приморского Олешья. В результате Давыд добился от своего дяди, киевского князя Всеволода Ярославина (1078–1093), выделения себе стола, причем, заметим, в конечном итоге не какого-нибудь, а своей отчины – Владимира Волынского[168]. Когда в ходе передела волостей после смерти киевского князя Святослава Ярославина (1073–1076) и второго возвращения в 1077 г. на киевский стол Изяслава Ярославина племянник последнего Олег Святославич лишился Волыни, он явился в отчий Чернигов, который к тому времени оказался занят другим его дядей – Всеволодом Ярославичем[169]. Не сумев договориться со Всеволодом, Олег, возможно, оставшийся к тому времени старшим среди Святославичей[170], счел себя вправе добиваться отчины силой и в 1078 г., хоть и ненадолго, захватил Чернигов[171]. Какую цель ставил перед собой другой племянник Изяслава и Всеволода – Борис Вячеславич, выступивший в 1078 г. союзником Олега, из источников неясно, но по аналогии можно догадываться, что в конечном итоге и он стремился овладеть своей отчиной – Смоленском.
Интересно отметить, что в летописных контекстах и в случае с Олегом, и в случае с Давыдом о борьбе за отчину не говорится и термин «отчина» не употребляется. Вполне возможно, что летописец просто не прозревал отчинной подоплеки конфликтов вследствие ее завуалированности: раз Давыд поначалу удовольствовался Дорогобужем, значит, добивался не столько именно Волыни, сколько достойной волости вообще; в этом смысле отчинный Владимир оказывается равен неотчинному Дорогобужу И, продолжая эту логику: если бы Олегу весной 1078 г. была бы оставлена Волынь, вряд ли он стал бы требовать Чернигов. Наверное, так. Но дело в том, что владимирский стол был для Олега также отчинным, ведь именно на Волыни некоторое время, еще при жизни Ярослава Мудрого, сидел Святослав Ярославин[172]. Тогда стало бы понятным, почему беспокойный Давыд терпеливо ждет, когда Волынь освободится после Ярополка – ведь и для последнего Владимир был, как можно думать, отчинным столом[173], а генеалогически Изяславич был старше Игоревича.
После сказанного неудивительно, что в 1097 г. принцип «кождо да держить отчину свою» лег в основу общерусского междукняжеского договора, заключенного в Любече[174]. Думаем, неверно было бы понимать летописное сообщение об этом договоре так, будто возникшие из отчин владения Святополка Изяславича, Владимира Всеволодовича и Святославичей противопоставлены в нем владениям Давыда Игоревича и Ростиславичей как пожалованиям, полученным от киевского князя Всеволода Ярославина («<…> имже роздаял Всеволод юроды»). Нет, и стол Давыда, и, возможно, столы Ростиславичей[175]также были отчинными, только эту отчинность уже успел подтвердить Всеволод. Не Любечский договор создал древнерусскую отчину и, тем более, не прецедентное право в связи с отвоеванием Олегом отчинного Чернигова в 1094 г. (после чего термин «отчина» настойчиво зазвучал на страницах летописи), а древнее родовое отчинное право, легшее в основу любечских решений, сделало эти последние понятными и удовлетворительными для всех. О том же говорят и примеры из франкской истории.
Прогнозируемость конфликта побуждала к попыткам законодательно урегулировать принципиальное противоречие между братским совладением и отчинностью. Так, соответствующую клаузулу содержит уже упомянутое завещание Карла Великого 806 г. После подробных распоряжений о том, как в случае смерти одного из братьев следует поделить его королевство между двумя остальными, читаем: «Если же у того или иного из этих трех братьев родится такой сын, которого народ захочет избрать для наследования отцу в его королевстве, то желаем, чтобы дядья того юноши согласились на это и позволили сыну своего брата править в части королевства, которая принадлежала его отцу, их брату»[176]. Понятно, что тем самым сделано, да и сказано, немного: обязать братьев-соправителей санкционировать пожелания местной знати (разумеется, именно ее приходится подразумевать под «народом») означало всего лишь признать сложившуюся противоречивость династического права, призывая по возможности, исходя из конкретной политической ситуации, учитывать оба принципа: и вытекающее из corpus fratrum право дядей (от них требуется «позволение»), и отчинное право племянников. В этом смысле показателен уже упоминавшийся пример Давыда Игоревича. С одной стороны, он получает Волынь из руки киевского князя Всеволода Ярославича, своего дяди; с другой – ничто, казалось бы, не заставляет Всеволода перемещать племянника на освободившийся владимирский стол, ведь Давыд уже имеет удел. Но киевский князь все же делает это. Что движет им? Только признание отчинного права Давыда. И потому посажение Игоревича на Волыни – это все тот же династический компромисс, к которому призывал своих сыновей Карл Великий в завещании 806 г.
Возвращаясь на мгновение к спору между сторонниками семейнородового и договорного начал во внутридинастических отношениях, о котором шла речь в начале статьи, заметим, что тут-то, в необходимости действовать внутри системы конфликтных правовых начал, совершенно очевидно, и открывается поле для договора – как между князем (королем) и знатью, так и между членами династии. Но причиной тому оказывается вовсе не отсутствие династических принципов, а напротив – их сложное многообразие.
Говоря о типичном для братского совладения конфликте между дядьями и племянниками, надо иметь в виду еще один, особый, случай отчинного права, который в равной мере представлен и у франков, и на Руси.
Отчинное право потому и получило наименование «заместительного», что сыновья умершего члена династии наследовали не столько удел отца, сколько его династический статус, «место» отца в династической иерархии[177]. Собственно, это последнее и определяет статус удела покойного. В результате положение по отношению к дядьям тех племянников, отец которых умер самостоятельным соправителем по corpus fratrum, принципиально отличалось от положения тех, отец которых таким полноценным участником братского совладения по тем или иным причинам не был – обычно просто потому, что не успел им стать, умерев прежде своего отца[178]. Так, несмотря на то что старший сын Карла Великого Пипин, король Северной Италии, умерший в 810 г. при жизни отца, оставил сына Бернхарда, это не привело к разделу между Бернхардом и его дядей Людовиком, младшим сыном Карла, после смерти последнего в 814 г.: сын Пипина, еще при Карле назначенный итальянским королем вместо отца и в этом смысле наследовавший ему, так и остался таковым под рукой своего дяди Людовика Благочестивого (814–840)[179]. Точно такая же судьба ждала и аквитанского короля Пипина II, сына Пипина I Аквитанского, среднего из трех сыновей Людовика Благочестивого. Пипин I скончался при жизни отца, в 838 г., и потому его сын и тезка не был допущен к участию в разделе Франкского государства по Верденскому договору 843 г. наравне с дядьями и вынужден был ограничиться аквитанским уделом своего отца под властью дяди Карла Лысого (840–877), за которым в Вердене было закреплено Западнофранкское королевство. Такое положение дел de iure, конечно, вовсе не исключало того, что для его фактической реализации и Карлу, и Пипину пришлось применить вооруженную силу; в результате в 845 г. между ними был заключен соответствующий договор[180], который, однако, не помешал Карлу впоследствии избавиться от неудобного племянника.
И Пипин Итальянский, и Пипин I Аквитанский ушли из жизни в положении удельных королей, подчиненных своим отцам – Карлу Великому и Людовику Благочествому; реализация отчинного права их сыновей, Бернхарда и Пипина II, делала последних преемниками этого подчиненного статуса. При жизни Карла и Людовика владельческое положение их осиротевших внуков внешне вроде бы не отличалось от положения их сыновей: и те, и другие титуловались королями и располагали собственными уделами-королевствами, находясь под верховной властью деда и отца. Однако династический статус внуков и сыновей при этом был разный, так как внуки не обладали правом участия в государственном разделе по смерти деда, как сыновья – по смерти отца; подчиненное положение внука по отношению к деду продолжалось в виде подчинения племянника по отношению к дяде (дядьям). Подчиненное положение племянников в таких случаях характеризуется в литературе условным термином «подкоролевство» (Unterkönigtum), чтобы отличить его от самостоятельных уделов дядей[181]. Источникам, однако, этот термин неизвестен, и несмотря на различное место в династической иерархии, как дядья, так и племянники в равной мере титуловались королями, а их владения – королевствами. Попытки сломать эту династическую традицию предпринимались: Карл Лысый – насколько можно судить по терминологии «Бертинских анналов», которые в целом отражали его позицию[182], – предпочитал в упомянутом договоре 845 г. с Пипином II характеризовать владения племянника не как «королевство» (<regnum), а как «волость» (<dominatus)[183]. Однако такие попытки были единичны и, главное, безрезультатны: сам Пипин II, хотя и признавал Карла своим «главой» (patronus), в своих грамотах продолжал именовать свои земли королевством[184], и Карл не мог ему в этом воспрепятствовать.
Изложенное помогает, как представляется, лучше понять династическую природу схожих случаев на Руси.
Стараясь объяснить особое среди прочих Рюриковичей положение полоцких Изяславичей, один из авторов «Лаврентьевской летописи» излагает под 1128 г. предание, будто киевский князь Владимир Святославич (978-1015) за вину Рогнеды (покушение на жизнь князя) раз и навсегда ограничил права ее первенца Изяслава и его потомства Полоцким княжением[185]. Наивное представление, будто династический статус полоцких Изяславичей был определен волевым решением Владимира, как мы теперь понимаем, совершенно неверно. Дело в другом: Изяслав Владимирович скончался в 1001 г.[186], то есть еще при жизни отца. Вот почему Брячислав Изяславич, несмотря на всю свою воинственность, по законам братского совладения не мог претендовать на участие в разделе наследия своего деда наряду с дядьями Святополком, Ярославом и Мстиславом Владимировичами. Уступку Ярославом Брячиславу двух городов, Усвята и Витебска[187], разделом, естественно, назвать никак нельзя, то была просто цена лояльности беспокойного соседа.
Равным образом выпадал из раздела по смерти Ярослава Мудрого внук последнего Ростислав Владимирович, сын старшего из Ярославичей, умершего при жизни отца, в 1052 г.[188], и потому немудрено, что источники ничего не говорят о его наделении. Это не значит, что по завещанию Ярослава 1054 г. или несколько позднее по воле дядей Ростислав не получил удела. Удел, несомненно, имелся, и косвенные данные позволяют догадываться, что таковым могла быть Волынь или ее южная часть с центром в Перемышле, где позднее застаем старшего из Ростиславичей – Рюрика[189]. Но этот удел не был самостоятельным, подобно уделам Ярославичей, – и вовсе не потому, что не был наследственным, полученным от отца. Точно так же не был самостоятельным, несмотря на наследственный характер, и полоцкий удел Изяславичей. Как наследственные уделы Бернхарда и Пипина II Аквитанского должны были оставаться вечными «подкоролевствами», независимо от перемен на императорском престоле, так и уделы Изяславичей и Ростиславичей обрекались на вечное подчинение Киеву, и никакие династические катаклизмы не способны были изменить этого статуса. Поэтому-то киевские князья – и Владимир Всеволодович Мономах в 1116 г., и Мстислав Владимирович в 1127 г. – были вполне в своем праве, когда старались привести строптивых полоцких Всеславичей в свою волю[190], ведь по положению в династической иерархии Полоцк оставался киевской волостью.
Сугубо династически-родовая природа этого княжеского «изгойства» верно отмечена в глоссе к статье 17 «Устава князя Всеволода»: «А се четвертое изгойство (выше шла речь об изгоях-попах, холопах и купцах. – А. Н.) и себе (то есть князьям. – А. Н.) приложим: аще князь осиротееть»[191]. Нелепо было бы думать, что автор этой глоссы хотел сказать, будто такой князь-изгой попадал, подобно изгоям священнику или купцу, в число «церковных людей» (именно перечисление «церковных людей» и составляет содержание 17-й статьи «Устава»). В самом деле, кто такой «осиротевший» князь? Всякий князь рано или поздно терял родителей, поэтому выражение «аще князь осиротееть» должно было иметь какой-то специфический смысл. Понятно, что речь шла именно о несвоевременном сиротстве, причем несвоевременном не в собственно возрастном отношении, ибо малолетство княжича само по себе не означало ущемления его прав как князя, а лишь затрудняло их осуществление. Имелась в виду несвоевременность династическая, когда отец изгоя, не пережив своего отца, не успевал стать самостоятельным князем по понятиям братского совладения. Именно в таком случае княжич и его возможное потомство были обречены навсегда остаться «подручниками» у своих династически более удачливых родичей. А князь-подручник – это, с точки зрения идеологии братского совладения, своего рода смысловое противоречие: только те князья суть «настоящие», которые являются «братьями» друг другу или «сыновьями» при «отце», то есть не потеряли династической возможности со временем стать «братьями». В этом смысле показателен возмущенный ответ смоленских Ростиславичей владимиро-суздальскому князю Андрею Юрьевичу Боголюбскому (1157–1174), приказавшему им оставить Киев и другие столы в Киевской земле: «Мы тя до сих мест яко отца имели по любви. Аже еси с сякыми речьми прислал, не акы к князю, но акы к подручнику и просту человеку <…>, а Бог за всем (то есть пусть Бог нас рассудит. – А. Н.)»[192].
Что же, составитель статьи 1128 г. «Лаврентьевской летописи», в отличие от глоссатора «Устава князя Всеволода», был так плохо знаком с династическими понятиями князей, дела которых описывал? Нет, конечно. Просто при изложении поэтически-красочного предания, которое носит все признаки этиологической легенды, летописец позволил себе отвлечься от исторической прозы, уверяя читателя, будто Владимир построил для Изяслава и его матери город Изяславль (один из удельных центров Полоцкой земли) и «оттоле мечь взимають Роговоложи внуци противу Ярославлих внуков», – хотя не мог не знать, что Изяслав был посажен отцом не в Изяславле, а в Полоцке, и что Рогнеда была матерью не только Изяслава, но и Ярослава[193].
Итак, изначально междукняжеские отношения, вырастая из отношений патримониальных, по самой своей природе сопротивлялись феодализации, подчинению идее вассалитета, так как в принципе все князья были актуально или потенциально равны, старшие были для младших «яко отци по любви». И только особенное положение князей-изгоев давало повод и возможность для, так сказать, «огосударствления», или (что то же в данном случае) «феодализации» отношения к ним со стороны династически старейшего. Повествуя о государственной присяге, то есть феодальной коммендации Пипина Аквитанского Карлу Лысому при заключении упомянутого договора 845 г., источник тут же «переводит» ее на язык семейнодинастической терминологии: «<…> приняв от него клятву верности, что он отныне будет ему верен, как племянник своему дяде, и во всякой нужде будет посильно помогать ему»[194]. Таким образом, феодализация родовых междукняжеских отношений оказывается тесно связана с вызреванием в политической элите государственного сознания. Проблема становления такового в целом далеко выходит за рамки проблематики данной статьи и здесь может быть только намечена в той мере, в какой сфера государственной идеологии непосредственно связана с эволюцией династического строя.
Действительно, с ростом государственного самосознания власти неизбежно должно было расти и сопротивление идее механического ее, власти, дробления. В странах, где господствовало братское совладение, это естественным образом вело к попыткам создания такого династического порядка (включая способ престолонаследия), который сочетал бы традиционное corpus fratrum с той или иной институционализацией единовластия. Подобного рода усовершенствованной формой братского совладения и у франков, и на Руси, и в ряде других раннесредневековых государств (Чехии, Польше) стал сеньорат.
* * *
В самом общем виде сеньорат можно определить как династический строй, в котором генеалогически старейшему в правящем роде усваиваются те или иные политические прерогативы в рамках всего государства. Очень важно не смешивать сеньорат с генеалогическим старейшинством, равно как и понимать, что сеньорат не создавал понятия генеалогического старейшинства, которое, являясь семейно-родовым по природе, всегда существовало в рамках corpus fratrum. Сеньорат был только попыткой придать старейшинству определенные общегосударственные политические функции.
В самом деле, при первоначальном братском совладении старший из сыновей отнюдь не наследовал общесемейной власти покойного отца, которая обеспечивала политическое единство. Разделы между братьями не сопровождались установлением какой-либо политической зависимости младших от генеалогически старейшего. Политически братья были совершенно независимы друг от друга, и это политическое равенство только подчеркивалось старательно выверенным равенством их уделов. И даже раздел, предусмотренный уже упоминавшимся политическим завещанием Карла Великого, «Размежеванием королевств», имел в виду примерно равное наделение трех имевшихся на тот момент сыновей императора – Карла, Пипина и Людовика, ничего не говоря о каком бы то ни было верховенстве старшего, Карла, над младшими[195].
Поэтому нам кажется неверным представление, отразившееся и в последних монографических исследованиях о социально-политическом строе Древней Руси, будто учет генеалогического старшинства при разделах (выразившийся, например, в том, что в 969/72 г. именно старшему из Святославичей, Ярополку, достался Киев) имплицирует наличие политической власти старейшего; будто уже с середины X в., со времен Игоря и Святослава, столонаследие на Руси велось по прямой восходящей линии, что явилось-де результатом длительного укрепления княжеской власти[196]. Все просто, когда у князя сын – единственный и нет братьев (Святослав Игоревич). Иное дело – Святославичи. Источники не дают ровным счетом никаких оснований представлять себе положение Ярополка Киевского особым сравнительно с братьями – Олегом Древлянским и Владимиром Новгородским, и даже говорить об уделах последних как об «условных держаниях»[197]. А сравнительно-исторический материал прямо говорит об обратном. Полагаем, правы были В. О. Ключевский, А. Е. Пресняков и другие исследователи, которые считали что никакой государственно-политической зависимости от старшего брата здесь не видно[198], хотя никто из этих историков на типологию в данной связи не опирался. Отношения между Святославичами регулировались исключительно родовым обычаем, и привносить в них государственные элементы, с нашей точки зрения, столь же неверно, как усматривать в наделении Владимиром Святославичем сыновей симптом нарождавшейся «феодальной раздробленности» или, наоборот, – некую реформу административного управления Киевского государства на местах, которая имела целью укрепление централизованной государственной власти, поскольку политическая власть князя тем самым якобы помножалась на власть отцовскую[199].
Такие прямо противоположные оценки ранних уделов объясняются одним и тем же методическом просчетом – проекцией (намеренной или бессознательной) государственных понятий на сферу, где господствовали понятия семейно-родовые. Владимир наделял сыновей не потому, что стремился тем укрепить централизованный административный аппарат (говоря так, мы вовсе не хотим отказать ему в таком стремлении), а вынужден был делать это по династическим принципам своего времени, которые давали право каждому из взрослых сыновей требовать себе надела. Не думаем, что статус удельного князя под рукой отца – да, подчиненный – ничем не отличался от статуса посадника[200]. Ведь подчинение князя-сына князю-отцу отнюдь не государственного свойства, как посадника – князю, ибо, согласно восприятию власти человеком того времени, был некий актуальный коррелят заложенной в сыне возможности занять место отца. Немыслимо, чтобы посадник мог возмутиться против киевского князя так, как сделал это в 1014 г. Ярослав против Владимира.
В отличие от братского совладения в его первоначальной форме, которое было институтом обычного родового права, сеньорат таковым не был и, следовательно, должен был так или иначе декретироваться, учреждаться. Иными словами, можно ожидать, что момент установления сеньората будет уловим на материале источников. В самом деле, если говорить о Франкском государстве, то таким моментом, совершенно очевидно, является 817 г., когда был издан капитулярий императора Людовика Благочестивого, содержащий его политическое завещание, – так называемое «Устроение империи» («Ordinatio imperii
118
«Распространенной ошибкой является представление о том, что на Руси существовала определенная политическая “система”, от следования которой беспринципные князья иногда или всегда норовили отклониться. Политической культуры, которая была бы применима к разветвленной, прочно утвердившейся династии, при Ярославе (Мудром. – А. Н.) и его предшественниках не существовало. Поэтому преемникам Ярослава приходилось импровизировать, приспосабливая обычаи, прецеденты и устоявшиеся представления к непредвиденным ситуациям. Так появлялись договоренности, вызванные сиюминутной необходимостью, неудачные начинания, компромиссы и соглашения, хитроумные приемы, при помощи которых новшества выдавались за традиции» (Франклин, Шепард 2000. С. 359).
119
Там же. С. 10–11. Настораживает, что такое умонастроение в зарубежной русистике (обозначая, понятно, позицию по отношению к отечественной, прежде всего советской, историографии) имеет, кажется, шансы стать тенденцией; см., например, куда более радикальное его проявление в другой новой книге о Древней Руси: Schramm 2002; ср. нашу рецензию: Назаренко 2006b. С. 340–370.
120
Сергеевич 1908. С. 150–370. Идея «договорного права» развивается автором преимущественно применительно к взаимоотношениям между князем и вечем, но продлевается и на собственно междукняжеские отношения.
121
См. прежде всего: Соловьев 1847.
122
Так, женитьба Ярослава Святополчича на Мономаховне, равно как его развод и возмущение против Мономаха, последовавшие вскоре, в 1117 г., когда обозначился план Владимира Всеволодовича передать Киев своему сыну Мстиславу, со всей определенностью, на наш взгляд, указывают на существование между Владимиром Мономахом и его племянником Ярославом договора (заключенного, очевидно, еще в конце киевского княжения Святополка Изяславича) о Святополчиче как наследнике своего дяди на киевском столе (Назаренко 2006а. С. 284–285; см. также статью IV). Между тем, такое наследование, если бы оно состоялось, было бы именно тем, какое предполагалось законами родового старейшинства, ибо после смерти Мономаха Ярослав оставался бы генеалогически старейшим среди своих двоюродных братьев.
123
Ярким примером может служить Любечский договор 1097 г., который отнюдь не учреждал отчины на Руси, а напротив – опирался на родовое понятие отчины (подробнее об этом скажем ниже).
124
См. прежде всего: Ewig 1953а; idem 1953b. S. 85-144; idem 1981. P. 225–253.
125
Wood 1977. P. 6–29.
126
Пашуто 1965. С. 59–68.
127
Назаренко 1987b. С. 149–157; он же 2000а. С. 500–508 (включает названную статью 1987 г. с некоторыми, прежде всего библиографическими, дополнениями).
128
Dhondt 1948.
129
См. об этом подробнее ниже, а также в статье II.
130
Менее удачным представляется термин «родовой сюзеренитет», которым мы пользовались в работе 1987 г. (см. примеч. 10) – именно потому, что он привносит «феодальную» терминологию (сюзеренитет) в область династически-родовых отношений.
131
Из многочисленной литературы укажем: von Pflugk-Harttung 1890; Doize 1898. Р. 253–285; Schulze 1926; Faulhaber 1931; Zatschek 1935; Schneider 1964; idem 1972; Classen 1972. S. 109–134; Mitteis 1974; Penndorf 1974; Königswahl; Anton 1979. S. 55-132; Tellenbach 1979. S. 184–302; Schieffer 1990. S. 57–66; Boshof 1990. S. 161–189; Laudage 1992. S. 23–71; см. также работы Э. Эвига, указанные в примеч. 7, и литературу о капитуляриях 806 и 817 гг., приведенную в примеч. 18, 84.
132
См., например: Каштанов 1976. С. 80–81.
133
Poppe 1986b. Р. 272–274.
134
Theoph. Р. 472.30-473.3.
135
Термины «империя» и «император» упоминаются во вводной и заключительной частях документа, но в составе характерных оборотов, выдающих неумение или нежелание его составителей различать между «империей» и привычным «королевством»: «империя, то есть королевство наше» («Imperium vel regnum nostrum»), «королевство и империя сия» («regnum atque Imperium istud») или – особенно замечательная формула – «император, он же король» («imperator ас rex») (Div. regn., prooem., 20. Р. 127, 130); о характерном непонимании Каролингами сингулярного в принципе характера христианской империи см.: Назаренко 200lb. С. 11–24. Противоречие между новоприобретенным статусом империи и традиционным родовым разделом столь очевидно, что даже побуждало историков искать в документе интерполяции (Mohr 1954. S. 121–157; idem 1959. S. 91-109); это предположение столкнулось с обоснованной критикой (Schlesinger 1958. S. 9-52; Sprigade 1964. S. 305–317) и не удержалось в науке.
136
Vodoff 1983. Р. 139–150; Poppe 1984. S. 423–439; idem 1989. Р. 159–184; и др. См. историографический обзор: Свердлов 2003. С. 148–152 (сам М. Б. Свердлов придерживается иного мнения: именно в договорах с греками титул «великий князь» имел «реальное содержание высших юридических прав», что нам представляется в принципе неверным).
137
См., например: Schlesinger 1948. S. 168 (здесь, в Ашп. 125, указания на прочую литературу); Mitteis 1974. S. 39–41, 89; Сидоров 2003. С. 328.
138
Отрывочными сведениями о разделах королевской власти между братьями мы располагаем уже для начала IX в., как только ситуация в Дании начинает отражаться на страницах франкской анналистики. Так, в 812 г., после смерти конунга Хемминга и краткого междоусобия, конунгами данов (по всей вероятности, в Хедебю) становятся одновременно два брата Хериольд и Регинфрид; затем их изгоняют и делят власть между собой четверо сыновей покойного конунга Годофрида, двое из которых затем правят вместе с вернувшимся в 819 г. Хериольдом: Ann. г. Fr. Р. 136, 152.
139
Согласно саге, письменно зафиксированной Снорри Стурлусоном в первой половине XIII в., подросшие сыновья Харальда Прекрасноволосого (умер около 930 г.), первого конунга объединенной Норвегии, стали требовать себе уделов и получили их (Сн. Стурл. С. 5, 60–61).
140
Если верить сведениям Константина Багрянородного о разделе Моравии князем Святополком I (870–894) между тремя своими сыновьями (по другим источникам их известно только двое), причем уже при наличии сеньората: каждый получал по уделу, но старший провозглашался «великим князем» («αρχών μέγας»), а оба младших пребывали у него под рукой («υπό τον λόγον»): Const. De adm. 41.3–7. P. 168–169. Да и сам Святополк в пору княжения своего дяди Ростислава владел уделом с центром в Нитре.
141
О том, что Болеслав (будущий Болеслав I), младший брат князя Вячеслава-Вацлава (убит в 929/35 г.), имел в правление последнего удел («град Болеславль»), сообщают как латинские, так и славянские памятники свято-вацлавского цикла, причем формулировки в последних таковы, как будто уже в то время существовал сеньорат пражского князя. В Востоковском списке (Рогов 1970. С. 37) читаем, что с вокняжением Вячеслава «Болеслав нача под ним ходити»; в глаголической версии застаем, вероятно, первоначальное чтение: «Болеслав же, братр его, растеаше под ним» (Weingart 1935. S. 975, 986), – с тем же смыслом. В древнейшем латинском «Житии ев. Вячеслава», так называемой «Легенде Христиана», никаких данных о положении Болеслава по отношению к старшему брату не обнаруживается, хотя упоминание об отдельном городе Болеслава также есть (Leg. Chr. Р. 64). Эти данные можно рассматривать в одном ряду с известием о сеньорате в Великой Моравии (см. предыдущее примеч.), но не исключено, что они явились проекцией взаимоотношений между Пржемысловичами в эпоху появления первых сочинений свято-вацлавского агиографического круга (вероятнее всего, в 970-х гг.) на время святого Вячеслава. Наиболее раннее сообщение о династическом разделе между братьями в Польше содержится в хронике Титмара Мерзебургского и относится к сыновьям польского князя Мешка I (умер в 992 г.): старший из них, Болеслав I, узурпировал власть, которая – надо полагать, по завещанию отца – «должна была быть разделена между многими» («plurimis dividendum»: имеются в виду еще трое сыновей Мешка от второго брака): Thietm. IV, 58. S. 198; Назаренко 1993b. С. 134, 138–139. На то, что право наследования у ранних Пястов принадлежало совокупности братьев, указывал еще создатель «родовой теории» в Польше О. Бальцер (Balzer 1897. S. 301). Подробнее о династических разделах в раннесредневековых Чехии и Польше см. в статье I.
142
Эта мысль довольно активно обсуждалась еще в историографии XIX в.; см., например, краткий обзор: Пресняков 1993. С. 8–22.
143
По завещанию Гейзериха в 477 г. (Claude 1974. S. 329–355).
144
Claude 1971.
145
Schneider 1972; Fröhlich 1980.
146
Greg. Tut II, 40–42; Григ. Тур. С. 57–59.
147
Согласно Григорию Турскому (умер в 593/4 г.), труд которого является главным источником по истории франков VI в., каждый из четырех сыновей Хлодвига был наделен по завещанию последнего в 511 г. «равной долей» («aequa lance») отцовских владений (Greg. Tur. Ill, 1; Григ. Тур. С. 62).
148
ПСРЛ 1. Стб. 46–47; 2. Стб. 35–36.
149
Назаренко 1996а. С. 58–63; он же 2007b. С. 169–174; он же 2009 (в печати).
150
Назаренко 2007b. С. 169–174.
151
«Suein et Harold а concubina geniti erant; qui, ut mos est barbaris, aequam tunc inter liberos Chnud sortiti sunt partem hereditatis» (Adam II, 74. S. 134).
152
Sickel 1903. S. 110–147.
153
Cosm. I, 36. S. 65.
154
Gall. II, 4. P. 68.
155
См., например: Trawkowski 1983. Sp. 366.
156
ПСРЛ 1. Стб. 270; 2. Стб. 245. В свое время мы предположили, что Мстислав был старшим сыном Святополка (Назаренко 2001а. С. 571), но сейчас вынуждены признать проблематичность этого мнения. Похоже, что «Киево-Печерский патерик» в своих ранних редакциях содержит в слове о преподобных отцах Феодоре и Василии указание на возраст Мстислава Святополчича. В 1096 г., сразу после сожжения монастыря половцами, Василий говорит княжичу: «<…> мене бо не видел еси от рождения своего исходяща от печеры своея лет 15» (КПП 1999. С. 66); смысл этой грамматически некорректной фразы, очевидно, в том, что Василий не выходил из своей пещеры 15 лет и потому Мстислав не мог его видеть, так как родился позже. Следовательно, Мстислав появился на свет не ранее 1082 г. и был наверняка младше брата Ярослава. Перевод Л. А. Ольшевской, по непонятной причине, не только смазывает этот датирующий нюанс, но и вообще лишен смысла: «<…> ведь не видел меня никто от рождения своего (!? – А. Н.) выходящим из пещеры своей 15 лет» (там же. С. 170–171). Видно, что фраза доставила переводчице затруднения, как, впрочем, и позднейшим редакторам «Патерика». Так, во 2-й Кассиановской редакции находим «исправленное» чтение: «мене бо не виде никогдаже (кто? – А. Н.) исходяща из печеры своея 15 лет» (КПП. 1997. С. 454).
157
Назаренко 2001а. С. 560–570. Совсем недавно А. Поппэ, не соглашаясь с нашей гипотезой, пересмотрел заново биографические данные о Гертруде, жене Изяслава Ярославича, в рамках традиционной генеалогии: Гертруда – мать Святополка (Поппэ 2007. С. 205–229). Однако сути наших аргументов польский историк не рассматривал, ограничившись указанием, что характеристика матери Святополка как «княгини» (ПСРЛ 1. Стб. 282; 2. Стб. 259; Высоцкий 1966. № 27) ни в коем случае не позволяет, по его мнению, видеть в ней наложницу Изяслава. Отнюдь не считаем такое простое соображение достаточным, но полемику, требующую вникать в многочисленные детали, вынуждены отложить до особого случая.
158
ПСРЛ 1. Стб. 69; 2. Стб. 57.
159
«Porro de ео, quod dicis non in tota nos Francia imperare, accipe frater, breve responsum. In tota nempe imperamus Francia, quia nos procul dubio retinemus, quod illi retinent, cum quibus una et earn et sanguis sumus hac [ac. – A. H.] unus per Dominum Spiritus» (Chr. Salem. P. 122).
160
Отсутствие сколько-нибудь заметного династического элемента в византийской политической идеологии до ее определенной «аристократизации» в течение XI–XII вв. замечено историками; см., например: Чичуров 1990а. С. 19–126.
161
Greg. Tut. IV, 45; IX, 20.
162
Как иногда полагают (Ewig 1988. S. 35) и как мы сами склонны были думать прежде (Назаренко 1987b. С. 157. Примеч. 28; он же 2000а. С. 508. Примеч. 27).
163
Это видно, в частности, из распоряжений Хродехильды относительно судьбы епископской кафедры в Туре, который входил в удел Хлодомера (Greg. Tur III, 17).
164
Ibid., Ill, 23.
165
Ibid., Ill, 18.
166
ПСРЛ 1. Стб. 162–163; 2. Стб. 151.
167
ПСРЛ 15. Стб. 153.
168
Сначала Давыд получил Дорогобуж, но после гибели в 1086/7 г. волынского князя Ярополка Изяславича занял волынский стол (ПСРЛ 1. Стб. 204, 205; 2. Стб. 196), как то видно по ретроспективному сообщению 1097 г., что Давыд получил Волынь еще от Всеволода (ПСРЛ 1. Стб. 257; 2. Стб. 231). Это случилось, вероятно, сразу же по смерти Ярополка, на что указывает прецедент: во время ссоры Ярополка со Всеволодом и бегства волынского князя в Польшу в 1085 г. Владимир немедленно был передан Давыду. Именно для урегулирования отношений Давыда с Ростиславичами, надо думать, Всеволод и посылал к Перемышлю сына Владимира в 1086 г. (ПСРЛ 2. Стб. 199).
169
На Пасху 1078 г., как то видно из «Поучения» Владимира Мономаха (ПСРЛ 1. Стб. 247). Это свидетельство предпочтительнее, чем известие «Повести временных лет» в конце статьи 1077 г., что Олег «бе у Всеволода Чернигове» (ПСРЛ 1. Стб. 199; 2. Стб. 190), которое служит всего лишь логическим переходом к сообщению, которым открывается следующая годовая статья: «Бежа Олег, сын Святославль, Тмутороканю от Всеволода».
170
Датировка гибели в Заволочье его старшего брата Глеба двоится: в «Новгородской I летописи» значится 30 мая 1079 (6587) г. (НПЛ. С. 18, 201), тогда как в «Повести временных лет» о погребении князя в Чернигове 23 июля говорится под 1078 (6586) г. (ПСРЛ 1. Стб. 199–200; 2. Стб. 190–191). Так или иначе, смещение Глеба с новгородского стола должно было состояться одновременно с выведением из Волыни Олега, то есть уже до Пасхи (8 апреля) 1078 г. (см. предыдущее примеч.).
171
ПСРЛ 1. Стб. 200–201; 2. Стб. 191–192.
172
См. примеч. 122.
173
Брак Изяслава с полькой Гертрудой (ПСРЛ 4/1. С. 116; 6/1. Стб. 179) предполагает, что до своего перехода в Новгород в 1052 г. (после смерти там старшего из Ярославичей – Владимира) он наместничал где-то на западе Руси, то есть либо в Турове, к которому относилась тогда Берестейская волость, либо на Волыни. В науке нередко говорилось именно о Турове (см., например: Грушевсъкий 2. С. 28; Пресняков 1993. С. 41), но на чем основано такое мнение? Свидетельство «Ипатьевской летописи» на этот счет источниковедчески неудовлетворительно (см. примеч. 122), а представляющаяся традиционной связь потомства Изяслава с Туровом могла, конечно же, сложиться и позже, в пору княжения здесь Ярополка Изяславича в 1078–1086/7 и его брата Святополка в 1088–1093 гг. Поэтому весомее, на наш взгляд, оказывается свидетельство константинопольского перечня русских епархий 1170-х гг., в котором на местах с пятого по восьмое поименованы епархии Владимиро-Волынская, Переяславская, Ростово-Суздальская и Туровская (Not. ер. Р. 367). При одновременности учреждения этих кафедр, которое мы относим ко второй половине 1040-х гг. (см. статью IX), следовало бы ожидать, что порядок их перечисления будет ориентироваться на относительное старшинство Ярославичей, посаженных отцом на соответствующих столах. Это наводит на мысль, что уделом Изяслава при жизни отца до Новгорода была Волынь, а не Туров.
174
ПСРЛ 1. Стб. 256–257; 2. Стб. 230–231.
175
См. ниже примеч. 72.
176
«Quod si talis filius cuilibet istorum trium fratrum natus fuerit, quem populus eligere velit ut patri suo in regni hereditate succedat, volumus ut hoc consentiant patrui ipsius pueri et regnare permittant filium fratris sui in portione regni quam pater eius, frater eorum, habuit» (Div. regn. 5. P. 128).
177
Похожую мысль применительно к древнерусским князьям высказывал В. О. Ключевский, но неудачно пытался подтвердить ее порядками позднейшего местничества (.Ключевский 1. С. 182–183).
178
Этот казус фиксируется и в обычном наследственном праве. Так, Видукинд (70-е гг. X в.) сохранил свидетельство о спорах среди саксов, следовало ли признавать наследниками, наряду с дядьями, тех племянников, «отцы которых умерли при жизни дедов» («<…> si forte patres eorum obissent avis superstitibus»); сторонники древних обычаев противились такому нововведению, которое все же состоялось в правление Оттона I (936–973): Wid. II, 10. S. 73–74.
179
См., например: Ann. г. Fr., а. 813–814. Р. 138, 140.
180
Nelson 1992. Р. 139–144.
181
Eiten 1907.
182
Пруденций, автор «Бертинских анналов» в их центральной части (с 835 по 861 г.), был назначен епископом Труа в 845 г., то есть являлся в этом смысле креатурой Карла Лысого.
183
Ann. Bert., а. 845. Р. 32.
184
Dipl. Pipp. II. Р. 51.
185
ПСРЛ 1. Стб. 299–301.
186
ПСРЛ 1. Стб. 129; 2. Стб. 114.
187
ПСРЛ 4/1. С. 111; 6/1. Стб. 173.
188
ПСРЛ 1. Стб. 160; 2. Стб. 149.
189
Думать так позволяют данные (правда, довольно неопределенные) о том, что женой Ростислава Владимировича была венгерка. В той форме, в какой эта гипотеза высказывалась в литературе со ссылкой на В. Н. Татищева (Баумгартен 1908а. С. 4–5), она не выглядит удовлетворительно обоснованной. И все же венгерские источники не оставляют сомнений, что речь шла о родственнице короля Кальмана (1095–1114), хотя относительно степени родства составители венгерского хроникального свода XIV в. испытывали затруднения, оставив в соответствующем месте текста пропуск:
190
когда король Кальман в 1099 г. пришел на помощь Святополку против Ростиславичей, «русская княгиня по имени Ланка, <…> (в существующих списках пропуск никак не обозначен. – А. Н.) этого короля, вышла навстречу королю, пала к ногам, со слезами умоляя короля не губить того народа» («ducissa Rutenorum nomine Lanca eiusdem regis, venit obviam regi, pedibus provoluta obsecrabat regem cum lacrimis, ne disperderet gentem illam»: Chr. Hung. 145. P. 423–424). Дело происходило под стенами Перемышля, в котором, помимо Володаря Ростиславича с семейством, тогда находилась и жена Давыда Игоревича (ПСРЛ 1. Стб. 270; 2. Стб. 245). Поэтому, вообще говоря, допустимо было бы отождествить Ланку также и с этой последней. Однако настойчивость, с какой Давыд дважды искал помощи именно в Польше Владислава I (1079–1102), заставляет предполагать в супруге Игоревича скорее польку. Если Ланка была действительно женой Ростислава, то в ней естественно было бы видеть дочь короля Белы I (1060–1063), так что Кальману она приходилась бы родной теткой; в таком случае испорченный латинский текст следовало бы читать: «Lanca, amita (или a gnat a) eiusdem regis». Вопрос нуждается в дополнительном исследовании.
191
73 ПСРЛ 1. Стб. 290–291, 298–299; 2. Стб. 282–283, 292–293.
74 ДКУ. С. 156. Источниковедческие контроверзы относительно времени сложения «Устава» в его нынешней форме в целом и отдельных его установлений не могут повлиять на трактовку статьи об изгойстве.
192
ПСРЛ 2. Стб. 574 (в ультрамартовской статье 1174 г.).
193
ПСРЛ 1. Стб. 80, 121; 2. Стб. 67, 105.
194
«<…> receptis ab ео sacramentis fidelitatis, quatenus ita deinceps ei fidelis sicut nepos patruo existeret et in quibusdam necessitatibus ipsi pro viribus auxilium ferret» (Ann. Bert., a. 845. P. 32).
195
Div. regn. Р. 126–130; см. также статью II (карта на рис. 6).
196
Свердлов 1983. С. 33; он же 2003. С. 163; Толочко 1992. С. 22–35 (ср.: Назаренко 1999b. С. 164–193).
197
Рапов 1977. С. 32–34; автор не отрицает самостоятельности Олега и Владимира по отношению к князю киевскому, но почему-то характеризует ее как узурпацию: свои уделы младшие Святославичи будто бы «сумели превратить (когда и каким образом? – А. Н.) по существу в самостоятельные в политическом отношении государства». Модернизирующий термин «узурпация» прямо употребляет М. Б. Свердлов, говоря о киевском княжении Олега (Свердлов 2003. С. 163).
198
Пресняков 1993. С. 28 (со ссылкой на соответствующее место «Курса» В. О. Ключевского).
199
Юшков 1939. С. 175; Котляр 1998. С. 84–89; и др.
200
Юшков 1939. С. 175.