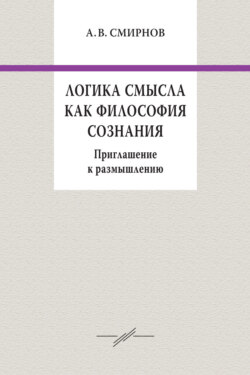Читать книгу Логика смысла как философия сознания. Приглашение к размышлению - А. В. Смирнов - Страница 3
Раздел I
Логика смысла: теория
Размышление I.1
Простецкое рассуждение о свёрнутости и развёрнутости[1]
ОглавлениеКак свёрнутое становится развёрнутым и как развёрнутое сворачивается?
Разворачиваясь, свёрнутое ничего не добавляет к себе, ничего не черпает «извне». Сворачиваясь, развёрнутое ничего не теряет, ничего не оставляет «вне» себя. Сворачивание и разворачивание ничего не умаляет и ничего не добавляет. «Извне» и «вне» приходится брать в кавычки, поскольку никакого «вне» для свёрнутости не может быть. «К себе» и «себя», напротив, оставлены без кавычек, поскольку речь именно о самой свёрнутости.
Этой формулировке Философской Задачи, как она дана Николаем Кузанским, уже несколько сот лет. Континентальная философия, бывает, ссылается на «вечные» философские проблемы. Аналитическая традиция гордится тем, что умеет ставить задачи и решать их, достигая прогресса в философии. Но и та, и другая идут мимо задачи свёрнутости-развёрнутости, как будто не замечая её. Не замечая того, насколько давно она поставлена, насколько точна и плодотворна её формулировка. Подлинное самосознание философии, т. е. осознание себя как парадигмально-заданной области, достигнуто в формулировке этой задачи.
Достигнуто – но не развёрнуто. Философия могла бы стать разворачиванием этой задачи. В этом смысле свёрнутость-развёрнутость намекает на рефлективность, обращённость на себя: разворачивание не есть что-то внешнее по отношению к свёрнутости, это не метод, не открывалка для бутылки и даже не кольцо на алюминиевой банке: кольцо должна потянуть рука, да и содержимое банки выливается вовне. Свёрнутость разворачивается сама, в этом-то всё и дело. Свёрнутости нельзя задать закон или шаблон, которому она бы следовала: нет ничего внешнего по отношению к ней, и всё, что развёрнуто – неиное по отношению к свёрнутости. Даже как загадочную эманацию нельзя понять разворачивание свёрнутости: разворачивание – не деградация. В эманационной теории, как и в диалектике Гегеля или Фихте, схвачены отблески сворачивания-разворачивания – но не более того. Отдельные блёстки, не блистание.
Философия всегда искала абсолютное обоснование – такое, которое не требовало бы ничего внешнего себе и в то же время само обосновывало бы всё. Верно, что такое представление парадоксально – но только если мыслить обоснование (сам процесс обосновывания, а не обосновывающее положение) линейно, как некую цепочку наподобие формулировки аксиом, из которых обоснованно вытекали бы следствия. Понятно, что линейная парадигма обосновывания требует, чтобы первое звено в этом процессе было задано, положено независимо от рационального обоснования. Требование рациональной обоснованности, при линейном понимании последней, в принципе нерефлективно и рефлективным быть не может. Инобытие этой невозможности – и античный «Лжец», и средневековые парадоксы (может ли всемогущий Бог сотворить камень, который не сможет поднять?), и парадокс Рассела (множество всех множеств), и неразрешимость Гёделя (вопрос о доказуемости утверждения, говорящего, что оно недоказуемо).
Этот парадокс иррациональности конечного обоснования, неизбежно возникающий при линейном понимании обосновывания, всегда был искусом. Поддаваясь ему, философия не могла не впадать то в теологический соблазн, то в соблазн очевидности – то ли идеального, данного уму, то ли материального, эмпирически-постигаемого и проходящего через чувства. Ничего другого, кроме соблазна теологии и соблазна очевидности, которая дана уму или чувствам, и не остаётся, если не считать ссылки на мистическую интуицию, которую трудно рассматривать всерьёз в рамках нашего вопроса и которая к тому же бывает порой недалека от теологического соблазна. Никак иначе не получить то первое, то начало, за которым охотятся философы и которое позволило бы обосновать всеобщность философского взгляда. Ведь всеобщность, равно как обоснованность и рациональность, остаются неотменяемыми регулятивными идеями для философа, и в этой отвлечённой, неконкретизированной форме они как нельзя лучше схватывают дух философии независимо от школ, направлений, внутренних делений и даже культурно-цивилизационной принадлежности.
Интересно, что линейное понимание обосновывания, после досократиков не преодолённое никогда и никем, кроме Николая Кузанского, обессмысливает обе эти идеи. Иррациональность первого ставит под вопрос рациональность всего остального; отсюда и хорошо всем видимый сегодня искус говорить о вере и разуме как не исключающих друг друга, искушение окончательно размыть независимость разума и открыть некое «новое средневековье» – сменить соблазн очевидности, давший Европе эпоху Возрождения и Просвещения, на соблазн теологии. (Получится ли это, при обессиленном, лишённом пассионарности западном христианстве? Не отсюда ли анекдотически-апокалиптические страхи перед грядущей исламизацией Европы?) Иррациональность первого ставит под вопрос и вторую регулятивную идею философии – всеобщность. Ведь эти две идеи, всеобщность и разумность, неразрывны, они – одно в двух ликах, и всеобщее может быть только разумным. Иррациональность начала означает внеположность всеобщему – оксюморон, невозможное по определению.
Таким образом, линейное понимание обосновывания вскрывает важнейший симптом – симптом принципиальной недостаточности того понимания разума и разумности, из которого исходит европейская философия. Но этому линейному пониманию не было противопоставлено ничто, кроме холизма или мистицизма, каждый из которых, пусть и по-своему, но отрицал рациональность. Это объясняет, почему не могли увидеть, как можно следовать за Николаем Кузанским: не могли предложить не-линейное понимание разума и обосновывания.
Отсюда ещё один, небольшой и внутренний, соблазн философии: заняться мелкими делами, дисциплинарно раздробиться. Этого, вероятно, не было у досократиков, но это уже намечено в текстах Платона и Аристотеля и совершенно очевидно у стоиков в их трёхчастном делении философии. Такие разрывы пытались преодолеть, каждый по-своему, неоплатоники. Ведь всеобщее не делится, во всяком случае, не делится окончательно, и это – одно из наиболее ясных объяснений различия между философией и наукой. Науки выстраивают перегородки и работают каждая исключительно в своём отсеке, задраив все люки и переборки; философия, даже намечая дисциплинарное деление и окунаясь то в политику, то в социальность, то в этику или эстетику, проводит эти дисциплинарные деления не линией, а пунктиром, всегда возвращаясь ко всеобщему даже в своих частных исследованиях. Эта внутренняя пунктирная дисциплинарность философии – также следствие иррациональности первого обоснования: если оно как линейное возможно для Всего в целом, то возможно и для отдельных линий рассуждения внутри этого Всего. История европейской философии – это история колебания между стремлением ко всеобщности, которое принимает обычно форму системостроительства, и стремлением к частно-философским изысканиям, которое принимает форму критики систем. Если первое выражает собственное, неотъемлемое от философии, то второе – следствие разочарования в возможности не просто решить, но и поставить Философскую Задачу. Такое качание между двумя пределами объясняет разброс подхода философов к системостроительству, от восхищения до огульного отрицания. Но сами эти пределы заданы именно двуединым императивом философии, императивом рациональной всеобщности, или всеобщей рациональности: системосозидание как уверенность в осуществимости этого императива (и, далее, его осуществлённости в каждой данной системе), отрицание систем как сомнение в такой осуществимости. Но философ остаётся философом, только если это сомнение, дающее основание для пунктирного внутреннего дисциплинарного деления философии, не перерастает в отрицание: лишь тоска по, как часто думают, навсегда утерянному философскому идеалу заставляет всё же держать его в поле зрения и сохранять его регулятивную роль, пусть и на минимальных оборотах. Как часто приходится сегодня слышать, вслед за Хайдеггером, сетования на «нас, нынешних», утративших животворную связь с философией: не осталось-де философов, одни профессора философии, не способные, как сам Хайдеггер, даже внятно объяснить, что же именно они ищут и ищут ли что-то вообще. Всё это – признак того, что мы у края второго предела, предела внутренней пунктиризации, внутренней раздробленности философии и крайнего обострения её кризиса, за которым должно последовать новое собирание и движение к первому полюсу.
Если это новое движение будет лишь повторением старых качаний, оно не принесёт никакого обновления по существу. Качание европейской философии между двумя полюсами – системостроительства и системоразрушительства, конструкции и деконструкции – составляет порочный круг. Чтобы разорвать его, надо попрощаться с линейностью конечного обоснования. А сделать это можно, только обратившись к идее свёрнутости-развёрнутости.
Соответствует ли чему-то вне философии идея свёрнутости-развёрнутости? Будет ли выход из порочного круга линейного обоснования в философии выходом к какому-то решению, плодотворному для объяснения того, что называют внешним миром?
Линейность конечного обоснования хорошо соответствует атомизму как стратегии научного познания. Она предполагает выделение исходного, далее неделимого элемента и выстраивание всего, что подлежит объяснению, на основе этого элемента. Такое выстраивание требует принятия идеи связи между элементами. Элементы и их связи – такова в самом общем виде схема объяснения и в науках, и в философии, когда на вооружение принимается линейная атомистическая стратегия объяснения.
Встретим ли мы что-то другое в науках? Вряд ли. В геометрии мы имеем элементы: точка, линия, плоскость – и отношения между ними: совпадать, не совпадать, пересекаться, образовывать угол, быть параллельным и т. д. В арифметике мы имеем числа и отношения между ними – операции сложения, вычитания и т. д. В алгебре – переменные и действия над ними. В логике, от Аристотеля вплоть до современной математической: переменные и отношения между ними. В физике – от элементов Аристотеля с их естественным и принудительным движением до материальной точки и сил нововременной науки, вплоть до атома; квантовая механика открывает совершенно новую область, хотя и здесь не отказываются от понятия элементарной частицы, пусть и коренным образом переосмысливая её. Химия: всё те же атомы, молекулы и их соединения, валентности и химические силы. Биология изучает организмы, разлагая их на органы, ткани, клетки и связывая их химико-физическими процессами. В социологии первичной реальностью выступает социальная группа (страта, прослойка, класс), связанная социальными отношениями с другими такими же элементами; социальная группа, в свою очередь, складывается из единичных носителей социальности – индивидов, рассматриваемых как элементарные носители тех общественных отношений (установок, наклонностей, т. д.), которые имеют значение для складывания социальных групп. Психология имеет дело с индивидом, рассматриваемым как элементарный носитель неких свойств, качеств, которые влияют на его поведение. И социология, и психология могут изучать индивидов и группы, и в современном своём состоянии способны замерять отношения и качества, которыми характеризуются элементарные объекты этих наук. Так измеримость осуществилась практически полностью в поле современных наук: идеал нововременной физики, можно сказать, осуществлён, и любые объекты, сколь угодно сложные, оказались измеримы с точки зрения их свойств.
Наука достигла не просто впечатляющих, но ошеломляющих успехов не потому, что объяснила мир – этого она сделать не только не могла, но и не собиралась, – а потому, что изменила его, дав в руки человеку всесильные технологии. Формула Ф. Бэкона полностью осуществилась: знание стало силой. Правда, оно, это знание, взамен утеряло всякий объяснительный потенциал: современный мир не просто потерял свой смысл, он потерял его в нынешней науке навсегда. И дело не в том, чтобы сделать мир комфортным для человека, убаюкать его надеждой на будущий рай или рай в этой жизни. Смысл не в этом. Сегодня даже сильный человек, не нуждающийся в сказках для взрослых, не может остаться ни наедине с миром, ни наедине с собой: мы не знаем, что мы такое, и мы не знаем, что такое мир и каждая вещь в нём. Мы знаем, как это работает, мы можем это использовать и поставить себе на службу, – но мы не знаем, что работает и почему. И ведь это касается прежде всего нас самих: мы знаем, как устроено наше тело и наш мозг, мы знаем, как они действуют, мы знаем, как будем реагировать на внешние раздражители и каким будет наше поведение при таких-то и таких-то условиях, – но именно потому, что мы знаем всё это, мы перестали знать и узнавать самих себя. В этой почти исчерпывающей картине есть место для всего, кроме нас. Мы – лишние в совершенном мире квантовых полей, электронов и электроники, химии и физики. Новое время начиналось с гуманизма – с того, что человек занял центральное место в картине мире. А заканчивается оно тем, что это место не просто потеряно человеком. Будь так, ещё полбеды: кто-то другой, пусть и робот или будущий сверхчеловек, занял бы место человека. Нет, гораздо хуже: нет самого места. Это место не пустует – оно отсутствует, и гуманистическая картина мира, обеспечившая процветание нововременных наук, пришла к собственному полному отрицанию.
Когда один известный мыслитель, наделавший столько переполоху в нашем отечестве, без малого две сотни лет назад предлагал философам перестать объяснять мир, а вместо этого заняться его переделкой, он считал, что провозглашает конец философии. Всё объяснено; настало время действовать. Но это не так; скорее наоборот. Пришло время объяснять, а не просто узнавать, как это работает.
Это время пришло потому, что стратегия линейного атомарного познания исчерпала себя, обнаружив свою парадоксальность. Физика так и не смогла найти подлинное исходное начало, которое было бы элементарным и из которого можно было бы выстроить всю реальность. Вместо этого мир рассыпался на несколько типов взаимодействий, и ещё большой вопрос, удастся ли свести их воедино, и даже если Большое Объединение уже почти за углом, даст ли оно конечное объяснение? Ведь интересно, что в квантовой теории поля речь именно о взаимодействиях: это они становятся первичным «атомом» объяснения, тогда как прежние субстанциально понятые элементы – материальные точки, атомы нововременной физики, а затем элементарные частицы квантовой механики – оказываются от них производны. Такой поворот хорошо описывается как поворот от субстанциальной к процессуальной картине мира: субстанциальный элемент, который должен был выстраивать нечто сложное в сочетаниях с другими такими же элементами за счёт отношений и связей, уступил своё царское место этим связям, которые, превратившись во взаимодействия, сами взяли на себя первичную функцию порождения элементарных частиц и конечного объяснения мира. Это показывает исчерпанность атомистической стратегии объяснения при субстанциальном, традиционном для европейской мысли понимании элемента и необходимость перехода к другой, процессуальной картине, где первичным атомом выступает взаимодействие-процесс. А может быть, необходима не одна, а обе (по крайней мере) картины мира для того, чтобы объяснить поведение тех физических «объектов», с которыми мы научились иметь дело? Как бы то ни было, физика, похоже, подсказывает нам, что необходима принципиально другая стратегия объяснения, поскольку линейная, атомарная (построенная на принятии элемента и его «склеек» с другими элементами) исчерпала себя и не может обеспечить дальнейшее движение вперёд. Прежняя европейская философия принимала как данность субстанциализм и атомарную стратегию объяснения, а попытки уйти и от того, и от другого были спорадическими и не стали «основным руслом» этой мысли. Но эта «данность» – не более чем догматическое принятие на веру. Пришло время осознать это и найти выход; а найти его можно, только сменив полностью линию рассуждения, а точнее, построив рассуждение не как линию. (А как сворачивание-разворачивание. – Но об этом ниже.)
Математика рассыпалась на целый ряд областей, которые никак не свести воедино, и даже великолепные, блестящие по своему размаху и замыслу усилия Бурбаки не дали искомого результата. Знаменитая теорема Гёделя ставит под вопрос аксиоматизм как исчерпывающий метод, а значит, и атомистическую стратегию объяснения. Ничуть не лучше то, что и в математике, и в физике мы имеем дело с разнокалиберными объектами, которые совсем не составляют иерархии, более того, вовсе не понятно, как они друг с другом соотносятся. Здесь мы прикасаемся к другому фундаментальному парадоксу, сопровождающему линейную атомистическую стратегию объяснения. Выделение первичного элемента как будто устраняет всякую содержательность из поля зрения, как будто лишает этот элемент смысловой наполненности и позволяет применить к нему сугубо формальные операции, в пределе – математическое исчисление (победившее сегодня в науках и даже в логике). Ведь и у Аристотеля, хотя его физику называют качественной, огонь, вода и другие элементы и их качества – сугубо формальные принципы, и оперировать ими можно именно формально, достигая сцепленности с реальными одноимёнными огнём, водой и так далее через смешение и, следовательно, всегда огрубление и усреднение исходных формальных начал. Материальная точка нововременной физики ещё отвлечённее, ещё формальнее, и математизация здесь правит бал. Но конечная формализация, формализация, так сказать, абсолютная, исчерпывающая, невозможна: любая форма как таковая, в самой себе, остаётся неким содержанием. Если разные исходные элементы внутри одной науки имеют, таким образом, разное содержание, то остаётся непонятным, как эти содержания соотносятся друг с другом. Формализм придуман для того, чтобы устранить влияние трепещущей, колышущейся, нечёткой содержательности и обрести твёрдую почву рассуждения. Но формализм не рефлективен: сама форма – не формальна, а содержательна. Выходит, окончательно распрощаться с содержательностью невозможно: устранив её, мы напрочь устраним возможность мыслить, ибо больше не будем с-мыслить. Но ведь мы не умеем работать с содержательностью! Напротив, всё развитие европейской науки связано с отстранением от содержательности и уходом в формализм, который якобы берёт содержательность в скобки. Поэтому мы и не знаем, как соотносятся между собой разные элементы даже внутри одной науки. Как число связано с множеством, например, или с матрицей: можно ли получить одно из другого, и если да, то почему каждый из них может быть началом выстраивания математической области, а если нет, то по какому праву мы считаем математику единой областью?
Разрушенная связность не восстанавливается. До этого, конечно, нет дела никакому учёному и никакой науке: напротив, они счастливы заполучить собственную область и отграничить её от других областей, чтобы свободно работать в ней. Но философу до этого должно быть дело, причём такое дело, которое отодвигает все прочие философские занятия на второй план, на потом: если не решено главное, как можно заниматься второстепенным? Однако не видно, чтобы философы забросили свои занятия и обратились бы к этому, главному вопросу; напротив, они изобретают всё новые теории, объясняющие, почему вместо главного надо заниматься второстепенным. Европейские философы настолько преуспели в этом за последний век с лишком, что убедили в этом не только себя, но и широкую публику, едва ли не всех, и мода на никчёмность станет для будущих историков главной приметой нашего времени. А ведь связность, и не просто связность, но всеобщая связность, должна в первую голову заботить философа, быть той самой Заботой, о которой так заботился Хайдеггер и которую разъяснял нам Рикёр. В самом деле, если всеобщая разумность и разумная всеобщность – отличительная черта и регулятивная идея любой философии, независимо от времени и пространства (значит, даже культурно-цивилизационной принадлежности), то они не выражаются иначе, нежели во всеобщей связности. Разве не называем мы бессвязное неразумным, бессмыслицей, о которой и говорить-то неприлично приличному человеку: зачем тратить время на заведомо бессмысленное занятие? Но всеобщая связность грубо, топорно разрублена аксиоматизмом и формализмом, реализующими линейную атомистическую стратегию выстраивания знания. В результате мы так привыкли к дисциплинарному делению наук, что и не представляем себе, что может не быть отдельной социологии, например, или психологии, или экономической науки, или правовой, не говоря уже об их внутренних дисциплинарных членениях, – отдельной, т. е. отделённой ото всех прочих, а значит, и от математики, физики, химии и биологии. Но разве эти деления соответствуют чему-либо в мире вокруг нас? Можем ли мы найти для них хотя бы какой-то коррелят? Никогда и ни за что. Они призрачнее любого призрака, они – чистое порождение нашего ума, не имеющее и не могущее иметь никакого внешнего коррелята. Интересная вещь: современный человек приучился не верить в чертей и домовых, в ведьм и порчу – зато научился свято верить в дисциплинарное деление наук и его незыблемость. А ведь тот вид суеверия, с которым мы расстались, имеет хоть какое-то подтверждение в жизни: кто не встречал среди людей чертей и ведьм? А кто встречал перегородку между химией и физикой, между физикой и социологией? И чем мы лучше собаки Павлова, когда в ответ на работающие технологии выделяем слюну обожания дисциплинарного деления знания?
Могут возразить: мы точно так же никогда не видели число, точку или линию, не видели равенство или неравенство, не видели справедливость или гнёт. Неужто и они – суеверия, вроде дисциплинарного деления знания? Но ведь мы видели исчисляемое, мы видели «испорченную», воплощённую в материи точку или линию, мы можем вообразить равенство как заменимость или совпадение, а неравенство – как отсутствие этого, мы знаем, что́ может быть названо справедливым, а что – угнетением. В том, чтобы считать число и прочее, перечисленное выше, «идеализациями», нет большой натяжки, разве что в том, что это порождает неразрешимую проблему расщепления на материальное и идеальное. Но вот перегородки между науками не могут быть сочтены отвлечением от чего-то действительного, от чего-то во внешнем мире. И точно так же они не могут быть приложены ни к чему во внешнем мире. Последнее ясно отличает их от любых идеальных объектов математики. Самим наукам можно всегда найти приложение во внешнем мире, а вот перегородкам между ними – нельзя. (Точно так же категориям, скажем, десяти категориям Аристотеля или категориям грамматики, можно найти соответствие в действительности мира или языка, а вот перегородкам между ними, т. е. самому факту категориального деления, – нельзя.) Поэтому мы не знаем, и никогда не узнаем, почему вокруг нас не только состояния квантового поля (или некая иная базовая реальность, которую когда-нибудь изобретут физики), но ещё и трёхмерные тела, а также биоорганизмы, равно как общества и государства с их экономикой и правом. Всё это должно бы было быть одним, не в смысле арифметического совпадения и неразличимости, как у Парменида, но одним в смысле всеобщей связности и перехода из одного в другое, когда бы свойства одного «уровня реальности», например, социального, полностью бы объяснялись свойствами низшего, например, биологического, – и так вплоть до базового, исходного. Иначе говоря, линейная атомистическая стратегия объяснения должна была бы не только давать горизонтально выстроенное знание в горизонте каждой из наук, но и вертикально пронзать их, нанизывая на единый стержень и выстраивая иерархию всего знания наподобие древа Порфирия, выводя один уровень из другого и принимая некий за исходный элемент.
Но наука не только не делает этого – она в принципе не может этого сделать. Не может потому, что неспособна объяснить содержательный скачок при переходе от одного уровня к другому. Точно так же невозможно объяснить, почему род содержательно – иное, нежели все подпадающие под него виды; почему, например, «живое» – это иное, нежели «разумное» + «неразумное». Чтобы превратить поражение в победу, для этой неспособности ещё в древности было придумано название закона: целое не сводится к сумме своих частей. Как будто бы рубль – больше, чем сто копеек! Если бы это действительно было так, философы давно обогатились бы, превращая рубли в сотни с лихвой копеек. Да и не в этом копеечном крохоборстве дело: фундаментальный и неотменяемый закон сохранения, лежащий в основании всей физики, полностью и целиком отрицает, превращает в нелепицу эту «несводимость» целого к частям. Поэтому атомисты, в т. ч. логические атомисты, с жаром протестуют против этой несводимости, отстаивая, например, тезис о том, что значение предложения сводится к сумме лексических и грамматических значений входящих в него единиц. Что, конечно же, совершенная несуразица, но не может не быть абсолютной истиной, если всерьёз, как это делают логические атомисты, принимать стратегию линейного атомистического выстраивания знания и столь же всерьёз следовать ей. Тогда надо считать, что у слов есть значения, причём в идеале – твёрдо и однозначно установленные, чтобы превратить их в субстанциальные атомы, или начала, для выстраивания более сложных конструкций. Поэтому наука всегда стремилась к терминологизации, поддаваясь этой магии слова (будто бы точно подобранный термин передаст совершенно точно и без искажений (!) искомое значение) не хуже посетителей магических салонов. Ещё Аристотель заложил основы такого понимания значения, которое вылилось в современную семиотику и соссюровско-фрегевское понимание знака-значения-означаемого.
Субстанциализм вполне побеждает и здесь – казалось бы, в самой далёкой от онтологии внешнего, объективного мира области. Субстанциализм в смысле интенции понимания: значение берётся как некий сам-по-себе атом, в идеале – столь же неизменный, как неизменна идея вещи или её сущность, и тем самым объективируется. Происходит наистраннейшая метаморфоза, сбрасывание одних форм и надевание других – совершенно мистическая операция, почище ежесезонной смены змеиной кожи. Под старой шкуркой пресмыкающегося – всегда новая, но такая же; здесь же смена форм приводит к алхимической трансмутации, смене природы. Значение – самое интимное, самое внутреннее из всего, что может быть, моё собственное, и ничьё другое, достояние, объективируется не хуже любой вещи внешнего мира, выставляется напоказ, заносится в словари. Его обсуждают и им играют, футболят и берут в руки, обтёсывают и улучшают. Со значением поступают так же, как с любой вещью внешнего мира; более того, значение превращают практически в вещь внешнего мира. Апофеоз этой игры со значением – семиотика, которая сочла всё в мире, и сам мир, знаком, приписав всему знаковую функцию и, следовательно, создав универсальный мир значений. Семиотик уверен, что может говорить о значении, что обладает технологией доступа к значению и его обработки: вытачивая, не хуже ловкого токаря, грубые заготовки на своём значение-обрабатывающем станке, даёт нам (как, к примеру, Лотман и его последователи) целый мир тонких фигурок точёных значений. Знаковая функция торжествует! Интимность значения вовсе побеждена: мистифицированное Платоном и выданное за мир идей (умнóй мир), выставленное Аристотелем напоказ в земном мире (хотя и связанное ещё с душой, но уже выскочившее из неё наружу), в семиотике значение окончательно стало чем-то объективным. Теперь Вежбицкая может провозгласить свой широкий проект поиска «семантических примитивов» (т. е. смысловых начал) во всех культурах мира, чтобы создать универсальный семантический язык человечества, выстроив любые значения из этих универсальных смысловых начал. Проект не удался; но убеждённые сторонники атомистической линейной стратегии выстраивания знания не сдадутся, утверждая, что он пока не закончен, но когда-нибудь непременно будет завершён; точно так же и проект Смысл ⇔ Текст Мельчука. Везде здесь удивительно, что обращаются со значением посредством другого значения, взятого как инструмент: ведь «семантические примитивы» надо как-то обрабатывать, структурировать и соотносить одно с другим, а значит, придавать им некое внешнее значение, выстраивая связи между ними – всё та же парадигма атомарного элемента и связей, в которой принципиально не понятно, откуда берутся связи, если вся субстанциальность (т. е. онтологическая подлинность) заключена в элементе. Но здесь эта парадоксальность выступает ещё более выпукло, просто-таки лезет в глаза, поскольку речь-то не о том, что «имеет значение», а о самом значении: и вот оказывается, что всегда нужно ещё какое-то значение, чтобы говорить о значении!
Эта невозможность конечного обоснования, о которой мы говорили применительно к общей Задаче философии, здесь проявляет себя не менее настойчиво. Милое наивное теологическое средневековье, потратившее столько сил на утверждение непостижимости Бога! Всё это время подлинная непостижимость, подлинный и окончательный трагизм был с нами, никуда не уходил, стоял перед глазами; и нужны были, в самом деле, шоры, чтобы этого не замечать. Но у простеца нет такого изощрённого инструмента, как интеллектуальные шоры, роскошь обладания которыми – прерогатива утончённых мудрецов. Простецкий взгляд требует прямого ответа: как говорить о значении изначально, не предпосылая разговору ничего? Может ли значение развернуться, если ему ничто не предпослано и если нет инструмента, внешнего по отношению к нему и служащего для его разворачивания?
Бутон цветка распускается сам, а рука цветочника уверенно обрывает ненужные лепестки, чтобы бойчее торговать розами. Значения семиотики – ловко выставленные на продажу, обработанные умелой рукой цветы, неизвестно откуда взявшиеся и как появившиеся. Без этой умелой руки они – ничто; умелые руки семиотиков умело управляются с любыми значениями, принося на интеллектуальный рынок готовый, красиво упакованный продукт, навсегда утерявший связь с той стихией, которая его когда-то и где-то породила. Вопрос простеца звучит теперь просто-таки неприлично в этом блестящем окружении нарядных обёрток, как если бы он ставил под вопрос хорошо налаженный промысел, дающий работу и заработок многочисленной армии тружеников. А простец простецки спрашивает: как нам найти само значение? не его упаковку и обёртку, не его описание и не руководство по его использованию, а его само? и как найти доступ к его подлинности, к его способности разворачиваться, создавая всеобщую связность? как всеобщая связность возможна и каким должен быть разум, чтобы всеобщая связность оказалась всеобщей разумностью и разумной всеобщностью?
Ушедший век много говорил о языке, но, похоже, так и не сказал самого главного. Язык – это удивительное место встречи, слияния и неслияния тех двух отщепов, которые в европейской интеллектуальной истории разлетелись в разные стороны и никак не сойдутся, не склеятся: отщепа материального и отщепа идеального, объективного и субъективного, внешнего, данного нам опосредованно и от нас не зависящего, и внутреннего, данного нам непосредственно и находящегося, по крайней мере частично, в нашей власти. Все проблемы и все загадки, все ходы европейской философии – вокруг того, как свести эти две стороны так, чтобы зазор между ними исчез или стал хотя бы минимальным. Или «терпимым». Последнее особенно замечательно: линия компатибилизма в аналитической философии сознания фактически признаёт неизбежность поражения при нынешних, принятых исходных посылках и, более того, объявляет это поражение победой, особым достижением философии. Ведь если сознание и тело, сознание и внешний мир скоординированы, значит, надо либо показать причинную связь между ними, обеспечившую эту координацию, либо, при отсутствии таковой, показать координирующую инстанцию, каковой не может выступать ничто, кроме Бога. Либо теология (Бог как гарант), либо наука. Но философия сознания в данном её варианте не говорит ни того, ни другого. Теологический уклон был бы неприличен, а научный – невозможен. Причинная связь между сознанием и внешним миром, как бы её ни понимать – в духе ли материализма, в духе ли идеализма, – здесь не признаётся. И правильно: скачок от одного к другому ещё меньше поддаётся объяснению, нежели скачок от вида к роду или от составных значений высказывания к целостному значению. В самом деле, в любом аналитическом высказывании («человек – разумное живое») значение его истинности всегда прибавляется к значению входящих в него слов и никогда не вытекает из них как таковых. Точно так же в предложении «Мальчик умный» общее значение предложения, т. е. утверждение ума мальчика, никак не вытекает из значений входящих в него слов, равно как из синтаксиса предложения, разве что такое значение будет вложено с самого начала в синтаксис именно данного предложения. Из значения предложения «Мальчик умный» также никак не вытекает его тождество с предложениями «Мальчик умён» или «Мальчик неглупый» – это всё вещи, никак не объясняемые и необъяснимые в рамках атомистической стратегии. Связность не может быть ухвачена при следовании линейной атомистической стратегии выстраивания знания.
В этом главное. Суть языка, взятого как речевая деятельность, не как набор формальных средств, – именно и только связность. Но именно связность никак не поддаётся схватыванию, если мы следуем, вслед за всей европейской традицией по крайней мере начиная с Платона, стратегии линейного выстраивания знания через конструирование сложных объектов из исходных элементов. Невозможность «конечного» (или, что то же самое, исходного, изначального) элемента; смысловая необъяснимость связей, отношений и прочего клея, которым приходится стягивать конструируемые элементы; разнокалиберность исходных элементов знания внутри любой науки; междисциплинарные перегородки между науками. Таковы принципиальные и неустранимые изъяны, которыми грешит названная стратегия. Это – изъяны бессвязности.
Можно ли восстановить связность? устранить названные разрывы, подлатать так эффективно и эффектно работающее тело науки? и надо ли его латать, – вот ведь немаловажный вопрос: неужто менять отработанную столетиями и подготовленную тысячелетиями идейного развития стратегию линейного атомистического выстраивания знания? ради чего – чтобы сделать приятное философии и почтить память великого Кузанца? что даст свёрнутость-развёрнутость как альтернативная стратегия построения знания, научного и философского?
Язык и сознание – наш доступ к связности. И не просто доступ к ней. Такое выражение неверно: связность составляет саму стихию и языка, и сознания. Значит, понять и объяснить, и в том числе узнать, как работает язык и сознание, можно только через стратегию свёрнутости-развёрнутости, и ни в коем случае нельзя через стратегию линейного атомистического конструирования. Но именно здесь эти две стратегии сталкиваются, претендуя на объяснение одного и того же. И если вторая из них, линейная атомистическая, хорошо разработана и вовсю разрабатывается дальше, то первую – стратегию свёрнутости-развёрнутости, – совершенно необходимую, в пользу которой свидетельствует весь наш опыт (который в данном случае, в отличие от других, имеет несомненное преимущество перед любым внешним объяснением), ещё только предстоит разрабатывать.
Язык и сознание исследуют каждое по отдельности, как если бы они были разными, отделимыми один от другого предметами. Лингвистика открывает объективные законы строения и развития языка, начиная с его фонематического уровня и кончая корпусным. Эти законы оказываются столь же непреложными, сколь непреложны и объективны законы внешнего мира, законы природы. Потрясающие успехи компаративистики свидетельствуют об этом: диахронные исследования языка стали настоящим прорывом. Так язык превращается в ещё одну вещь внешнего мира, совершенно отрывается от моего сознания, объективируется. Равным образом сознание стремятся объяснить на основе действия нейронных механизмов. Просто-таки невозможно поверить, что серьёзные учёные совершенно всерьёз думают, будто отслеживание возбуждения и торможения нейронов и их цепей даст ключ к пониманию сознания, если ввести какое-то промежуточное звено между ними вроде когитома: нейронная структура, выполняющая когнитивные функции и, следовательно, производящая сознание. Только теория лингвистической относительности в её, во-первых, адекватном, а во-вторых, современном прочтении (обе оговорки крайне важны ввиду крайней же вульгаризации идей Сепира и Уорфа) пытается нащупать связь между языком и сознанием, прежде всего – между языком и когнитивными процессами. И здесь, и там – и в исследовании сознания через мозг и нейронные механизмы, и в современной лингвистике – полностью торжествует линейная атомистическая стратегия выстраивания знания.
Что касается нейронауки, то это вполне очевидно: она не отличается в этом от других наук, применяя ту же стратегию выстраивания знания, и любые нейронные сети или более сложные структуры всё равно состоят из первичных элементов и их связей. Если бы нейронаука имела шансы на успех в объяснении сознания, одна из важнейших задач философии была бы решена: был бы найден переход между разными онтологическими уровнями, и отщеп материального вполне совместился бы с отщепом идеального, не оставив следов расщепления и не являя никакого зазора. Но поскольку это совершенно очевидным образом невозможно, приходится вовсе устранить субъективное сознание из научной картины мира: от ненужных квалиа, ненужной свободы воли и совсем уж ненужного «я» почти окончательно избавились и в аналитической философии сознания, и в нейронауке, и даже в психологии. Так устраняется само место, которое мог бы занимать человек в этой – без него – совершенной картине мира линейных конструкций связанных один с другим элементов.
Лингвистика также начинает с атома, с элемента – фонемы. Фонема как бы (мы вскоре вернёмся к этому «как бы») служит строительным кирпичиком, из которого выкладываются сложные структуры – морфемы, образующие, в свою очередь, лексемы. С помощью правил синтаксиса лексемы склеиваются в предложения, а предложения, по совсем уж для лингвистики неведомым законам (или, что то же самое, произвольно) образовывают тексты – самые сложные структуры, о которых может говорить лингвистика, если не считать виртуальной совокупности всех текстов языка – корпуса. Замечательно: всё вроде бы работает, и так построенное знание даёт нам знать, как работает язык. Но вот какая штука: зная как будто очень много об устройстве языка и даже претендуя на окончательность научного объяснения, лингвистика совершенно не способна подсказать, как выстроить перевод с языка на язык. Интересно, не так ли? «Маленький» сбой: даже нынешние мощные, но столь неуклюжие на деле программы перевода, способные передавать разве что самые простые тексты и ломающиеся уже на крошечном усложнении, работают только потому, что за счёт неимоверной, превышающей любые человеческие способности, вычислительной базы и сетевой технологии доступа способны сравнивать каждый конкретный случай с набором образцов. Но ведь это полностью противоречит стратегии линейного атомистического выстраивания знания: смысл предложения или текста (и даже отдельного слова!) выстраивается в таких программах вовсе не через склеивание неких семантических атомов. Это – не что иное, как практическое признание провала этой стратегии, её неспособности дать какой-либо внятный результат. Между тем для нас, людей, перевод вовсе не представляет непреодолимой трудности, и ту нелепицу, которую выдают самые продвинутые программы перевода, не слепит никакой переводчик-неумёха. А кроме того – и это главное:
человек не строит высказывания, а значит, и перевод, сопоставляя с образцами. Да, грамматические образцы нужны – но только для тех, кто не знает языка и не умеет говорить на нём. Носитель языка может вовсе не знать грамматики, и тем не менее он не ошибается. Это во-первых. И во-вторых, человек всегда способен создать совершенно новое высказывание, для которого нет никакого образца, а значит, парадигмальная определённость не играет роли в таких случаях. (И если бы он не был на это способен и практика языка была бы практикой шаблонирования, как то предполагается в программах перевода, язык не менялся бы со временем.) Для человека, иными словами, сравнение с образцами может играть какую-то роль, но не главную: производство высказывания для него – это разворачивание из свёрнутого состояния, а вовсе не выстраивание из атомарных значений и корректировка через сравнение с шаблонами и образцами. Это показывает, что в двух случаях применяют совершенно разные стратегии, и моя гипотеза заключается в том, что наше сознание и наш язык действуют по принципу сворачивания-разворачивания, а не по принципу линейного выстраивания начиная с элементарного уровня.
Могут сказать: в этом примере речь идёт о смысле высказываний. Это – область семантики, она в самом деле хуже разработана и, возможно, даже не может быть разработана научными средствами. Зато область формального разработана лингвистикой блестяще, и здесь её успех не может вызывать никакого сомнения. Посмотрим. Возьмём язык как набор формальных средств. Все формы языка выстраиваются, начиная с фонемы. Но саму фонему определить формально совершенно невозможно – вот ведь какая замечательная вещь! Фонема – это тот звуковой субстрат, который играет смыслоразличительную роль. Московское аканье и северное оканье не создают фонематического различия, тогда как различие первых гласных в словах «калька» и «Колька» – создаёт. Но ведь без обращения к области смысла мы в принципе не можем сказать, что такое фонема! Более того, обращение к физической реальности, т. е. к звуковым волнам, фиксируемым приборами во время произнесения нами слов, в принципе не может помочь: однозначных объективных, физических границ между тем, что мы называем «звуками» речи, нет, их нельзя увидеть. Получается, что самый базовый, исходный элемент языка, фонема, не только не может быть определён без обращения к смыслу, но и, скорее всего, исключительно через смысл этот исходный элемент, фонема, только и может быть определён, не иначе: никакое формальное определение или же обращение к физическому субстрату не помогает. Но ведь смысловая область не может быть понята и имитирована на основе линейно-атомистической стратегии: не существует никаких «элементов» смысла, и никакая их «периодическая система» невозможна. Вообще провальны любые попытки формального обращения со смысловой областью и её имитации формальными средствами, в т. ч. средствами математики: в таких случаях всегда, явно или неявно, вводится интерпретатор, опосредующий формальные представления и сам смысл. То, что касается фонемы, тем более касается и морфемы, и лексемы. А уж тем более – предложения: нигде здесь невозможно выстроить формальное объяснение без обращения к смысловой области, а значит, к принципиально другой стратегии выстраивания знания.
Впрочем, всё это не столь уж и ново: разве не знаем мы, что слово – это то, что выражает некое понятие, а предложение – то, что выражает законченную мысль? Прямая связь одного с другим, сознания с языком и языка с сознанием, невозможность понять одно без другого – вещь скорее тривиальная, нежели составляющая какое-то открытие. А если и составляющая, то только потому, что увлечённость формальной стороной языка и физикалистским объяснением сознания настолько исказила оценку всем известных фактов, что приходится их, по Шкловскому, остранить, чтобы вернуть то восприятие, которого они заслуживают.
Итак, самая интимная наша сфера, можно сказать, мы сами (ибо что такое наша самость, как не язык и сознание? не тело же, столь часто обновляющееся частями и периодически – целиком) ясно и окончательно свидетельствуем о невозможности применить линейную атомистическую стратегию объяснения и о необходимости чего-то другого. Это «что-то другое» должно быть свободно как от тех изъянов бессвязности, что были перечислены выше, так и от ещё одного, может быть, самого главного, о котором мы сказали только что: изъяна невозможности связать формализм и содержательность, изъяна, выражающегося в постоянном ускользании конечного объяснения, поскольку оно требует произвольного, внешнего введения смыслового материала. Формализм никогда до конца – не формализм, а значит, при любом основывающемся на формализме научном объяснении должна быть введена смысловая изначальная «смазка», смысловой мотор, без которого формализм – пустышка.
Избавиться от бессвязности. Это значит, что нам нужно научиться работать со связностью. Но связность изначальна, её нельзя ввести «потом», сперва разрубив секирой линейного атомизма, как нельзя, склеив разбитый сосуд, получить несклеенный. Надо начинать со связности. – Вот, собственно, и сказано главное: вожделенным началом философии является связность.
От Платона до Гегеля, и даже дальше, европейская философия принимала за связность – диалектику. Но диалектика связывает, а не является связностью. Она связывает, начиная с чего-то: ей нужно это начальное звено, всё тот же элемент, к которому она приложит себя и в котором явит своё действие. Европейская диалектика стремится распустить, почти растворить субстанциальность исходного, вычленив в нём внутреннюю сложность, противоречия, и затем, сыграв на их игре, вывести новую содержательность. Диалектика пытается расстаться с субстанциализмом, с элементарностью начала и с линейностью вывода; но ей это не удается. Она ведь так и движется от значения к значению, и смысл диалектического метода – выявить неочевидность субстанциальности, т. е. закрытости, законченности значения, показать таящиеся в нём возможности перехода к другому значению. И так далее: вновь обретённое значение также явит свою сложность, неоднозначность и благодаря этому потребует нового значения. Такие переходы у корифеев диалектики – почти разворачивание. Но именно почти; и замечательно (т. е. достойно того, чтобы быть взятым на заметку), что Николай Кузанский не верит этим блестящим текстам. Не верит в том смысле, что его программа не может быть выполнена ни теми, кого он знал, ни теми, кто пришёл после него.
Почему? Потому что традиционная европейская диалектика, хотя и стремится поставить связность во главу угла, страдает теми же недугами бессвязности, которые сопровождают стратегию линейного атомистического выстраивания знания, столь эффектно и эффективно развитую европейской мыслью. Начиная с чего-то, а не с самой себя, диалектика не может обосновать этот всегда произвольный и всегда частичный выбор. Частичность вполне проявляет себя в текстах Платона: начиная всякий раз с чего-то, с какого-то понятия, мы выстраиваем некую линию, круг или иную фигуру рассуждения, двигаясь от значения к значению. Но в следующий раз мы начнём с другого и опять проделаем некий путь. И так далее. Всё это очень увлекательно, но как эти разные траектории соотносятся друг с другом, как сходятся, и сходятся ли? В текстах Платона, диалектически стремящихся к связности, парадоксальным образом уже вырастают дисциплинарные перегородки – между справедливостью и благом, истиной и красотой, намечая внутридисциплинарное деление философии; и не случайно систематизирующее усилие неоплатонизма было столь напряжённым, и столь не до конца удачным: свести все эти линии в единую систему всё равно не получилось. Произвольность начала вполне очевидна и в диалектике Гегеля, и великолепное здание наук, им воздвигнутое, всё же держится на этом необязательном начале; начале, следовательно, не изначальном.
А обязательна и изначальна только связность – как таковая, а не как связанность чего-то. В этом всё дело, и единственный шаг, который предстоит сделать философии и философскому мышлению, чтобы вполне осознать себя и обрести твёрдую почву, – это шаг от связывания к связности как таковой.
Этот шаг подготовлен всем развитием европейской философии. – Наверное, и любой другой, если отнестись к ней столь же внимательно, как мы относимся к европейской. – Подготовлен, но не сделан. Тому помешали, я думаю, два обстоятельства.
Во-первых, заносчивость европейской философии, никогда всерьёз не принимавшей, и сегодня не принимающей, несмотря на все увёртки политкорректности, идеи другого разума, иной рациональности, нежели та, что была открыта в ходе европейского идейного развития. Всеобщность разума, или разумная всеобщность – действительная, подлинная регулятивная идея любой философии, была в европейской традиции едва ли не с самого начала понята и истолкована в духе унифицирующего универсализма, т. е. универсализма с приставкой «обще-», а не с приставкой «все-». «Всеобщее», этот бог диалектики, остаётся поэтому интересным недоразумением: разум, нацеленный на то, чтобы обобщать, а не собирать, способен, следовательно, только к «обще-», а не ко «все-», даже если объявляет первое – вторым. Сколь часто ни открещиваются европейские или североамериканские философы от гегельянской схемы истории философии, слова остаются словами, а дела – делами: западный разум по-прежнему не имеет у них ни собратьев, ни конкурентов, и любые проявления инологичной рациональности, которые заявили о себе в ходе исторического развития неевропейских культур, перетолковываются в духе побочной линии, недо- или прото-, маргинализируются как недостаточно рациональные. Любой профессиональный философ, если он честен с собою до конца, увидит, что и сам следует этой линии почти инстинктивно, безошибочно выбирая именно её, и нужны особые усилия, чтобы воздержаться от такой априорной установки. Чтобы действительно принять универсализм «все-», а не «обще-».
Во-вторых, эта заносчивость скрыла самое главное, о чём следовало бы вести речь: вариативность связности. И диалектика, и формально-логическая мысль открыли противоположение-и-объединение как путь выстраивания связности. Что такое тезис-антитезис-синтез, как не противоположение-и-объединение? Что такое простейшая родовидовая структура, как не противоположение-и-объединение? Диалектика и формальная логика, эти два крыла европейской мысли, вовсе не расходятся в самом главном, в исходном: в том, что связность в её «минимальном», т. е. свёрнутом, состоянии должна быть взята как противоположение-и-объединение. Их расхождение – потом, и обусловлено оно только их обоюдной недостаточностью и обоюдной восполнимостью. Их расхождение – это расщепление на содержательность и формализм, и если диалектика утверждает, что с содержательностью можно рационально работать, то формально-логическое мышление говорит ровно противоположное: только с формальными структурами. Но как формализм никогда до конца – не формален, так и содержательность, с которой имеет дело диалектика, никогда до конца не содержательностна: содержательность только потому способна прийти в движение, что в ней вычленяются на каждом шаге повторяющиеся логические структуры, и точно так же любой исходный для дальнейшего строгого построения формализм всегда сугубо содержателен, а значит, передаёт эту содержательность по наследству всему, что на нём построено.
Европейская мысль всегда опиралась на субстанциализм – не в содержательном (хотя и это важно), а в логическом плане. В смысле логики устройства предикации. (Вообще важен именно этот аспект; ведь и атомистическая стратегия вовсе не обязательно предполагает принятие атомизма как онтологического учения: антиатомистическая физика Аристотеля подчёркнуто атомистична в смысле выстраивания на основе принятия элементарного начала.) Устойчивость, закономерность и подлинность здесь мыслится как сущность, как эйдос, как неизменяемая суть. Такое представление напрямую сопряжено с пространственной интуицией, и фигуры Эйлера не случайно безошибочно, не нуждаясь ни в каком доказательстве, окончательно убеждают в правильности логических законов, вытекающих из субъект-предикатного сочленения, понимаемого как (не)попадание субъекта внутрь пространственной области предиката. Даже простейшие законы всесильной теории множеств можно иллюстрировать таким образом! Но если элементом, т. е. атомарным началом, выступает не субстанция, а процесс, то пространственная интуиция и построенная на ней формальная логика не годятся. Здесь работает другая парадигма: действователь, устойчиво связанный процессом действия с претерпевающим. Здесь тоже – противоположение-и-объединение: противоположные действователь и претерпевающее объединены процессом. Но процесс здесь – не будем поддаваться привычному звучанию слов – следует понимать не как временно́е изменение субстанции (как то привыкло делать европейское мышление). Нет, процесс, или, что то же самое, действ(ован)ие, следует понимать как первичную, исходную действительность, как подлинную вещность, а значит, до всякого времени. Это совершенно непривычно для традиционного европейского взгляда – но это, во-первых, вполне может быть разъяснено на европейском понятийном языке после того, как, во-вторых, в полной своей осуществлённости будет увидено, замечено, понято и раскрыто в многообразных явлениях той культуры, которая сполна развила этот процессуальный взгляд – культуры арабо-мусульманской.
Противоположение-и-объединение – это чистая связность, связность как таковая. Или, что то же самое, целостность. Слово «целостность» употребляется тут и там, и там и тут – совершенно невпопад, поскольку под целостностью понимают свойство целого или свойство быть целым. Но целостность не сводится к целому, скорее наоборот. Если нужно определение, то вот оно: целостность – это то, что не может утерять что-либо из себя, не разрушившись целиком, и в чём содержательная наполненность каждого зависит от содержательной наполненности всего остального. Таково противоположение-и-объединение в любом из двух нам известных вариантов его реализации: через родовидовую парадигму и через парадигму действователь-действие-претерпевающее. В противоположении-и-объединении ни любое из противополагаемого, ни их объединение не имеет смысла вне связанности со всем прочим, не может быть «вынуто» или овнешнено, как не может быть и устранено. При этом целостность как таковая бессубъектна, мы можем говорить о ней до и вне всех предикационных структур: целостность – это именно то, что разыскивал Гуссерль как допредикационную «структуру сознания». Но целостность – не структура, целостность – это свёрнутость, способная развернуться и при этом, разворачиваясь, не прибавлять к себе ничего. Так, именно так действует наше сознание: высказывая мысль, мы попросту разворачиваем её из свёрнутого состояния, и «внутренняя речь» – это не конспект, не сокращение и не сгущение, это – сворачивание той развёрнутости, которая может быть представлена в звучащей речи. Точно так же субъект-предикатная склейка целостностна, и только как целостность её можно адекватно понять, иначе мы встанем перед совершенно неразрешимым вопросом о том, как связка или иной связывающий механизм склеивают отдельные подлежащее и сказуемое, субъект и предикат. Как уже неоднократно говорилось, склеить их нельзя, если они изначально не предстают как целостность: с целостности надо начинать, и только от неё приходить к отдельности и дискурсивности как к вырожденному случаю. То же у Аристотеля в понимании времени: он хочет научиться рационально, т. е. с помощью атомистической линейности, работать со временем. Но оказывается, что атома времени нет и не может быть: так вскрывается онтологическая ничтожность субстанциально-атомистической линейной стратегии в понимании времени. (Не эту ли онтологическую ничтожность субстанциального атомизма открывает современная физика? А ведь в теории времени она давно подсказана Аристотелем, которого, бывало, клеймили как субстанциалиста, направившего весь поток европейской философии в ложное русло.)
Целостность поддерживаема самой собою, и только самой собою. Вариативность целостности не прибавляет к ней и не убавляет ничего: в любом из вариантов целостность остаётся собой. Эта удивительная внутренняя заряженность целостности дана нам как то же иначе: любой из названных вариантов – ровно то же, что и другой (поскольку целостность – всегда целостность), но целиком и полностью – иной (поскольку целостность меняется только целиком, в ней, именно в силу всесвязности, нельзя заменить что-то одно, не поменяв всё остальное).
Проект Николая Кузанского абсолютно рационален – надо лишь довести его до того начала, которое предчувствовал, но не смог высказать великий провидец. Это начало – всесвязность, или целостность. Она способна разворачиваться потому, что сама целостна: целостность, или всесвязность, принципиально рефлективна. Она – именно то, что она говорит, она и есть собственное высказывание: если она говорит «целостность», она и есть целостность, и если она говорит «всесвязность», она и есть всесвязность. (Вот где впору вспомнить Тарского: здесь кавычки и бескавычность в самом деле были бы нетривиальны.) Сказать «целостность» и сказать «целостность целостностна» – одно и то же, первое подразумевает второе и не может не быть вторым.
Целостность. Всесвязность. Это – свёрнутость, а вовсе не точка. Теперь (в дополнение к сказанному выше) ясно, почему не заметили проект Кузанца: потому что он сам дал повод трактовать его в традиционном ключе, в ключе линейного атомизма. Ведь точка – элемент, именно такой, с какого начинает традиционное европейское мышление. Но точка Николая Кузанского лишена связей: из неё нельзя выстроить связную конструкцию, умножив её как элемент и стянув эту множественность связями и отношениями. В силу этого элемент Кузанца парадоксален; но и не парадоксален, если рассматривать его в правильной перспективе, в которой он – вовсе не элемент и где вместе с элементарностью уходит и парадоксальность. В этом всё дело: в адекватности взгляда. Проект Кузанца задаёт вовсе иную перспективу, вовсе иную стратегию выстраивания знания и даже понимания цели познания. Но это сполна выясняется, только когда мы начинаем с того, с чего надо начинать: не с точки, а со связности. Или, точнее, со связности, взятой как таковая, – т. е. со всесвязности. Именно это задаёт другую перспективу и делает понятным то, что оставалось не- прояснённым у Николая Кузанского: как начало может развернуться само, не беря ничего внешнего. Ведь Кузанец говорит о точке не потому, что это – элементарное начало вроде точки в геометрии. Нет, вводя точку, т. е. как будто и ничто, он ничтожит всё, что можно подвергнуть ничтожению. Он устраняет всё внешнее, всё наносное, всё предзаданное: он хочет начать с подлинного начала. Но точка, как бы ни входить в тонкости её толкования, пусть даже так, как это делал Бибихин, – не сможет сыграть ту роль, которую отвёл ей Кузанец. Его поэтому и пустили по ведомству мистицизма: раз с его точкой нельзя работать «рационально», что означает – её нельзя положить как начало в линейном выстраивании знания, умножая и связывая отношениями, – следовательно, заключает европейское мышление, это – мистицизм, что-то таинственное, поскольку взывает не к ясному свету разума, а к тайной глубине чего-то такого, над чем разум не властен. Всё бы так, но лишь с одним добавлением: разум в самом деле не властен над таким началом, но только если понимать разум и разумность в том их варианте, который открыт, осуществлён и развит европейской культурой. Однако в том-то и дело, что разум фундаментально вариативен – точно так же, как фундаментально вариативна целостность. Точнее даже – в силу вариативности целостности, поскольку разум, с которым мы привыкли иметь дело, и есть не что иное, как способность дискурсивно развернуть целостность как субъект-предикатную конструкцию.
Вот оно что: дело не просто в том, что разум фундаментально вариативен – хотя и эта несложная мысль, если будет признана и принята, составит в философии настоящую революцию, какой ещё не было. (Потому и не будет признаваться, а будет замалчиваться или забалтываться, чтобы не допускать всеобщего переворота.) Фундаментальная вариативность (дискурсивного) разума вытекает из того, что дискурсивность, т. е. отрывочную развёрнутость, можно выстроить только как субъект-предикатную конструкцию, а способы субъект-предикатного конструирования разнятся вслед за варьированием целостности. Субъектное разворачивание целостности, разрубающее её внутреннюю связность, осуществляется по разным технологиям потому, что предицирование, т. е. обрастание субъекта предикатной шубкой, осуществляется так, как то подсказано и указано данным конкретным вариантом целостности. Мы говорили выше о двух; значит, возможны как минимум два разных варианта разворачивания субъект-предикатных конструкций, два разных варианта дискурсивного разума. Поскольку оба реализуют фундаментальную вариативность целостности, они в этом равны и не могут превосходить один другой и вообще не могут быть сравниваемы линейно.
Выражения вроде «европейский разум» и «арабский разум» (их можно заменить синонимами, такими как «субстанциальный разум», «процессуальный разум» в том смысле субстанциальности и процессуальности как способов организации субъект-предикатных конструкций, который был намечен выше) получают свой смысл в свете сказанного. Это – отдельные способы отрывочного, т. е. вырванного из сворачиваемо-разворачиваемой целостности, оконеченного разворачивания – такого разворачивания, которое всегда имеет фиксированные начало и конец. И обычно имеет продолжение, это верно; но продолжаем мы всегда так, как если бы продолжение было очередным началом. В отличие от этого, подлинное, целостностное сворачивание-разворачивание не начинается и не заканчивается, оно не продолжается и не длится, не останавливается и не возобновляется, не прирастает и не умаляется: известное выражение «всё во всём» выражает предчувствие свёрнутости-развёрнутости. Так потому, что целостность не может быть увеличена или уменьшена, и в своей бесконечной варьируемости, составляющей её саму, она не меняется. В этом смысле целостность и есть ускользание: она не может быть зафиксирована и «схвачена» именно потому, что целостностна. А фиксирующий и схватывающий разум – это всегда отдельный разум, развивающий только один из возможных вариантов субъект-предикатного склеивания как отрывочного, дискурсивного разворачивания целостности. История культур человечества – это бесценная кладовая опыта разворачивания отдельных, отрывочных, дискурсивных разумов. Способность работать с ними всеми как с равноценными вариантами – это способность универсализма с приставкой «все-», а не с приставкой «обще-». «Обще-» бывает только тогда, когда один из вариантов, неважно, какой именно, выдают за привилегированный, исключительный и отдают ему то царское место, которое по праву принадлежит только целостностному разуму, разуму «все-», и никакому из дискурсивных разумов.
Дискурсивный разум и целостностный разум. Второй – это разум, способный работать с целостностью, разум, для которого варианты дискурсивных разумов – лишь приложения. Он способен между этими вариантами перемещаться. Целостностный разум способен работать с целостностью, способен к настоящему сворачиванию и разворачиванию, а не к отрывочной развёрнутости. Это и есть тот разум, о котором мечтал Николай Кузанский: разум, способный к свёрнутости-развёрнутости, способный к различию конкретных, дискурсивных разумов и к перемещению между ними.