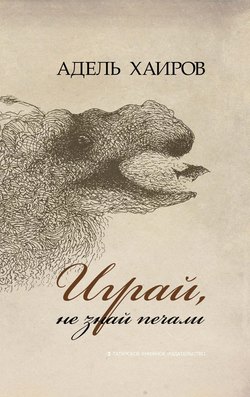Читать книгу Играй, не знай печали - Адель Хаиров - Страница 7
Рассказы дачника
«Скворечник» дяди Миши
ОглавлениеНа этот «скворечник» я давно положил глаз. Добротно сколоченный из того, что река весной выносит на берег с мусором, он был виден лишь в начале апреля, а затем исчезал на всё лето в густой листве, растущей вниз. Не один я любовался им. Мужики, попыхивая папиросками, глядели на домик, прилепившийся к утёсу с какой-то грустинкой, которая была вызвана давней несбыточной мечтой. От Казани прикладываясь к горлышку и матюгаясь, они в этом месте сразу притихали и уходили в себя. Кто его сделал? Кто там живёт? От кого прячется?
Омик с лёгким креном из-за высыпавших на правый борт пассажиров шелестел вдоль берега, аккуратно разрезая акварель с пушистыми ивами. Пять минут красоты, и вот уже снова надо ползти к своим дачам, где гадюками извиваются шланги и помидоры, наливаясь кровью, тяжелеют на кусте. А настырный хрен проклюнулся даже под крыльцом, выбив ступеньку, как зуб!
Однажды, в самый разгар посадки рассады, моя бабушка разогнула спину и увидела знакомую, которая шла налегке с пристани.
– Марьям, сэлам! – окликнула. – Ты чего, уже всё посадила, да?
– А я в этом году ничего сажать не буду! – огорошила та и обмахнулась веером-книжкой.
– Болеешь?..
– Не-а, просто не хочу! – был ответ.
– Абау, – только и смогла произнести моя бабушка, что означало высшую степень удивления.
Но я смотрел на уходящую в сизую дымку Марьям с восхищением! Вся деревня стоит раком, а она идёт, порхая, с книжкой под мышкой.
…Чтобы добраться до «скворечника», надо было вскарабкаться на скользкие валуны, скатившиеся лет пятьсот назад к Волге, потом, цепляясь за корни диких вишен и разные колючки, пройти козьей тропкой по выступу. После поднырнуть под кривые татарские берёзки и там, передвигаясь на четвереньках в качающемся от ветра коридоре, выйти на первую террасу и ослепнуть. Вид отсюда был обалденный!
Эх, надо было снять перед Волгой-матушкой шапку и поздороваться, а я забыл, и тогда мою парусиновую кепку сорвало с головы, и она вмиг превратилась в летящую вдаль точку. Впереди ещё две террасы, но я их уже не взял. Подошвы штиблет соскальзывали, камушки, собираясь в струйки, текли по морщинам утёса и падали в серебро.
Летом у этих валунов, похожих на гигантские шампиньоны, я частенько замечал с палубы седого старика в выцветшей гимнастёрке. На нём была панама с бахромой, какую носил Утёсов в фильме «Весёлые ребята». Он сматывал удилища и уходил куда-то наверх. Я понял, что это и есть тот самый таинственный «скворец». И вот как-то, опоздав на свой омик, я сел на последний, который шёл ночевать в Верхний Услон. Оттуда до моей станции только один путь – по берегу. По камням, перелезая через сказочные пни-осьминоги, будет часа полтора, не меньше. Быстро темнело.
Через час на дороге вырос огромный гриб, он зашевелился. Красная спичка под шляпкой осветила лицо, и я узнал седого старика. Он уже собрал манатки, в тяжёлом кукане хлестали по щекам злобную щуку жизнерадостные подлещики, невидимая уже банка из-под червей гремела под ногами.
– Ого, – присвистнул он, когда узнал, откуда держу путь. – Закуривай, марафонец! – старик достал латунный портсигар с профилем Пушкина на крышке.
В сумке у меня булькнуло. Эту бутылку коньяка я вёз бабушке поднимать давление. Не довёз. Приземлились на ещё тёплый камушек. Старика, которому было всего-то, наверное, пятьдесят, звали дядей Мишей. Мы приняли из горлышка за знакомство.
– Как же туда полезешь? Здесь альпеншток нужен! – кивнул я на утёс.
– У меня, парень, верёвочная лесенка от самого крыльца к воде спущена. Вон, конец болтается… – выдал секрет дядя Миша и, защёлкнув портсигар, постучал им по ноге. Раздался деревянный стук. – Культя! – радостно сообщил он. – Винтами отсекло, когда Волгу на спор переплывал.
Но лазил он как обезьяна на одних только руках! Я же все ладони и коленки изодрал… И вот сижу на его крыльце и болтаю ногами, как пьяный ангел в ночи. Один штиблет так и улетел. Долго ждал, когда внизу раздастся шлепок.
Звёзды исцарапали всё небо. Штопорный ветерок приподнимал моё тело, и уже казалось, что я лечу над чёрной рекой с медленными огоньками пароходов. Волосы шевелились от страха и восторга. Я вцепился в рукав дяди Миши.
– Не боись, малец, я отсюда три раза падал! По пьяни, конечно. Но не долетал. За коряги цеплялся. А потом, просто надо умеючи падать. Смотри!.. – Он накрыл голову пиджаком и присел, готовясь к показательному прыжку. Но чего-то передумал и принялся лихо выбивать чечётку, крутясь на культе, как на циркуле. Крыльцо ходило ходуном, а единственная свечка на тарелке, проскакав по фанерному столику, спрыгнула в пропасть.
– Там, за крыжовником, яма. Всё уходит туда без возврата! – махнул ей вслед дядя Миша. Натанцевавшись, присел рядом. – Чё, улетела тапка-то? – хохотнул и отпустил на волю пустую бутылку. – А какие тут воздухи парят, чуешь?! А завихрения?
И дядя Миша надул грудь и запел басом:
Прощай, радость, жизнь моя!
Слышу, едешь без меня.
Знать, должён с тобой расстаться,
Тебя мне больше не видать…
Волга замерла, прислушавшись, и точно в нужное место вставил в песню свой гудок невидимый пароход.
Дядя Миша достал измятый свадебный снимок у Вечного огня – всё, что осталось от прошлой жизни, и начал рассказывать про себя. В семнадцать лет, отпечатав стишки на машинке, отправился в Литинститут. Пришёл на экзамен хмельной, так как всю ночь гужбанил с одним московским мэтром («Вольшанский! Слыхал про такого?»). Завалил, потом год шатался по столице, подрабатывая в овощных отделах грузчиком. Вернулся в Казань, поступил на филфак. После первого курса исключили за прогулы, забрили в армию. Там замполит нашёл в его тумбочке трактат о возможности соединения коммунизма с анархизмом. Положили в психушку, а через три месяца комиссовали. Вернули матери. Каждый день она ему выедала мозг…
Чтобы убежать от неё, женился на первой встречной с квартирой, но через месяц понял, что сбежал из одной тюрьмы в другую. Долго обдумывал план побега. Однажды на пикнике, когда жена с тёщей и тестем пошли накрывать поляну («Три толстяка!»), оставил ботинки и одёжку на песочке, а сам, перемахнув через залив, запрыгнул в лодку, которая волочилась на канате за гружёной баржой. Хотел уйти в Астрахань, а может, и на Каспий, но, когда баржа шла этими пугачёвскими местами, понял, что волю и глухомань можно и неподалёку тоже найти – под самым носом у Казани.
Я слушал его, трезвея, и вдруг меня осенило. Я понял, что это он про меня рассказывает! Узкими азиатскими глазами душу мою разглядывает, ковыряет чёрным ногтем, выуживает из меня ржавым крючком и мне же самому мою жизнь излагает. Ловко придумал, сволочь! Но ведь я об этом только мечтал втайне, ярко во всех подробностях представляя, а он – сделал!
Я вцепился в перила крыльца, летящего с посвистом, как капитанский мостик каравеллы над ночным морем. Звезда рассыпалась окурком у моих ботфорт. Поскользнувшись на медузе, я полетел на грязный матрас. Отстёгнутая культя весело, как обезьянка, прыгала по палубе. А дядя Миша хохотал на мачте, влезая в петлю одиночества, которое он обрёл на безымянном утёсе, обманув судьбу-злодейку.