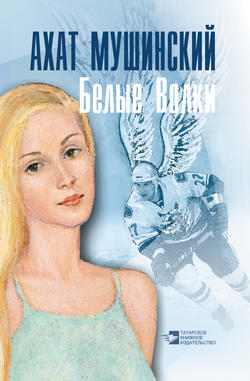Читать книгу Белые Волки - Ахат Мушинский - Страница 27
Часть первая
Глава третья
25. Не променяю никогда
Оглавление– Что такое импрессионизм?
– Это когда много баб и солнца.
Из услышанного
За окном громыхнуло и полило как из ведра.
– Что за май такой? – оглянулся Верста на открытое окно. – То солнце нещадное, то ливень безбожный. Такая зависимость от капризов природы! – Он потрогал свой варяжский нос, потёр поясницу. – И с годами ведь всё сильней эта зависимость.
Буля подошёл к окну, выглянул в ночь:
– Что-то Руслана долго нет. – И захлопнул створки.
– Дело молодое, – заметил гость, взглянув на допотопные наручные часики, и вкрадчиво поинтересовался о Каше с Еленой. Буля сказал, что Руслан Кашапов – его партнёр по тройке. А Елена…
– Мы с ней только сегодня познакомились.
– Серьёзно? А такое впечатление, что она в вашем кругу уже много лет. – И добавил: – Верное имя у неё. Соответствующее.
По мобильнику Каша сообщил, что скоро будет. Буля успокоился, плеснул из графинчика ещё по рюмке.
– Борис, своих книг, изданных, много?
– Всего одна. Я ведь часто переезжал с места на место, а чтобы выпустить в свет книгу, надо в одном городе жить долго. Ну, как долго? Не меньше года. По газетам, журналам, альманахам публикаций достаточно. Свою эту единственную книжку, что интересно, я увидел через пятнадцать лет после её рождения. Как получилось? В Красноярске подготовил рукопись стихов и отдал одному хорошему другу-поэту, сидевшему в книгоиздате в немаловажном кресле. И так получилось – уехал. Опять же в Красноярске объявился только через полтора десятка лет. А там мой друг с моей живой книжкой. Протягивает мне… Вот это было – да-а! Ради такого стоит на белый свет явиться, друзья мои!
– Друг у тебя, получается, отличный.
– Точно!.. Но и стихи неплохие, – показал в улыбке свои лопаты зубов поэт.
Я поинтересовался:
– Толстая книжка-то?
– Не-е… Тощенькая такая, в мягкой обложке.
– Хоть один экземпляр остался? – опять спросил я.
– Где-то остался, а при мне нет.
– А ты прочти что-нибудь на память, – сказал Буля.
– Да? – Верста задумался на секунду-другую, кашлянул в кулак и, чуть склонив большую голову набок, начал своим шершавым, прокуренным голосом:
Не променяю никогда
рубаху белую
на чёрную…
Честно говоря, я не очень-то верил, что наш бомжацкой корпорации гость может быть настоящим поэтом, и даже думал, что он откажется продемонстрировать свои поэтические способности, сославшись на травму, отсутствие памяти (и книжки своей под рукой нет), да мало ли других весомых и правдоподобных поводов отмолчаться. Может быть, это сомнение и порождало моё какое-то снисходительно-терпимое отношение к нему. Пой, дескать, соловушка, пой. Но я, оказывается, ошибался. Это стало ясно по первым же высоким поэтическим нотам, сипловато взятым Верстой посреди ночи у Були на кухне.
Он читал нам о не запятнанной белой рубахе, в которой представить себе его было нелегко, и, странное дело, я верил ему. Вот в ней, белоснежной, топит он баньку (откуда она у него, перекати-поля-то?) и вдруг пачкает в саже, которая легла на грудь «строкою жжёною». Тут завязка стихотворения. А развязка в том, что речь, конечно же, шла вовсе не о рубахе. Речь шла о душе и вдохновении.
Я, конечно, не самый большой знаток поэзии, но в данном случае… Для верности я взглянул на Булю, нашего профессора кислых щей, и по его сияющей физиономии убедился, что не ошибся: перед нами в небритом, перебинтованном, лохматом обличии восседало на табурете нечто, не скажу, талантливое, но, безусловно, подлинное и необычное.
– Откуда Волга-то у тебя взялась? – спросил Буля. – С одной стороны, ты сибиряк, с другой – странник, а тут, в стихотворении своём, – осёдлый волжанин?
– Его же я в Ярославле написал, на даче одного начинающего поэта и законченного спекулянта, хотя таких сейчас бизнесменами принято называть. Представляете себе, на высоком волжском берегу двухэтажный особняк, теннисный корт, баня, уж не говорю: помидоры-огурчики, яблони-вишенки на участке… И в резной беседке, в тени вьюна, ваш покорный кропает своё… И не своё тоже. Я там его, этого проходимца, поэмку одну до ума доводил, к печати готовил. Кушать-то хочется.
– А рубаху белую запятнать не побоялись? – спросил я.
– С какой стати? Свою работу я исполнял честно и профессионально. На чужом хребте в райскую жизнь не въедешь.
– Зато другому способствовали в этом. И сообща с проходимцем вводили в заблуждение читателя.
Буля перебил нас:
– Почитай ещё, Борис.
– Устал, – поморщился он и поднялся со стула. – Откуда, Булатыч, у тебя столько книг?
Мы с Булей тоже снялись со своих мест и неспешно пошли по комнатам квартиры, в которой практически по всем стенам подпирала потолки уникальная библиотека.
– Собрал потихоньку, – ответил Буля на праздный, с моей точки зрения, вопрос.
– Собрал? – удивился Верста. – А я думал, может, по наследству досталась.
– Почему это?
– Подобрана уж больно ладно, со старинными фолиантами и не по твоему, прости меня, Булатыч, профилю. Ты же хоккеист. А тут…
– Что тут? По-твоему, хоккеист не может интересоваться серьёзной литературой?
– Я этого не говорил, но, согласись, это не характерно для твоей профессии. И ты в данном случае – исключение. Я бы даже сказал: откровение для меня. Извини, но циничный вопрос: ты по натуре своей собиратель или читатель?
– У нас в семье всегда было много книг. И я рос среди них. И читал. И сейчас без чтения я не представляю себе…
– Понятно… Но если б в моём доме с детства было такое количество книжек, у меня бы к ним, как к привычному декору, развилось равнодушие. А это чья картина? – прищурил левый глаз Верста, прицелившись на полотно моей работы, изображавшее большое, всё в инее разлапистое дерево и рядом озерцо, на утреннем льду которого скрестили клюшки над шайбой две крохотные детские фигурки. Картина приютилась в одном из редких проёмов, свободном от книг.
– Это – произведение выдающегося художника современности Марата Салмина, – с пафосом произнёс Буля. – Прошу любить и жаловать.
– Ладно тебе, – снял его руку я со своего плеча.
Верста посмотрел на меня, точно оценивая, соответствую ли своей работе, затем опять на полотно:
– Недурственно, очень даже недурственно, скажу я вам, – тоном академика живописи протянул Верста. – Светлая картина. Да-а, всё у нас, что связано с детством, светло и чисто. Кто-то из этих юных хоккеистов, должно быть, ты, Булатыч, а другой – автор картины, а?
Буля одобрительно кивнул головой, пояснив кратко:
– Одно время мы с Маратом бегали на озёра за нашими домами. Уже к концу ноября они покрывались крепким льдом и превращались в десяток чудесных хоккейных площадок…
– Сейчас там давно уже ни озёр, ни лугов, всё застроили, – заметил я.
Верста был внимательным слушателем. Ему всё было интересно: и про картину, и про хоккейные краги на вешалке, и про золотые, серебряные медали, кубки и прочие спортивные награды хозяина квартиры, и про его детство в плюшевом альбоме, но всего интересней для него всё равно оставались книги, и он время от времени окунался в них, продолжая быть внимательным и не упуская нити неспешной нашей беседы…
Потом, возвращаясь к разговору о моей картине, он заметил, однако, что реализм по большому счёту его не столь волнует.
– Шишкин, Репин, Суриков не художники, по правде говоря, а старательные копеисты. Копеисты живой природы. Я имею в виду и человеческую природу. Мне надо, чтоб человек был показан изнутри. Огонь, мерцающий в сосуде, чтоб, а не сам сосуд, в котором не знай что.
Вернулся Каша. Мы все опять сели за стол. Предметом внимания, безусловно, стало долгое отсутствие нашего донжуана.
– И что, проводил?
– Это и есть одна нога здесь, другая там?
Каша вяло, в своё удовольствие оправдывался, а затем предложил выпить:
– Не за чего иного, прочего другого и не за ради приятства, а за единое единство нашего и дружного компанства!
Поэт аж языком цокнул и пегой своей шевелюрой встряхнул. Я поинтересовался:
– Из вятского запасника, что ли?
– Не знаю, – ответил Каша и, пошкрабав пятернёй в затылке, что означало крайнюю степень довольства жизнью, выпил.
Мы поддержали… На сей раз наш почтенный гость закусил странным образом – скучил хлебные крошки на столе, умело взял пальцами, как узбек плов, и кинул в рот.
– Так вот, – продолжил он прерванный приходом Каши разговор, – реализм – это всего лишь ученичество в истории искусства. И живописцы наши из поколения в поколение выкарабкаться из этого ученичества не могут. Ни тпру, ни ну – застряли, как второгодники. А пора бы подняться на настоящие высоты. Конечно, есть отдельные прорывы – Пикассо, Северини, Кандинский, Малевич, австриец Фукс. Но…
– Но это касается только живописцев? – поинтересовался я. – Или реализм – это ликбез для всех в широком смысле слова художников, в том числе и поэтов?
– По моему раскладу – только живописцев. Писатели право на реализм всё-таки имеют.
– Интересно, почему такая несправедливость?
– Не знаю, пока не могу объяснить. Но я так чувствую.
Тут вставил своё слово Каша:
– А хоккей – это реализм?
– Нет, хоккей – чистой воды абстракция. То есть искусство высшего порядка. Вот, если говорят, архитектура – застывшая музыка, то хоккей, как и футбол, баскетбол, регби, – это визуальная музыка. В движении.
– Здорово! – Это Буля. Он взял омелевший графин, оценил ватерлинию и пошёл к себе в комнату за добавкой.
Я спросил Версту:
– Как же это ты так вылетел из-за автобуса? Не похоже, что просто споткнулся.
– Толкнули.
– Кто?
– Да-а… – махнул он рукой. И в свою очередь спросил: – А баба-то у него где? Вроде, фотографии вот её с сыночком вижу, кивнул он на книжный шкаф, за стеклом которого теснились среди прочих несколько семейных фотографий.
– Развелись они, – ответил я.
Появился Буля с восстановленным в статусе графинчиком.
Спать легли уже не поздно ночью, а рано утром. Верста ещё курил свои вонючие сигареты в лоджии, затем долго-долго кашлял за стеной, в специальной комнате для гостей, которые здесь, у Були не переводились.