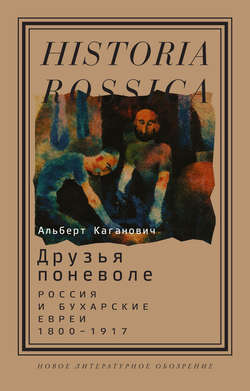Читать книгу Друзья поневоле. Россия и бухарские евреи, 1800–1917 - Альберт Каганович - Страница 5
Глава 1
Фундамент отношений
2. Отношения России и бухарских евреев в период завоевания Средней Азии
ОглавлениеИмператор Александр II (1855–1881) проводил политику постепенной отмены антиеврейских законов. Одним из наиболее важных прав, предоставленных евреям за время его правления, было утвержденное в июне 1865 года разрешение тем из них, кто окончил ремесленные школы, повсеместного проживания в России[216]. Отсутствие свободы проживания было одним из главных ограничений евреев, и в правительственных верхах надеялись, что поэтапно вводимое разрешение покидать черту оседлости ослабит остроту еврейского вопроса. В этот, наиболее благоприятный для евреев период бухарские евреи и оказались в России. Власти сочли благоразумным не распространять ограничения на оказавшуюся в русском подданстве новую для нее еврейскую субэтническую группу, так сильно отличавшуюся в глазах русского колонизатора от привычных ашкеназских евреев.
Новый подход проявился уже во время завоевания. Всего лишь десять дней спустя после завоевания Ташкента, 27 мая 1865 года, исполнявший обязанности оренбургского генерал-губернатора Константин Бабарыкин подал министру внутренних дел рапорт, в котором ходатайствовал о расширении льгот для бухарских евреев[217]. В ответ Комитет министров в апреле 1866 года, вновь сделав исключение в общем законодательстве об иностранных евреях, предоставил оренбургскому губернатору право принимать в российское подданство всех евреев Средней Азии, вступивших в купеческие гильдии. При этом администрации надлежало приписать евреев Средней Азии к пограничным городам Оренбургского края и применять по отношению к ним законы, установленные для всех евреев – российских подданных. Инициативу губернатора особенно поддержал управляющий канцелярией императора, отметивший, что принятие бухарских евреев в русское подданство «может оказать пользу не только Оренбургскому краю, но и вообще нашим отношениям к этим ханствам»[218].
Эта фраза свидетельствует, что, предоставляя бухарским евреям льготы, русская администрация руководствовалась не только желанием расширить торговлю со Средней Азией, но и стремлением усилить симпатии своих сторонников в этом регионе. Бухарские евреи из-за их малочисленности не могли стать силой, способной поддержать вооруженным путем русское завоевание Средней Азии, но могли передавать информацию о состоянии дел в ханствах, используя имевшиеся у них связи и знание местных языков. Сохранилось несколько документов, свидетельствующих об использовании русской администрацией бухарских евреев как информаторов и агентов.
Казенный раввин ашкеназских евреев Ташкента Абрам Кирснер указал в поданной в 1909 году докладной записке, что в рукописях Григория Генса «…в обилии встречаются показания разных азиатских евреев, по-видимому, весьма охотно доставлявших русским необходимые им сведения. Таковы показания о Бухаре еврея Дезерцева в 1822 г., показания бухарского еврея Якупа Мамандарова в 1829 г. и другие»[219]. Дезерцев служил переводчиком и проводником в экспедиции Негри, за что в декабре 1821 года был награжден серебряной медалью на Анненской ленте «За усердие» – наградой, которая редко вручалась евреям[220]. Что касается Якупа Мамандарова, то речь, очевидно, идет об уже встречавшемся нам купце Якове Самандарове (Самандаре), путешествовавшем по России и Европе в 1820 – 1830-х годах.
Примером сбора и передачи бухарскими евреями информации было их сообщение в 1861 году оренбургским властям о новом прибытии в Бухару упомянутого выше Вольфа[221]. Один из русских чиновников под псевдонимом Казенный турист, сетуя на скрытность мусульман, справедливо писал в 1864 году: «Если вам удастся что-нибудь узнать о внутренней жизни Бухары, то разве от евреев». Результатом возросшей оценки местных евреев и взаимной симпатии между ними и этим чиновником стала его последующая запись: «…вообще бухарские евреи развитее своих патронов [мусульман], и многие из них воспитаны настолько, что могут судить о вещах, о которых коренному бухарцу и во сне не снилось»[222].
В 1868 году эмирской полицией по обвинению в содействии русским был арестован в городе Бухаре один из лидеров еврейской общины города, Аарон Кандин (1823–1909). Приговоренный к смертной казни, он спас свою жизнь переходом в ислам и выплатой большого выкупа – 3400 бухарских золотых тилля (13 600 рублей). По всей видимости, обвинения были небеспочвенными, поскольку даже после своего вынужденного перехода в ислам и переселения в качестве поднадзорного сановника во дворец Кандин умудрился, рискуя жизнью, передать в Россию секретные сведения через Гилеля Бененсона, путешественника и коммерсанта из города Борисова Минской губернии. В 1866–1869 годах тот объездил Европу, Китай, Индию, Афганистан, Персию и Бухару. Когда на территории последней он был арестован по подозрению в шпионаже, Кандин, узнав, что Бененсона собираются передать русским, переправил с ним информацию о попытках эмира организовать антирусскую коалицию, об эмирских шпионах в Самарканде, о боеготовности эмирской армии и настроениях бухарского населения[223]. Приезд в 1869 году в Самарканд из Бухары пленного Бененсона вместе с подаренными эмиром русскому царю слонами хорошо запомнился Арендаренко, который служил тогда джизакским уездным начальником[224].
Бухарские евреи также оказывали посредничество русским и в сборе сведений об их пленных в Средней Азии. Через посредничество бухарских евреев уральские и оренбургские казаки иногда выкупали своих родственников из плена или устраивали им побег[225].
Во время завоевания Средней Азии связь между бухарскими евреями и русскими властями еще более укрепилась. Русская военная администрация, заинтересованная в подробной информации о действиях мусульман, готова была предоставить бухарским евреям дополнительные правовые льготы. В ходе завоевания Ташкента в 1865 году, обеспокоенный продолжительным сопротивлением на улицах и желавший расширить число лояльного населения, генерал-майор Михаил Черняев отменил упомянутые мусульманские законы, действовавшие в отношении бухарских евреев и индусов[226].
После завоевания Туркестана бухарские евреи передавали русским властям информацию уже о приграничных странах. Так, один русский путешественник писал в 1872 году, что «евреи всегда были самым чувствительным барометром в деле политических движений в народе и в соседних ханствах, разнюхивая с удивительной быстротой и точностью такого рода затеи и предупреждая о них русских»[227]. В 1882 году бухарские евреи сообщили, что племя афганских туркмен готовится к нападению на Бухару[228]. В конце 70-х – начале 90-х годов XIX века бухарский подданный Натан Даматов, совершая поездки по торговым делам в Китайский Туркестан (провинция Синьцзян), по сообщению секретаря российского консульства в Кашгаре, «добровольно и безвозмездно, доставляя различные сведения и документы, как материал для разведывательной деятельности консульства, оказал последнему несколько весьма важных услуг»[229].
В ходе и сразу после завоевания, ожидая скорых перемен к лучшему, бухарские евреи не скрывали радости, когда встречали русскую армию в завоеванных городах. В 1864 году проживавшие в Казалинске бухарские евреи верхом на лошадях встречали проезжавшего через их город Черняева, захватившего незадолго до того кокандские крепости Чимкент и Аулие-Ата (ныне – Джамбул)[230]. Русский путешественник Петр Пашино, посетивший Туркестанский край в 1866 году, писал: «Евреи подчиненных нам городов более всех довольны сделанными нами успехами. В прежнее время они ходили пешком… теперь же права их сравнены с туземцами, и они зажили припеваючи»[231]. Верещагин, описывая угнетенное положение евреев под исламскими законами, отмечал перемены, произошедшие с ними к 1868 году: «Поэтому-то евреи держат себя так гордо в Ташкенте, они катаются там на великолепных лошадях, носят халаты ярких цветов и, встречая русского господина, отдают ему честь»[232].
Кауфман[233] в 1867 году, после своего назначения на должность туркестанского генерал-губернатора, писал военному министру Милютину из завоеванного Ташкента, что только евреи и индусы выразили приверженность русской власти[234]. Преданность бухарских евреев Ташкента новой власти отметил и первый его русский начальник Евсей Россицкий, когда в 1868 году передавал их письмо в областное правление. В этом письме, написанном по-русски, выражались признательность за освобождение из-под мусульманской власти и надежда, что русская власть будет защищать бухарских евреев от мусульман. Кроме того, оно содержало поздравление со взятием Самарканда и пожелание: «…дабы была в подданстве, но и сама Бухара, где бы могло наше еврейское общество… вырваться из покорения магометанского»[235].
Константин Петрович фон Кауфман (Туркестанский альбом: часть историческая / Сост. М.А. Терентьев. Ташкент, 1871–1872. Л. 4). Библиотека Конгресса США, Отдел эстампов и фотографий, LC-DIG-ppmsca-12261
Неудивительно, что нелояльность бухарских евреев к «покорению магометанскому» вызывала гнев со стороны мусульманского окружения. Наиболее ярко он проявился во время Самаркандского восстания. Вступив в Самарканд 13 мая 1868 года, Кауфман обратился к судьям, аксакалам (старейшинам) и купцам (видимо, как к мусульманам, так и к евреям) с приветственными словами, в которых поблагодарил жителей за радушный прием. Отвечая на вопрос, будут ли русские власти препятствовать свободному исповеданию разных религий в Средней Азии, Кауфман сказал собравшимся жителям Самарканда: «Каждый молится так, как его научили отцы; русский закон в это дело не вмешивается. Христианин, магометанин, еврей, индус – все молятся по-своему. Молитесь и вы…»[236] А во время произошедшей тогда же встречи Кауфмана с делегацией бухарских евреев Самарканда генерал-губернатор, получив осторожный отрицательный ответ на свой вопрос, не обижают ли их мусульмане, все-таки счел нужным заверить еврейских представителей:
Я надеюсь, что этого уже более никогда не будет. В землях, подвластных Великому Государю, каждый может найти себе защиту и покровительство. Мусульмане должны тоже признать, что все люди равны перед законом. Живите мирно и спокойно, занимайтесь каждый своим делом, а закон Государев всегда защитит вас в случае надобности…[237]
Эти высказывания Кауфмана, свидетельствующие о его толерантности, были восприняты группой насильственно обращенных в ислам евреев – чала как разрешение вернуться в иудаизм. В семейных преданиях сохранился рассказ о том, как Кауфман разрешил чала вернуться в иудаизм, добавив при этом, что религия – личное дело каждого[238]. После этого несколько десятков семей чала в Самарканде сразу открыто вернулись в иудаизм[239].
Дружеское отношение к местным евреям проявлялось и среди солдат. Очевидец завоевания Самарканда подполковник Мартин Лыко так описывал взаимоотношения солдат и евреев:
Более всех радовались нашему вступлению в Самарканд евреи и иранцы. Евреи толпами приходили в цитадель, чтобы выразить чувства радости и благодарности. Солдаты, со своей стороны, особенно дружелюбно относились к евреям. Встретив еврея, солдатик останавливал его и, взяв за веревку, которой они обыкновенно подпоясываются в бухарских владениях, говорил: «Что же ты не снимешь веревки, не надеваешь ичигов [высокие сапоги из мягкой кожи] и нового халата, ведь теперь ты это можешь». Когда кто-либо из русских проезжал по еврейскому кварталу, евреи выходили на улицу, и приветствиям не было конца. Дети их встречали приезжих русских: «здравствуй»[240].
Почти те же призывы со стороны солдат приводит и Константин Абаза, дореволюционный исследователь завоевания края. При этом он добавляет, что, услышав их, еврей умилялся от восторга, чувствовал, что он такой же человек, как и другие[241]. Бухарские евреи, ободренные Кауфманом и русскими солдатами, сразу стали носить кушаки вместо ненавистных веревок и ездить в городе верхом на лошадях. Между тем, поверив в проявленную самаркандцами покорность, командующий русской армией Кауфман покинул с основными силами город, оставив во внутренней старой крепости лишь небольшой гарнизон. Бухарские евреи после ухода основных русских войск начали опасаться погромов в наказание за свою радость по случаю захвата города и за нарушение ограничительных законов[242]. Эти опасения еще более усилились после известий о подходе к Самарканду войска шахрисябзского бека. 26–28 мая бухарские евреи приходили к коменданту крепости и докладывали, что мусульмане собираются поднять антирусское восстание и заодно вырезать их, однако он и другие русские офицеры лишь посмеивались над этими страхами[243]. Исследователь русского завоевания Средней Азии и очевидец восстания Михаил Терентьев сообщал, что наконец один из офицеров, полковник Петрушевский, с целью опровергнуть слухи выехал в город, на базар, с пятью казаками: «Сарты, конечно, кланялись… Петрушевскому этого было совершенно достаточно: он своими глазами убедился, что жиды врут!»[244]
В тот же день все лавки в городе были заперты, а прибывшие в него отряды каракалпаков начали грабеж еврейского квартала[245]. Несколько десятков бухарских евреев вечером 31 мая с женами и детьми бежали к крепости, чтобы сообщить о восстании и попросить об убежище. Получив отказ коменданта, барона Фридриха фон Штемпеля, они не разошлись, а заночевали с наружной стороны крепостной стены. В два последующих дня их пришло еще больше. К этому времени уже никто среди русских солдат не сомневался, что мусульмане готовят восстание. Лишь тогда бухарским евреям было разрешено войти в крепость[246]. Вероятно, они взяли с собой запасы воды и продовольствия, которыми поделились с солдатами[247]. Согласно свидетельствам очевидцев, укрывшиеся в крепости бухарские евреи участвовали в инженерных работах, а также накануне штурма снабжали русских солдат питьевой водой, нехватка которой ощущалась в цитадели. Во время штурма крепости, начавшегося на следующий день, часть бухарских евреев помогали перемещать пушки, подносили воду для их охлаждения и снаряды к ним, ухаживали за ранеными, участвовали в иных вспомогательных работах[248].
Но другие очевидцы этих событий, русские офицеры Василий Верещагин, Михаил Терентьев и Константин Черкасов, не заметили этого участия, а иронически описали, как бухарские евреи, укрывшись во время осады во дворце Тимура, плакали и стонали от страха. Черкасов, сообщая об инженерных работах в крепости при ее осаде, отметил, что к ним из-за отсутствия рабочих были привлечены джигиты и арестанты, а евреев вообще не упомянул[249]. Однако не исключено, что он посчитал их тоже джигитами.
Большинство бухарских евреев не успели укрыться в крепости и за проявленную лояльность к русским оказались жертвами погрома, который сопровождался человеческими жертвами. Среди погибших был шойхет (буквально «резник», т. е. ритуальный забойщик скота) и раввин Барух (по прозвищу Гулям) сын Фузайла, а среди раненых – калантар (буквально «наибольший», т. е. староста) бухарских евреев Моше Калантаров, спасший свою жизнь ценой перехода в ислам[250].
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу
216
Леванда В. Полный хронологический сборник законов и положений, касающихся евреев. С. 1032–1046.
217
ЦГА Узбекистана. Ф. 17. Оп. 1. Д. 9687. Л. 1.
218
Цитату см. в: Гессен Ю. Иностранные евреи по русскому законодательству. Среднеазиатские евреи. С. 207; Тажер Ш. Докладная записка. Л. 8–8 об. Об этом постановлении см. также: Мыш М. Дополнение к третьему изданию «Руководства к русским законам о евреях». СПб.: Типо-литография М.П. Фроловой, 1904. С. 19. Оренбургский генерал-губернатор, в ведении которого тогда находилась Туркестанская область, сразу же начал принимать бухарских евреев в русское подданство. См.: ЦГА Узбекистана. Ф. 1. Оп. 20. Д. 7164. Л. 1.
О запрещении принимать иностранных евреев в русское подданство см. законы 1824 и 1827 годов: Леванда В. Полный хронологический сборник законов и положений, касающихся евреев. С. 126–129, 212–213. В 1835 году было сделано исключение для приглашаемых правительством раввинов и медиков, для лиц, имевших капитал не менее 50 тыс. рублей и желавших создать фабрики и заводы в России, а также для приглашенных евреями-фабрикантами мастеров мануфактурного производства, проработавших пять лет на фабриках и имевших рекомендации от хозяев и местной администрации о мастерстве и беспорочном поведении. См.: Там же. С. 376.
219
Эта докладная записка была составлена Абрамом (Авраамом) Кирснером для члена Третьей Государственной думы Лазаря Нисселовича (депутата в 1907–1911 годах) по случаю предстоявшего в январе 1910 года выселения евреев – подданных Бухары из Туркестанского края. См.: ЦГИА Украины. Ф. 1004. Оп. 1. Д. 100. Л. 14 об. Записка не содержит подписи автора. Но на ее авторство указывает статья Кирснера «Бухарские евреи», повторяющая слово в слово ряд абзацев данной записки, и в частности цитату, приведенную здесь. См.: Кирснер А. Бухарские евреи // Туркестанский курьер. 31.01.1909. № 25. С. 2. Показания Дезерцева о Бухаре упоминаются в списке сведений, собранных Генсом. См.: Ханыков Я. Пояснительная записка к карте Аральского моря и Хивинского ханства с их окрестностями // Записки Императорского Русского географического общества. 1851. Кн. 5. С. 343.
220
Фельдман Д., Петерс Д. О награждении медалями российских евреев в первой половине XIX века // Вестник Еврейского университета. 2001. Т. 23. № 5. С. 38.
221
Гакармель. 22.12.1861. № 25. С. 100.
222
Казенный турист. Заметки о Бухаре и ее торговле с Россией // Современник. 1864. Т. 105. С. 105–106.
223
ЦГА Узбекистана. Ф. 1. Оп. 29. Д. 20. Л. 8 – 10. Обстоятельность собранных и систематизированных сведений свидетельствует об опытности Кандина как информатора. Подробнее о Кандине см.: Kaganovitch A. The Legal and Political Situation of the Chalah – the Muslim Jews in Russian Turkestan. P. 67–68. Об обвинении Кандина в связях с Россией, конфискации имущества, смертном приговоре и обращении его в ислам см.: Эшель М. 1965 (С. 40–42), иврит (см. раздел Библиография). В газете «Москва», в № 35 за 1868 год, сообщалось о бухарском еврее, у которого, ввиду обвинения его в заговоре против эмира, конфисковали имущество, – скорее всего, речь шла о Кандине. Цитату из этой газеты см. в работе: Амитин-Шапиро З. Очерк правового быта среднеазиатских евреев. С. 131. По слухам, записанным Авраамом Цви Идельзоном, Кандин получил огромную сумму денег за то, что сообщал сведения о Бухаре русским. Узнав об этом, эмир намеревался было казнить Кандина, но тот спас себе жизнь ценой перехода в ислам. См.: Идельзон А.Ц. 1920 (С. 324), иврит (см. раздел Библиография). По сведениям Верещагина, причиной для помещения Кандина в зиндан стало упомянутое бегство евреев из Бухары в Самарканд. Оттуда Кандин – а Верещагин называет его одним из еврейских аксакалов – был освобожден после уплаты нескольких тысяч золотых. См.: Верещагин В. От Оренбурга до Ташкента. С. 37. О конфискации имущества у Кандина и его обращении в ислам см.: Lansdell H.Russian Central Asia. Vol. 2. P. 109; Сухарева О. Бухара. С. 176. Лансделл получил эти сведения в 1882 году от бухарских евреев, которые рассказывали о данных событиях как о произошедших пятнадцатью годами ранее. В отличие от этого источника сведения о Кандине Сухаревой и Эшеля, очевидно, были собраны путем опросов в середине XX века. Их информаторы в своих рассказах сместили описываемые события к середине XIX века.
224
Арендаренко Г. Бухара и Афганистан в начале 80-х годов XIX века. М.: Наука, 1974. С. 76.
225
Ховен Н. фон дер. О среднеазиатских евреях // Будущность. 30.06.1900. № 26. С. 530.
226
ЦГА Узбекистана. Ф. 1. Оп. 4. Д. 1539а. Л. 10 об.; Азадаев Ф. Ташкент во второй половине XIX века. Ташкент: Академия наук Узбекской ССР, 1959. С. 85. О том, что ограничительные законы против евреев были отменены в Ташкенте, «дабы иметь в них агентов-шпионов и извлечь [их] из влияния туземцев», писал также в своих докладах № 68 и 146 чиновник по особым поручениям Антон Радзиевский. См.: ЦГА Узбекистана. Ф. 1. Оп. 17. Д. 978. Л. 110; Там же. Д. 799. Л. 32; Там же. Ф. 19. Оп. 1. Д. 29459. Л. 63–64. Михаил Григорьевич Черняев (1828–1898), участник Крымской и Кавказской военных кампаний, в звании полковника завоевал в 1863–1865 годах ряд среднеазиатских городов и крепостей, и в том числе Ташкент. В 1865–1866 годах Черняев занимал должность военного губернатора Сырдарьинской области. В 1866-м за самовольный захват Ташкента был отозван из Средней Азии, вследствие чего ушел в отставку. В 1875 году издавал газету «Русский мир», а в 1876-м – участвовал добровольцем в сербском восстании против Турции. В 1882–1884 годах занимал должность туркестанского генерал-губернатора, после чего был назначен членом Военного совета. См.: Некролог: М.Г. Черняев // Исторический вестник. 1898. № 10. Т. 74. С. 401–407; Павлов Н. История Туркестана. Ташкент: Изд-во Н.Г. Павлова, 1910. С. 227.
227
Русская земля: Самарканд // Беседа. 1872. Кн. 7. Ч. 2. С. 64.
228
Варшавский дневник. 12.02.1882. № 33. С. 3.
229
ЦГА Узбекистана. Ф. 1. Оп. 17. Д. 978. Л. 110. Несмотря на это, когда в 1914 году Даматов попросил о принятии его в русское подданство, его особые заслуги были оставлены без внимания. См.: Там же. Л. 106, 120.
230
Мозер Г. В странах Средней Азии // Русская старина. 1888. № 1. С. 141–167. С. 151.
231
Пашино П. Туркестанский край в 1866 году. СПб.: Типография Тиблена и К°, 1868. С. 68.
232
Верещагин В. От Оренбурга до Ташкента, 1867–1868 // Всемирный путешественник. 1874. № 5. С. 38.
233
Константин Петрович фон Кауфман (1818–1882), потомственный дворянин австрийского происхождения, с 1843 года служил на Кавказе, где участвовал в его завоевании. В 1861–1865 годах – директор канцелярии военного министра. С апреля 1865-го – генерал-губернатор Северо-Западного края, где продолжал русификаторскую политику своего предшественника, Михаила Муравьева. Эти действия вызвали недовольство польской партии, симпатизировавший которой граф Петр Шувалов добился в октябре 1866 года отставки Кауфмана. 14 июля 1867-го тот был назначен на должность туркестанского генерал-губернатора. Занимая эту должность до самой смерти (хотя в последние два года он был тяжело болен и считался генерал-губернатором лишь формально), Кауфман почти полностью завершил завоевание Средней Азии. См.: Кауфман К.П. // Русский биографический словарь / Ред. А. Половцов. СПб.: Императорское Русское историческое общество, 1896–1918; репринт: New York: Ross, 1962. Т. 8. С. 562–564; Остроумов Н. К.П. Кауфман, устроитель Туркестанского края. Ташкент: Типо-литография торгового дома «Ф. и Г. Братья Каменские», 1899; Павлов Н. История Туркестана. С. 129–133, 277; Семенов А. Покоритель и устроитель Туркестанского края, генерал-адъютант К.П. фон-Кауфман I // Кауфманский сборник. М.: Типография Товарищества И.Н. Кушнерёв и К°, 1910. С. I–LXXXIV; Толбухов Е.М. Устроитель Туркестанского края // Исторический вестник. 1913. Т. 132. № 6. С. 891–909; Федоров Г. Моя служба в Туркестанском крае // Там же. Т. 133. № 9. С. 804.
234
Попов А. Из истории завоевания Средней Азии // Исторические записки. 1940. № 9. С. 216. О поддержке индусами русских во время завоевания Ташкента см. также: История народов Узбекистана / Ред. С. Бахрушин, В. Непомнин и В. Шишкин. Ташкент: АН УзССР, 1947. Т. 2. С. 234.
235
ЦГА Узбекистана. Ф. 17. Оп. 1. Д. 9708. Л. 1–2 об.
236
Маев Н. От Ташкента до Катта-Кургана // Русский вестник. 1870. Т. 86. № 3. С. 267–268.
237
Маев Н. От Ташкента до Катта-Кургана // Русский вестник. 1870. Т. 86. № 3. С. 268.
238
Эшель М. 1965 (С. 78–79), иврит (см. раздел Библиография).
239
Хотя Самуил Вайсенберг (1867–1928), один из первых исследователей еврейской антропологии и восточного еврейства в России, писал, что в иудаизм вернулись пятьдесят семей чала, такая цифра представляется завышенной. См.: Weissenberg S. Die zentralasiatischen Juden in anthropologischer Beziehung. Wien: Anthropologische Ges., 1913. S. 260.
240
Лыко М. Очерк военных действий 1868 года в Зарявшанской долине // Военный сборник. 1871. Т. 79. № 5. С. 222. О том, что при вступлении русских войск в Самарканд их приветствовали евреи и иранцы, а мусульмане, напротив, выражали недоброжелательство, см.: Воронец Е. Воспоминания о защите Самарканда в 1868 году // Там же. 1872. Т. 87. № 9. С. 32.
241
Абаза К.Завоевание Туркестана: Рассказы из военной истории, очерки природы, быта и нравов туземцев в общедоступном изложении. СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1902. С. 148.
242
Терентьев М. История завоевания Средней Азии. СПб.: Типо-литография В.В. Комарова, 1906. Т. 1. С. 431.
243
Лыко М. Очерк военных действий 1868 года в Зарявшанской долине // Военный сборник. 1871. Т. 79. № 7. С. 19–20; Кольдевин Н. Битвы русских с бухарцами в 1868 году и геройская оборона города Самарканда. СПб.: Общественная польза, 1878. С. 24; Симонова (Хохрякова) Л. Рассказы очевидцев о завоевании русскими Самарканда и о семидневном сидении // Исторический вестник. 1904. № 9. Т. 97. С. 863; Терентьев М. История завоевания Средней Азии. Т. 1. С. 431; Семенов А. Покоритель и устроитель Туркестанского края. С. XXII; Ашеров Ш.Х. 1977 (С. 10), иврит (см. раздел Библиография).
244
Терентьев М. История завоевания Средней Азии. Т. 1. С. 435–436.
245
Там же. С. 437.
246
Черкасов К. Защита Самарканда в 1868 году // Военный сборник. 1870. № 9. С. 40–41; Кольдевин Н. Битвы русских с бухарцами в 1868 году. С. 24; Верещагин В. Самарканд в 1868 году // Русская старина. 1888. Сентябрь. Кн. 59. С. 631; Симонова (Хохрякова) Л. Рассказы о взятии Самарканда // Туркестанский литературный сборник в пользу прокаженных. СПб.: Типография А. Бенке, 1900. С. 140–141, 146, 149; Терентьев М. История завоевания Средней Азии. Т. 1. С. 457. Согласно сведениям, собранным старостой ашкеназской синагоги Самарканда, в крепости укрылись около семидесяти бухарских евреев, среди них были четыре женщины. См.: Письмо Абе Леву за 1913 г. // АЦИДВЕИ. Фонд Абы Лева. Оно не подписано, но скорее всего его послал староста этой синагоги Михаил Левинский, выпустивший в советские годы статью о бухарских евреях (см.: Левинский М. К истории евреев в Средней Азии).
247
О снабжении осажденных питьевой водой и провиантом через подземные ходы см.: Кантор Л. Туземные евреи в Узбекистане. Ташкент; Самарканд: Госиздат УзССР, 1929. С. 7. О снабжении осажденных хлебом, мясом, водой и табаком см.: ЦГА Узбекистана. Ф. 1. Оп. 17. Д. 789. Л. 24. Это прошение бухарские евреи подали с целью добиться льготных прав туземцев. Поэтому авторы попытались в нем подчеркнуть свои заслуги перед русской властью. Видимо, и Кантор получил свои сведения от бухарских евреев, но уже в более позднее время, когда они успели приобрести легендарный характер.
248
Симонова (Хохрякова) Л. Рассказы о взятии Самарканда. С. 142, 151; Она же. Рассказы очевидцев о завоевании русскими Самарканда. С. 864; Письмо Абе Леву за 1913 г. // АЦИДВЕИ. Фонд Абы Лева. См. об этом также: Амитин-Шапиро З. Очерк правового быта среднеазиатских евреев. С. 17; Эшель М. 1965 (С. 65, 74–75), иврит (см. раздел Библиография); Занд М. Завоевание. 1988 (С. 68), иврит (см. раздел Библиография).
249
Верещагин В. Самарканд в 1868 году. С. 631; Терентьев М. История завоевания Средней Азии. Т. 1. С. 463; Черкасов К. Защита Самарканда в 1868 году. С. 50, 54. Джигит – буквально «молодой» (с турецкого языка), на Кавказе означает «отважный и искусный наездник». В Туркестане джигитами назывались проводники, посыльные, разведчики, а также солдаты вспомогательных отрядов, набранные из местного нехристианского населения.
250
ЦГИА Украины. Ф. 1004. Оп. 1. Д. 100. Л. 2 об.; ЦГА Узбекистана. Ф. 1. Оп. 17. Д. 789. Л. 24; Радлов В. Из Сибири. С. 554; Хорошхин А. Сборник статей, касающихся до Туркестанского края. С. 215; Вайсенберг С. Евреи в Туркестане // Еврейская старина. 1912. Т. 5. С. 395–396; Письмо Абе Леву за 1913 г. // АЦИДВЕИ. Фонд Абы Лева. Семейная устная традиция бухарских евреев подтверждает вышесказанное: Пилосов-Пинхасов Э. 1970 (С. 122), иврит (см. раздел Библиография); Ашеров Ш.Х. 1977 (С. 11), иврит (см. раздел Библиография); Фузайлов Г. Родословная Фузайловых [машинописный текст]. Ташкент: [б. и.], 1987. С. 38–39. Последняя работа, написанная Гавриэлом Фузайловым и содержащая воспоминания его прабабушки Ривки (1844 года рождения), была любезно предоставлена мне Гиорой Фузайловым. На должность калантара совершеннолетние мужчины кулуарно выбирали одного из представителей высших слоев. К самаркандским калантарам я еще вернусь позже.