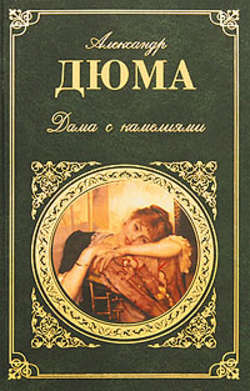Читать книгу Дама с камелиями - Александр Дюма-сын - Страница 4
III
Оглавление16-го, в час дня, я отправился на улицу д’Антэн.
Уже у входной двери были слышны голоса.
Квартира была полна любопытных.
Там были все звезды пышного порока, с любопытством изучаемые несколькими светскими дамами, которые снова воспользовались аукционом, чтобы присмотреться вблизи к женщинам, с которыми они никогда не имели бы случая встретиться и легким радостям которых они, может быть, втайне завидовали.
Герцогиня Ф… стояла бок о бок с мадемуазель А…, одним из печальнейших явлений в среде наших куртизанок; маркиза Т… колебалась, купить или не купить ей вещь, на которую надбавляла цену мадам Д…, самая роскошная и самая известная кокотка; герцог И…, о котором в Мадриде говорили, что он разоряется в Париже, а в Париже, что он разоряется в Мадриде, и который все-таки не мог даже истратить своего годового дохода, разговаривал с мадам М…, одной из наших самых умных рассказчиц, которая время от времени печатала рассказы за своей подписью, и обменивался дружескими взглядами с мадам N…, прекрасной завсегдатайкой Елисейских полей, почти всегда одетой в розовое или голубое; ее карета запряжена парой рослых черных лошадей, которых Тони продал ей за десять тысяч франков и… которые она ему заплатила; наконец мадемуазель Р…, которая при помощи только своего таланта достигала вдвойне против того, чего достигают светские женщины при помощи своего приданого, и втройне против того, что другие достигают при помощи любви, – пришла, несмотря на холод, сделать несколько покупок, и на нее было устремлено немало взоров.
Мы могли бы назвать инициалы еще многих людей, собравшихся в этих гостиных и очень удивленных этой общей встречей; но мы боимся утомить читателя.
Скажем только, что всем было безумно весело и среди тех, кто находился здесь, многие знали покойную, но, по-видимому, не вспоминали ее.
Смеялись громко; оценщики кричали до потери голоса; торговцы, которые заполнили все скамьи перед главным столом, тщетно старались восстановить тишину, чтобы в тишине обделать свои дела. Никогда не было такого шумного и пестрого собрания.
Я медленно шел среди этого неуместного шума, помня, что рядом, в соседней комнате, испустила дух несчастная женщина, мебель которой продавали за долги.
Целью моего прихода были не столько покупки, сколько наблюдение, и поэтому я наблюдал физиономии поставщиков, которые устроили аукцион; каждый раз, когда какой-нибудь предмет неожиданно повышался в цене, их лица расплывались в улыбке.
«Честные» люди, которые строили свои расчеты на проституировании этой женщины, которые заработали на ней сто на сто, которые преследовали своими векселями последние минуты ее жизни и которые после ее смерти пришли пожать плоды своих «честных» расчетов и получить проценты за свой постыдный кредит.
Насколько правы были древние, установив одного общего бога для торговцев и для воров!
Платья, шали, драгоценности продавались с неслыханной быстротой. Эти вещи мне были ни к чему, и я ждал.
Вдруг я услышал крик:
– Книга в прекрасном переплете, с золотым обрезом, под заглавием: «Манон Леско». На первой странице есть надпись. Десять франков.
– Двенадцать, – сказал кто-то после продолжительного молчания.
– Пятнадцать, – сказал я. Почему? Не знаю. Вероятно, из-за надписи.
– Пятнадцать, – повторил оценщик.
– Тридцать, – повторил первый покупатель таким голосом, как будто он не допустит надбавки.
Дело принимало характер борьбы.
– Тридцать пять! – крикнул я в тон.
– Сорок.
– Пятьдесят.
– Шестьдесят.
– Сто.
Признаюсь, если бы я хотел произвести сильное впечатление, я вполне достиг этого; кругом воцарилось глубокое молчание, и все смотрели на меня, желая разглядеть, кто так добивается этой книги.
По-видимому, тон, которым я произнес последнее слово, подействовал на моего противника: он предпочел прекратить этот торг, в результате которого я должен был заплатить за книжку в десять раз дороже ее стоимости, и, поклонившись, сказал очень любезно, но, к сожалению, немного поздно:
– Я уступаю.
Возражений не последовало, и книга осталась за мной.
Опасаясь, что самолюбие снова заведет меня далеко и нанесет ущерб моему кошельку, я записал свое имя и ушел. Должно быть, свидетелям этой сцены я подал повод к бесконечным догадкам; их интересовало, вероятно, почему я заплатил сто франков за книгу, которую я мог повсюду купить за десять, самое большое за пятнадцать.
Через час я послал за своей покупкой. На первой странице было написано чернилами, красивым почерком, несколько слов от того, кто подарил эту книгу. Надпись была коротенькая:
Маргарите
Смиренная Манон
А внизу подпись: Арман Дюваль.
Что значило это слово: смиренная?
В чем признавала Манон, по мнению Армана Дюваля, превосходство Маргариты: в разврате или в благородстве души?
Второе толкование казалось более правдоподобным; первое было бы только наглой откровенностью, которую не приняла бы Маргарита, несмотря на свое мнение о себе.
Я вышел из дому и вернулся к этой книге только вечером перед сном.
Я знаю очень хорошо трогательную историю Манон Леско; но всякий раз, когда мне попадается в руки эта книга, меня влечет к ней, я открываю ее и в сотый раз переживаю жизнь героини аббата Прево. Эта героиня так правдоподобна, что мне кажется, будто я ее знаю. На этот раз постоянная параллель между Маргаритой и Манон придавала чтению неожиданную привлекательность, и к моей снисходительности присоединялась жалость, почти любовь к бедной девушке, по наследству от которой я получил этот томик. Манон умерла в пустыне, это верно, но на руках человека, который любил ее всеми силами души, который вырыл для мертвой могилу, оросил ее своими слезами и схоронил в ней свое сердце; а Маргарита, такая же грешница, как Манон, может быть, так же раскаявшаяся, как и та, умерла среди пышной роскоши, если верить тому, что я видел, на ложе своего прошлого, но и среди пустыни сердца, более бесплодной, более необъятной, более безжалостной, чем та, в которой была погребена Манон.
И действительно, как я узнал от своих друзей, осведомленных о последних днях ее жизни, Маргарита не слышала у своего изголовья искреннего утешения в продолжение двух месяцев, пока тянулась ее медленная и мучительная агония.
Потом от Манон и Маргариты моя мысль перенеслась к тем, которых я знал и которые с песнями шли по дороге к смерти, почти всегда одинаково печальной.
Бедные создания! Если нельзя их любить, то можно пожалеть. Вы жалеете слепого, который никогда не видел дневного света, глухого, который никогда не слышал голосов природы, немого, который никогда не мог передать голос своей души, и из чувства стыда не хотите пожалеть слепоту сердца, глухоту души и немоту совести, которые делают безумной несчастную страдалицу и, помимо ее воли, неспособной видеть хорошее, слышать Господа Бога и говорить на чистом языке любви и веры.
Гюго написал Марион Делорм, Мюссе – Бернеретту, Александр Дюма – Фернанду, мыслители и поэты всех времен приносили куртизанкам дары своего сострадания, а иногда какой-нибудь великий человек реабилитировал их своей любовью и даже своим именем… Я так настаиваю на этом потому, что среди тех, кто будет меня читать, многие, может быть, уже готовы бросить мою книгу, так как боятся найти в ней апологию порока и проституции, а возраст автора только усиливает это опасение. Пусть те, кто так думает, сознают свою ошибку, и пусть они продолжают чтение, если их удерживал только этот страх.
Я убежден в одном: для женщины, которую не научили добру, Бог открывает два пути, которые приводят ее к нему: это – путь страдания и путь любви. Они трудны; те, кто на него вступает, натирают себе до крови ноги, раздирают руки, но в то же время оставляют украшения порока на придорожных колючках и подходят к цели в той наготе, которой не стыдятся перед Создателем.
Те, кто встречает этих путниц, должны их поддержать и сказать всем, что они их встретили, ибо, сказав об этом, они другим указывают путь.
Речь идет не просто о том, чтобы поставить при входе в жизнь два столба с надписью на одном: «Путь к добру» и с предупреждением на другом: «Путь ко злу», и сказать тем, кто является: «Выбирайте!»
Нужно указывать тем, кто уклонился в сторону дорог, которые ведут со второго пути на первый, и нужно постараться, чтобы начало этого пути не было очень тяжелым и не казалось непреодолимым.
Зачем нам быть такими строгими? Зачем нам упорно держаться взглядов того общества, которое представляется жестоким, чтобы его считали сильным, и отталкивать души, истекающие кровью от ран, через которые, как дурная кровь, испаряется зло их прошлого, и ожидающие дружеской руки, которая их перевяжет и даст их сердцу исцеление?
Я обращаюсь к моему поколению, к тем, которые, подобно мне, понимают, что человечество за последние пятнадцать лет сделало один из наиболее смелых скачков. Вера вновь возрождается, к нам возвращается уважение к справедливости, и если мир не стал совершенным, то он стал, по крайней мере, лучше. Усилия всех умных людей клонятся к одной цели, и все сильные воли заражены одним желанием: будем добры, будем молоды, будем правдивы! Зло есть суета, будем гордиться добром, а главное, не будем приходить в отчаяние. Не будем презирать женщину, которая не называется ни матерью, ни сестрой, ни дочерью, ни женой. Не будем ограничивать уважение семьей, снисхождение эгоизмом. Небо больше радуется одному раскаявшемуся грешнику, чем ста праведникам, которые никогда не согрешили; постараемся же порадовать небо. Оно воздаст нам сторицей. Будем раздавать на своем пути милостыню нашего прощения тем, которых погубили земные страсти, и как говорят добрые старые женщины, когда они предлагают лекарство собственного изобретения, если это и не поможет, то, во всяком случае, не повредит.
Конечно, может показаться очень смелым с моей стороны ожидать таких великих результатов от моего труда; но я принадлежу к тем, кто верит, что все в малом. Малый ребенок заключает в себе большого человека; мозг тесен, но в нем сокрыта мысль; глаз – одна точка, но он обнимает пространства.