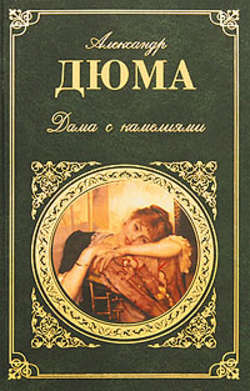Читать книгу Дама с камелиями - Александр Дюма-сын - Страница 5
IV
ОглавлениеЧерез два дня аукцион был совершенно закончен. Он дал сто пятьдесят тысяч франков.
Кредиторы разделили между собой две трети, а семья, состоявшая из сестры и племянника, унаследовала остальное.
Сестра сделала большие глаза, когда нотариус известил ее, что ей досталось наследство в пятьдесят тысяч франков.
Шесть-семь лет эта девушка не видела сестры, которая однажды исчезла и с тех пор не давала о себе знать.
Она поспешно приехала в Париж, и велико было удивление тех, кто знал Маргариту, когда они увидели в лице ее единственной наследницы толстую и красивую деревенскую девушку, ни разу до тех пор не выезжавшую из деревни.
Ее будущее было обеспечено одним взмахом пера, и она даже не знала, из какого источника пришло к ней это неожиданное благополучие.
Она снова вернулась, как мне рассказывали, к себе в деревню, очень опечаленная смертью сестры, однако компенсированная помещением своих денег на проценты.
Все эти подробности живо интересовали Париж – очаг скандалов, но мало-помалу стали забываться; и я тоже начал было забывать свою долю участия в этих событиях, как вдруг новое происшествие раскрыло передо мной всю жизнь Маргариты и показало мне такие трогательные подробности, что у меня явилось желание написать этот рассказ, и я его написал.
Уже три или четыре дня, как квартира была освобождена от проданной мебели и сдавалась внаем, когда однажды утром ко мне пришел посетитель.
Мой слуга, или, вернее, мой швейцар, который мне прислуживал, вышел на звонок, принес мне карточку и сказал, что господин желает меня видеть.
Я взглянул на карточку и прочел там два слова: Арман Дюваль.
Я старался вспомнить, где я уже видел это имя, и вспомнил первый листок в книге «Манон Леско».
Что нужно от меня человеку, который подарил эту книгу Маргарите? Я велел немедленно просить посетителя.
Я увидел белокурого молодого человека, высокого роста, бледного, одетого в дорожный костюм, который он, по-видимому, не снимал в течение нескольких дней и даже не почистил по приезде в Париж, хотя он и был в пыли.
Господин Дюваль был очень взволнован и не старался даже скрыть свое волнение; он обратился ко мне со слезами на глазах и с дрожью в голосе:
– Пожалуйста, простите мой визит и мой костюм; но ведь молодые люди могут не стесняться друг перед другом; а мне так хотелось повидать вас сегодня, что я даже не заезжал в гостиницу, куда отправил свои сундуки, и прибежал, боясь в другое время не застать вас дома.
Я попросил господина Дюваля сесть около огня, что он и сделал; вынул из кармана носовой платок и закрыл им на мгновение лицо.
– Вам трудно понять, – начал он с печальным вздохом, – что хочет незнакомый посетитель в такой час, в таком виде и вдобавок плачущий. Я пришел вас просить об очень большом одолжении.
– Говорите, я весь к вашим услугам.
– Вы присутствовали на аукционе у Маргариты Готье?
При этих словах волнение молодого человека, которое он сумел немного подавить, снова прорвалось и он принужден был закрыть лицо руками.
– Вам смешно смотреть на меня, – добавил он, – еще раз прошу у вас прощения; будьте уверены, что я никогда не забуду терпения, с которым вы меня слушаете.
– Если та услуга, которую вы потребуете от меня, – возразил я, – может хоть немного успокоить ваше горе, скажите мне скорее, чем я могу быть вам полезен, и я буду счастлив помочь вам.
Горе господина Дюваля было мне симпатично, и я хотел быть ему приятным.
Тогда он сказал:
– Вы купили какую-то вещь на аукционе у Маргариты?
– Да, книгу.
– «Манон Леско»?
– Да.
– Эта книга у вас?
– Она у меня в спальне.
Арман Дюваль при этом сообщении, казалось, успокоился и поблагодарил меня, как будто я оказал ему услугу тем, что сохранил эту книгу.
Я поднялся, прошел в свою комнату, взял книгу и передал ему.
– Да, это та самая, – сказал он, посмотрев на надпись на первой странице и перелистав книгу, – да, это она.
И две больших слезы скатились по его щекам.
– Скажите, пожалуйста, – спросил он, подняв на меня глаза и даже не стараясь скрывать своих слез, – вы очень дорожите этой книгой?
– Почему вы так думаете?
– Потому, что я хочу вас просить уступить ее мне.
– Простите мне, пожалуйста, мое любопытство, – сказал я, – это вы подарили эту книгу Маргарите Готье?
– Да, я.
– Эта книга принадлежит вам, возьмите ее, я счастлив, что могу вернуть ее вам.
– Но, – возразил господин Дюваль со смущением, – я верну вам, по крайней мере, то, что вы за нее заплатили.
– Позвольте мне подарить вам ее. Цена одной книжки на подобном аукционе пустяшная, и я уж не помню, сколько заплатил за нее.
– Вы заплатили за нее сто франков.
– Да, верно, – сказал я в свою очередь со смущением. – Но откуда вы это знаете?
– Это очень просто; я надеялся приехать в Париж вовремя, чтобы поспеть к аукциону у Маргариты, а приехал только сегодня утром. Я хотел обязательно иметь какую-нибудь вещь после нее и побежал к оценщику, чтобы получить разрешение посмотреть список проданных вещей и имена покупателей. Я увидел, что эту книжку купили вы, и решил просить вас уступить ее мне, хотя сумма, которую вы заплатили за нее, заставила меня опасаться, что у вас самого связано какое-нибудь воспоминание с этой книгой.
Чувствовалось в этих словах Армана опасение, что я знал Маргариту так же, как и он.
Я поспешил его разуверить.
– Я знал мадемуазель Готье только по виду, – сказал я. – Ее смерть произвела на меня такое впечатление, какое производит на всякого молодого человека смерть красивой женщины, которую он имел удовольствие встречать. Я хотел купить что-нибудь у нее на аукционе и почему-то погнался за этой книжкой, сам не знаю почему, может быть, из желания позлить одного господина, который хотел ее приобрести во что бы то ни стало и боролся со мной за ее обладание. Повторяю вам, книга эта к вашим услугам, и я очень вас прошу взять ее у меня, но не на тех условиях, на каких я ее получил от оценщика; пускай она будет залогом нашего дальнейшего знакомства и дружеских отношений.
– Хорошо, – сказал Арман, протянув мне руку, пожав мою, – я принимаю и буду вам признателен всю мою жизнь.
Мне очень хотелось расспросить Армана о Маргарите, потому что надпись на книге, путешествие молодого человека, его желание обладать этой книгой подстрекали мое любопытство; но я боялся своими расспросами навести его на мысль, что я отказался от денег, чтобы иметь право вмешиваться в его личную жизнь.
Казалось, он угадал мое желание и сказал мне:
– Вы читали эту книгу?
– Да, всю.
– Что вы подумали о моей надписи?
– Я решил, что бедная девушка, которой вы подарили эту книгу, по вашему мнению, выделялась из общего уровня; мне не хотелось видеть в этих строках пошлого комплимента.
– Вы были правы. Эта девушка была ангел. Вот прочтите это письмо.
Он протянул мне листок бумаги, который, по-видимому, не раз побывал у него в руках.
Я развернул его и вот что прочел:
«Милый Арман, я получила ваше письмо и благодарю Создателя за вашу доброту. Да, мой друг, я больна, больна такой болезнью, которая не прощает; но ваше участие очень облегчает мои страдания. Я не проживу так долго, чтобы испытать счастье от пожатия руки, которая написала полученное мною хорошее письмо, слова которого должны были бы меня исцелить, если бы что-нибудь могло еще меня исцелить. Я вас не увижу, так как смерть близка, а сотни верст отделяют вас от меня. Бедный друг! Ваша прежняя Маргарита очень изменилась, и, пожалуй, лучше не видеть ее больше совсем, чем увидеть ее такой, какой она стала. Вы спрашиваете меня, прощаю ли я вас; ах, от всего сердца, друг мой, так как зло, которое вы мне причинили, было только доказательством вашей любви ко мне. Вот уже месяц, как я лежу в постели, и так ценю ваше уважение, что веду дневник с того момента, как мы расстались, и буду вести его до того момента, когда силы мне изменят.
Если я вам действительно дорога, Арман, сходите по возвращении к Жюли Дюпре. Она вам передаст этот дневник. Вы там найдете объяснение и оправдание всему, что произошло между нами. Жюли очень хорошо ко мне относится; мы часто с ней говорили о вас. Она была у меня, когда пришло ваше письмо, и мы плакали, читая его.
Еще раньше, когда я не имела от вас никаких известий, я просила ее передать вам эти бумаги по вашем возвращении во Францию. Не благодарите меня за это. Эти постоянные воспоминания о единственных радостных моментах моей жизни мне доставляют большую радость, и если вы должны найти в этих листках прощение прошлому, то я в них нахожу постоянное успокоение.
Мне хотелось бы оставить вам что-нибудь на память обо мне, но все мои вещи опечатаны, и у меня ничего нет.
Вы представляете себе, мой друг? Я умираю, и из своей спальни слышу в соседней комнате шаги сторожа, которого мои кредиторы поставили у меня, чтобы мои друзья ничего не унесли и чтобы у меня ничего не осталось в том случае, если я не умру. Нужно надеяться, что они дождутся конца и тогда уж назначат аукцион.
Ах, как безжалостны люди! Или нет, я ошибаюсь, это Бог справедлив и непреклонен.
Итак, мой друг, вы явитесь на аукцион и купите что-нибудь; если же я спрячу для вас какую-нибудь безделушку и они узнают об этом, они способны привлечь вас к ответственности за присвоение чужой собственности.
Я покидаю печальную жизнь.
Велика была бы милость Божья, если бы мне позволено было увидеть вас перед смертью! Но по всему видно, что я должна вам сказать: прости, мой друг! Простите, что я кончаю письмо, но мои исцелители истощают меня кровопусканиями, и рука моя отказывается служить.
Маргарита Готье».
И действительно, последние строчки с трудом можно было прочесть.
Я вернул письмо Арману, который, наверное, повторял его на память, в то время как я читал по бумаге; взяв его у меня, он сказал:
– Кто бы мог подумать, что это писала содержанка!
И, растроганный своими воспоминаниями, он рассматривал некоторое время почерк письма, а потом поднес его к губам.
– Как вспомню, – снова начал он, – что она умерла, не повидавшись со мной, и что я ее не увижу больше никогда; как вспомню, что она сделала для меня то, чего не сделала бы сестра, – я не могу себе простить, что дал ей умереть так, как она умерла. Умерла! Умерла, думая обо мне, произнося мое имя, бедная милая Маргарита!
И Арман, дав волю своим воспоминаниям и слезам, протянул мне руку и продолжал:
– Наверное, всякий посмеялся бы надо мной, увидев мои горькие слезы о такой покойной; ведь никто не знает, как я заставил страдать эту женщину, как я был жесток, как она была добра и покорна. Я думал, что имею право ее прощать, а теперь я считаю себя недостойным ее прощения. Ах, я отдал бы десять лет жизни, чтобы поплакать один час у ее ног.
Очень тяжело утешать в горе, которого не знаешь, а меж тем я испытывал такое горячее участие к этому молодому человеку, он с такой откровенностью сделал меня поверенным своего горя, что я решил, что мои слова не будут для него безразличны, и сказал ему:
– Разве у вас нет родных, друзей? Попытайтесь повидаться с ними, и они утешат вас, а я могу вам только сочувствовать.
– Да, это верно, – сказал он, поднявшись и сделав несколько шагов по комнате, – я вам надоел. Простите, я не подумал, что мое горе вас очень мало трогает и что я пристаю к вам с тем, что вас не может и не должно ничуть интересовать.
– Вы неверно меня поняли, я весь к вашим услугам, мне только жаль, что я не в состоянии успокоить вас. Если мое общество и общество моих друзей могут вас развлечь, если я хоть чем-нибудь могу быть вам полезен, пожалуйста, не сомневайтесь в моей полной готовности.
– Пожалуйста, простите меня, – сказал он, – горе преувеличивает все ощущения. Позвольте мне остаться у вас еще несколько минут, чтобы вытереть глаза; я не хочу, чтобы уличные зеваки рассматривали с любопытством большого парня, который плачет. Вы меня осчастливили этой книгой; я никогда не сумею вас отблагодарить за нее.
– Считайте меня вашим другом, – сказал я Арману, – и откройте мне причины вашего горя. Большое утешение – рассказать о своих страданиях.
– Вы правы; но сегодня мне слишком хочется плакать, и я не сумею вам связно рассказать. Как-нибудь на днях я вам расскажу все подробно, и вы сами увидите, должен ли я оплакивать бедную девушку. А теперь, – добавил он, в последний раз вытерев глаза и посмотрев на себя в зеркало, – скажите, вы не очень на меня сердитесь и позволите мне снова навестить вас?
У него было очень милое и приятное выражение лица, а я с трудом удержался, чтобы не обнять его.
Что касается Армана, то глаза его опять подернулись слезами; он увидел, что я это заметил, и отвернулся от меня.
– Мужайтесь, – сказал я.
– Прощайте, – сказал он.
И, сделав над собой неимоверное усилие, чтобы не заплакать, он выбежал от меня.
Я отодвинул занавес у окна и видел, как он садился в экипаж, который ждал его у дверей; и, усевшись, он сейчас же залился слезами и закрыл лицо платком.