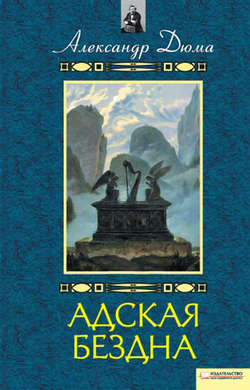Читать книгу Адская бездна. Бог располагает - Александр Дюма - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Адская Бездна
XXV
Победа благодаря внезапности
ОглавлениеКогда Самуил в тот же час, что и неделю назад, подъехал к дому священника, калитка была заперта. Он позвонил. Появились горничная и мальчик-слуга.
Парнишка взялся позаботиться о лошади гостя, а горничная повела его в столовую.
Стол был накрыт, но всего на два прибора.
Самуил остановился на пороге, слегка озадаченный.
Служанка попросила его немного подождать и вышла из комнаты.
Через мгновение дверь отворилась. Самуил сделал было шаг навстречу вошедшему, но вдруг отшатнулся в изумлении.
Перед ним был барон фон Гермелинфельд.
Отец Юлиуса смотрел на него очень серьезно, и его лицо было сурово. Ему было около пятидесяти. Он был высокий, осанистый, крутолобый, с рано поседевшими от неустанных занятий волосами, с глубокими проницательными глазами, красивым лицом, гордым, строгим и немного печальным.
Он приблизился к Самуилу, не сумевшему скрыть, что он несколько сбит с толку, и заговорил первым:
– Вы не ожидали меня увидеть, особенно здесь, не так ли, сударь?
– В самом деле, – признал тот.
– Присядьте же. Почтенный пастор Шрайбер на сегодня предлагает вам свое гостеприимство. Он не хотел, чтобы вы, приехав, застали дом запертым. Вот я и остался, чтобы вам открыть.
– Прошу прощения, – промолвил Самуил, – но я что-то не пойму…
– Ну да, вам же, верно, кажется, будто я говорю загадками? – продолжал барон фон Гермелинфельд. – Но если вам любопытно узнать разгадку, садитесь к столу. Позавтракаем вместе, и я вам все объясню.
– Согласен, – с поклоном отвечал Самуил.
И он храбро уселся за стол напротив барона.
Наступило молчание: эти двое, такие разные, сойдясь лицом к лицу, казалось, наблюдали друг за другом.
И снова барон начал первым:
– А случилось вот что… Угощайтесь, прошу вас. Как вам, может быть, известно, в прошлый понедельник утром Юлиус послал мне письмо. Я получил его во Франкфурте. Это письмо было полно любви и тревоги.
– Не сомневаюсь в этом, – сказал Самуил.
– В нем Юлиус писал мне, что он повстречал Христиану и что она стала для него едва ли не с первой минуты его первой любовью, его мечтой, всей его жизнью. Он говорил о ее грации и чистоте, о ее отце, о сладостной жизни, которую он хотел бы вести в этой тихой долине, в лоне этого мирного семейства.
Итак, вот в чем состояла его просьба. Он опасался, что я, богатый, знатный и знаменитый, никогда не соглашусь благословить его любовь к бедной девушке, безродной и безвестной. Как я понимаю, именно вы внушили ему такую боязнь?
– Так и было, – кивнул Самуил.
– Однако Юлиус прибавил еще, что, в случае если я отвечу на его просьбу отказом, будь то по причине его молодости или ее бедности, он ни за что не поступит так, как посоветовали ему вы: он не соблазнит Христиану. Такой совет, как и сам советчик, внушил ему ужас.
Нет, писал он мне, он никогда бы не смог злоупотребить благородной доверчивостью девушки и ее отца, обесчестить Христиану, купив счастливое мгновение для себя ценой целой жизни, полной для нее стыда и слез. Если бы я не внял его мольбе, он бы удалился с разбитым сердцем. Он писал, что в этом случае откроет Христиане свое имя, сообщит об отцовском запрете и покинет ее навсегда.
– Все это действительно весьма похвально, – заметил Самуил. – Будьте любезны, сударь, передайте мне вон тот кусочек окорока.
– Когда мне принесли от Юлиуса это письмо, столь исполненное любви, а также сыновней преданности, – продолжал барон фон Гермелинфельд, – прошло уже четыре дня с тех пор, как я получил ваше послание, Самуил. Четвертый день я обдумывал ваши дерзкие и нечестивые слова, спрашивая себя, что мне делать, как противостоять вашему разлагающему влиянию, этой мрачной беззаконной власти вашей над нежной, чуткой душой Юлиуса. Когда же пришло письмо от него, мне хватило десяти минут, чтобы принять решение.
О нас, мыслителях и людях науки, – продолжал он, помолчав, – обычно думают, что мы не созданы для решительных действий, ибо неспособны всем существом отдаться пустой суете так называемых людей дела, у которых только и есть, что этот восхитительный довод, чтобы считать себя практиками. Однако рассуждать таким образом – это как упрекать птиц в том, что они не умеют ходить, поскольку у них есть крылья. Но один взмах крыла стоит тысячи шагов. Когда мы начинаем действовать, мы в один день совершаем то, на что другим потребовалось бы десятилетие.
– Я всегда был того же мнения, сударь, – отвечал Самуил, – так что вы мне не сообщили ничего нового.
– Посланный ждал ответа, – вновь заговорил барон, – он собирался вернуться в Ландек назавтра еще до полудня. Я сказал ему, что ответа не будет, и просил отложить его возвращение домой до завтрашнего вечера.
Он отказывался, ведь Юлиус обещал ему сто флоринов.
Я дал ему двести, и он уступил.
Уладив дела с посланцем, я, не теряя ни минуты, поспешил к пастору Готфриду. Это один из светочей реформатской церкви и мой друг детства. Я спросил его, известен ли ему пастор Шрайбер.
Оказалось, что тот входит в число его близких друзей.
Готфрид описал мне пастора как простого, скромного, бескорыстного человека с золотым сердцем, сказал, что его глаза постоянно обращены к небесам в созерцании Бога и двух ангелов, до срока отлетевших от него, а на земле его заботят лишь страдания ближних, которые он старается по мере сил облегчить.
О Христиане Готфрид сказал лишь одно: это дочь, достойная своего отца.
На обратном пути я проезжал через Зейле; там на почтовой станции я заказал лошадей и в ту же ночь поскакал в Ландек.
Добравшись туда во вторник утром, я отправил почтовую карету в Неккарштейнах и пешком обошел весь Ландек, заходя в каждый дом и всех расспрашивая о господине Шрайбере и его дочери.
Все без исключения повторяли то же, что говорил мне Готфрид. Никогда еще столь единодушный хор благословений не возносился от земли к Господу, прославляя пред его ликом двух смертных. В глазах этих добрых людей пастор и его дочка были живыми, во плоти, посланцами благого Провидения. Для этой деревни эти двое стали чем-то большим, чем жизнь, – они стали ее душой.
Ах, Самуил! Что вы там ни говорите, а добродетель не бывает тщетной. Когда тебя любят, в этом есть великая отрада.
– А подчас и немалая выгода, – вставил Самуил.
– Ну, а я повернул вспять и возвратился к дому священника.
В этой самой зале, где мы с вами сейчас сидим, я нашел Юлиуса, Христиану и пастора.
Пораженный до глубины души, Юлиус воскликнул:
«Отец!»
«Барон фон Гермелинфельд!» – вскричал пастор, не менее удивленный.
«Да, сударь, барон фон Гермелинфельд, который имеет честь просить у вас для своего сына Юлиуса руки вашей Дочери Христианы».
Господин Шрайбер остолбенел, силясь понять происходящее и опасаясь, что все это ему снится или что рассудок покидает его.
Христиана с плачем бросилась ему на шею. Сам не зная отчего, он тоже прослезился и улыбался сквозь слезы.
Самуил прервал собеседника.
– Весьма умилительная сцена, – сказал он, – но будет разумнее, если вы ее пропустите. Как вам известно, я не особенно сентиментален.
Он, Самуил, уже давно оправился от неожиданности. Появление барона и его первые слова дали ему понять, что тот покушается разрушить его власть над душой Юлиуса, и этот характер, созданный для борьбы, тотчас дал себя знать. Все его высокомерное ироническое хладнокровие вернулось к нему, и он, слушая рассказ барона, преспокойно ел и пил, притом с самым довольным видом, не упуская ни кусочка, ни глоточка.
Барон фон Гермелинфельд промолвил:
– Я сокращу свое повествование. Собственно, оно и так идет к концу.
Весь день я провел с этой счастливой влюбленной четой. Бедные дети! Я был сполна вознагражден их радостью. Они так меня благодарили, словно я был вправе разрушить то, что сам Бог так хорошо устроил. Вы меня плохо знали, Самуил, вы считали меня слишком мелочным. Правда, вам случалось меня видеть в те минуты, когда я делал уступки косным и несправедливым предрассудкам света. Но знайте: потворствуя этим предрассудкам внешне, я всегда старался исправлять их последствия. Однако будем же чистосердечны и справедливы: не слишком ли часто сама действительность подтверждает правоту общества?
– Я понял ваш деликатный намек, сударь, – с горечью произнес Самуил. – Продолжайте.
И барон продолжил:
– Да с чего бы, по-вашему, я стал противиться этому браку? Потому что Христиана бедна? Но богатства Юлиуса хватит на двоих. Да и на четверых, если учитывать наследство моего брата. Или из-за того, что она не знатного происхождения? А кем был я сам двадцать лет назад?..
Однако вернусь к фактам. В среду я отправился во Франкфурт, в четверг – вернулся в Ландек, заручившись всеми мыслимыми разрешениями властей гражданских и церковных и прихватив с собой моего друга пастора Готфрида.
Вчера утром в Ландекской часовне Готфрид обвенчал Юлиуса и Христиану.
Не сердитесь на Юлиуса, что он не пригласил вас на свадьбу. Это я помешал ему известить вас.
Через час после бракосочетания Юлиус и Христиана отправились в свадебное путешествие – оно продлится целый год. Они побывают в Греции и на Востоке и вернутся домой через Италию.
Господин Шрайбер не мог решиться на столь внезапную разлуку с дочерью. Он вместе с Лотарио, двигаясь неспешно и давая отдых своим старым костям, проводит молодых до Вены. Там они распрощаются, и он вернется в свою долину, предоставив их южному солнцу и любви. Итак, Самуил, что вы на это скажете?
– Я скажу, – произнес Самуил, вставая из-за стола, – что вы очень ловко умыкнули у меня Юлиуса. Похищение удалось на славу. Маневрируя в борьбе со мной, вам пришлось впасть в бескорыстное великодушие, и вы очень мужественно извлекли выгоду из своего безвыходного положения. Все это было сделано с размахом, и надо признать, что первую ставку я проиграл. Но я еще возьму реванш!
Он позвонил. Вошла горничная.
– Велите седлать мою лошадь, – сказал он. – Я уезжаю.
Барон усмехнулся:
– Вы что же, ринетесь в погоню?
– Вот еще! – пожал плечами Самуил. – Просто подожду их возвращения. У меня, благодарение Богу, есть в этом мире чем заняться, и я не собираюсь посвящать всю мою жизнь единственной цели, к тому же банальной – всего-навсего выиграть пари или нечто в этом роде. Проявлять чрезмерную прыть в подобных обстоятельствах – удел посредственности. Но всему свое время. Настал ваш час, ваш и Христианы, и вы им воспользовались, чтобы взять надо мной верх. Потом наступит моя очередь, и уж я сумею расквитаться с вами. Ваша игра сыграна, теперь начинается моя.
– Почему же сыграна? Я еще не кончил, – возразил барон. – Этот год, когда их здесь не будет, я намерен употребить на то, чтобы осуществить мечту Юлиуса. Я и здесь задержался не только затем, чтобы составить вам компанию. На крайний случай я отправил вам письмо: вы должны были получить его перед тем, как отправиться в путь, что избавило бы вас от утомительной надобности ехать в такую даль, чтобы нанести визит здешним слугам. Я же ожидаю здесь архитектора из Франкфурта. Я хочу приобрести и в течение этого года заново отстроить Эбербахский замок, чтобы Юлиус, вернувшись, нашел здесь на месте покинутых руин свою овеществленную грезу, словно по волшебству поднявшуюся из земли и венчающую собой горную вершину. Я сделаю так, чтобы он ни в чем не терпел недостатка: любовь, наполняющая его сердце, и благоденствие, царящее в его жизни, должны создать безупречную гармонию. Его счастье – вот мое оружие против вас.
– Так вам угодно, чтобы моим оружием против вас стало его несчастье? – усмехнулся Самуил. – Но должен предупредить вас, нежный родитель, что все ваши усилия окажутся напрасны. Вам не вырвать у меня Юлиуса. Он мною восхищается, а я – я его люблю. Да, разрази меня Господь! – крикнул он, заметив протестующий жест барона. – Я люблю его так, как только душа гордая и сильная может любить предавшуюся ей покорную и слабую душу. Слишком долго мы были рядом: дух вашего сына отмечен моим тавром, оно отпечаталось так глубоко, что вам его не стереть. Вам не изменить ни его натуру, ни мою. Не в вашей власти сделать его энергичным или меня щепетильным. Вы хотите перестроить для него замок? В добрый час, но попробуйте переделать его характер! Его шаткий, нерешительный нрав нуждается в твердой, грубой руке, которая бы поддерживала его и направляла. Неужели такое дитя, как Христиана, в состоянии оказать ему эту услугу? Ему и года не потребуется, чтобы соскучиться и понять, как я ему необходим. Мчаться за ним вдогонку? Чего ради? Он сам ко мне прибежит.
– Послушайте, Самуил, – сказал барон, – вы меня знаете. Вам известно, что человек моего склада не отступает, когда ему бросают вызов, и не склонен отказываться от борьбы. Да будет вам известно: то, чего Христиана не могла открыть ни своему отцу, ни Юлиусу, она рассказала мне, ибо сразу поняла, что смело может это сделать. Да, сударь, она передала мне ваши чудовищные угрозы, и само собой разумеется, что в ее единоборстве с вами я буду ее секундантом.
– Что ж, тем лучше! – сказал Самуил. – Это придаст делу особую приятность.
– Нет, Самуил, вы же клевещете на себя, несомненно клевещете! – воскликнул барон. – Не может быть, чтобы вы были настолько выше угрызений совести или, если вам угодно, предрассудков! Я дал себе слово сделать все, что в моих силах, чтобы покончить с вами дело миром. Самуил, вы хотите примирения? Возможно, я и вправду кое в чем тоже виноват перед вами. Я готов разорвать ваше письмо и забыть ваши оскорбительные речи. Вы честолюбивы и горды – что ж, я достаточно богат и могуществен, чтобы помочь вам, не повредив будущности Юлиуса. Как вам известно, в Нью-Йорке у меня есть старший брат, который там вел торговлю и нажил состояние, по солидности и блеску раза в три-четыре превосходящее мое собственное. Он бездетен, и все его имущество перейдет к Юлиусу. Завещание уже составлено, копия хранится у меня. Следовательно, я могу располагать моим имуществом без всяких опасений. Самуил, поклянитесь отказаться от ваших гнусных замыслов и просите за это все, что угодно.
– Чечевичную похлебку? – язвительно усмехнулся Самуил. – Вы плохо выбрали момент, чтобы предложить мне эту сделку. После сытного обеда господина Шрайбера она как-то не соблазняет. Я уже не голоден и потому склонен оставить мои права первородства при себе.
За окном столовой послышалось конское ржание. Тут же появилась служанка, сообщившая Самуилу, что конь оседлан.
– Прощайте, господин барон, – сказал Самуил. – Моя свобода мне дороже ваших богатств. Я никому не позволю повесить мне жернов на шею, будь он хоть из чистого золота. Неужели мне следует убеждать вас, что я из тех честолюбцев, что охотно питаются сухой коркой, из тех гордецов, кого не смущают заплаты на их одежде?
– Еще два слова! – остановил его барон. – Разве вы не заметили, что до сих пор все ваши злобные намерения обращались против вас же? Главной причиной, побудившей меня отдать Юлиуса Христиане, было ваше письмо, где вы угрожали отнять его у меня. Не кто иной, как вы сами, поженили этих детей: ваша ненависть породила их любовь, а ваши угрозы сделали их счастливыми.
– Что ж, в таком случае вы должны желать, чтобы я продолжал их ненавидеть и грозить им, коль скоро все, что я предпринимаю им во вред, оборачивается к их пользе. И ваше желание будет исполнено с избытком! Ах, значит, моя ненависть служит их удаче! В таком случае вы смело можете на меня рассчитывать: уж я потружусь им на благо! Будьте покойны, я сполна представлю вам это свидетельство моей преданности. Так я стану вашим сыном на свой манер. Я не прощаюсь, сударь. Мы встретимся с вами через год, а может статься, что и раньше.
И, отвесив поклон, Самуил вышел с высоко поднятой головой. Его горящий взгляд был полон угрозы.
Барон фон Гермелинфельд задумчиво склонил голову.
– Быть может, наша борьба нечестива, – пробормотал он. – Он не прав в своем бунте против целого света. А прав ли я, объединившись с целым светом против него? И не затем ли неисповедимая воля Провидения послала нас друг другу, чтобы жестоко покарать обоих?