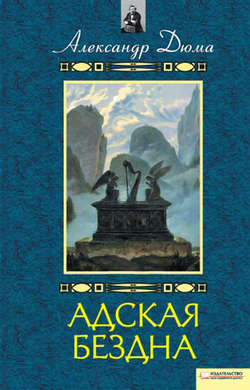Читать книгу Адская бездна. Бог располагает - Александр Дюма - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Адская Бездна
XXIX
Неприятель проник в крепость
ОглавлениеБыла ли то интуиция, предчувствие или смутный страх, что порой овладевает женщинами? Бог весть! Только Христиане было как-то не по себе в этом прекрасном, величественном замке. Ей казалось, будто над ней нависла неведомая угроза, опасность, подстерегающая на каждом шагу. Кому она грозила – ей самой, Юлиусу? Какая разница? Было так жаль их мирного уединения, полного любви и ласки, на счастливом, благоуханном острове, где заботы и страсти человеческие ни на единый миг не смущали их покоя! А между тем, казалось, в их жизни и теперь ничто не изменилось. Муж по-прежнему любит ее, она все так же боготворит свое дитя. Чего еще желать? И чего бояться?
Через несколько дней барон фон Гермелинфельд должен был возвратиться в Берлин. Туда его призывал долг: пора было приниматься за прерванные труды. Но прежде чем покинуть замок, он с глазу на глаз сказал Христиане:
– Мое дорогое дитя, это правда, что я уже тринадцать месяцев как не видел Самуила Гельба. Но также верно и то, что все эти месяцы он не выходил у меня из головы. С самого вашего отъезда не было дня, чтобы он не вставал перед моим мысленным взором. Это наваждение упорно не желает меня покинуть, кажется даже, что его дерзкий вызов, брошенный тебе, отпечатывается в моей памяти все глубже. Тем не менее пока будем смотреть на его поведение лишь как на безрассудную браваду. Но, Христиана, если все обернется иначе, если твой враг рискнет явиться сюда, вспомни, моя девочка, что в этой борьбе я твой союзник и секундант. Позови меня, и я тотчас примчусь.
Это обещание успокоило Христиану лишь отчасти. Ей хотелось расспросить Гретхен, узнать, приходилось ли ей еще сталкиваться с Самуилом после той встречи среди развалин. Но Гретхен отвечала на ее вопросы уклончиво, с какой-то странной рассеянностью.
Надобно сказать, что маленькая пастушка, хотя по-прежнему была ей предана, показалась Христиане, пожалуй, еще более дикой, чем раньше. После смерти г-на Шрайбера и отъезда Христианы у Гретхен не осталось точек соприкосновения с человеческим обществом, и она целиком погрузилась в свои беседы с растениями и животными. Заманить ее в замок оказалось еще труднее, чем убедить поселиться в доме священника. Даже собственную хижину она невзлюбила с тех пор, как ее обновили: теперь она казалась ей слишком красивой, чересчур похожей на деревенские домики, к тому же Гретхен не нравилось, что ее построили так близко к замку. Она забиралась со своим стадом высоко в горы и иногда по нескольку дней не возвращалась к себе.
Так и вышло, что пришлось Христиане самой разбираться в своих дурных предчувствиях, вдвойне мучительных из-за того, что они были столь темны и необъяснимы. Может ли быть что-нибудь в мире страшнее неизвестности? И, что особенно горько для любящего сердца, Юлиус был последним, кому она могла бы открыть свои опасения.
Ей уже и без того было достаточно больно видеть, какой протест вызвала у Юлиуса просьба отца относительно Самуила, с каким явным сожалением он подчинился. Значит, ему мало ее любви? Она не является для него всем, что есть в мире дорогого? И то отвращение, которое она с первых дней их знакомства выказывала Самуилу, стало быть, вовсе не передалось Юлиусу и он продолжает питать к нему прежнюю слабость?
Как бы то ни было, Христиана вскоре поддалась утешительным внушениям любви, которая, как известно, очень изобретательна там, где требуется подыскать оправдание любимому. Молодая женщина решила, что упорство Юлиуса объясняется естественной досадой взрослого мужчины, обиженного подозрением в безволии, в жалкой зависимости от постороннего влияния. Ну, конечно же, все дело в этом: не Самуила Гельба он отстаивал, а свое собственное самолюбие! Христиана кончила тем, что признала справедливость его слов и поступков, сказав себе, что на его месте она и сама бы действовала так же.
Впрочем, у нее было одно неизменное утешение, одно прибежище – ее дитя. У колыбели Вильгельма Христиана забывала обо всем. Невозможно вообразить зрелище более чарующее и вместе с тем трогательное, чем эта девочка-мать с младенцем на руках, этот нераспустившийся бутон близ цветка, едва успевшего раскрыть свои лепестки. Когда с ней не было ее ребенка, Христиану трудно было принять за замужнюю женщину: она сохранила всю робкую грацию и простодушие девичества. Но когда она смотрела на свое дитя, свою радость, своего младенца Иисуса, когда она его нежила и качала на руках, вся мудрость и прелесть материнства сияла в ее чертах.
Ее сильно печалило, что она не может сама кормить грудью своего обожаемого первенца. Врачи в один голос твердили, что она слишком юна и хрупка, и Юлиус верил их настояниям. О, если бы они доверились ее материнской интуиции, у нее нашлось бы довольно сил! Она погибала от зависти к кормилице, впрочем, не переставая окружать ее самой усердной заботой, но втайне ненавидя эту женщину, словно свою соперницу. Почему ее, Христиану, принуждают уступать этой чужой, дородной и тупой крестьянке самое сладостное из своих материнских прав? С какой стати эта посторонняя кормит своим молоком ее дитя? Когда кормилица давала Вильгельму грудь, Христиана устремляла на нее взгляд, полный ревнивой печали: она согласилась бы пожертвовать годами жизни, только бы самой стать для этих драгоценных уст источником живительной влаги.
Но уж, по крайней мере за исключением молока, эта юная шестнадцатилетняя мать отдавала сыну все: свои дни и ночи, свою душу и сердце, все свое существо. Она сама купала его, пеленала, укачивала, пела ему и укладывала его спать. К ее безмерной радости, он начал уже узнавать ее, узнавать раньше, чем кормилицу, которой мать уступала его только на время кормления. Она требовала, чтобы его колыбель постоянно находилась подле ее ложа. Кровать кормилицы каждый вечер ставили там же, в спальне Христианы. Таким образом, мать могла без помех ловить каждое движение, каждый вскрик, каждое дыхание своего малыша.
Когда случалось, что молодая женщина вспоминала о Самуиле, держа ребенка на руках, она чувствовала себя защищенной его близостью. Неведомая угроза, исходившая от этой мрачной и враждебной фигуры, таяла в ее мозгу, отступая перед лучистым светом материнской любви, как ночные потемки рассеиваются при восходе солнца.
Однажды рано утром Юлиус, войдя к Христиане, нашел ее сидящей у колыбели, которую она мягко покачивала легким равномерным движением руки. Она приложила палец к губам, призывая его хранить молчание, подставила лоб для поцелуя и указала ему на низенький стул рядом с ее собственным. Потом она вполголоса объяснила:
– Я в тревоге. Вильгельм дурно спал, плакал, ворочался. Не пойму, что с ним. Он только сейчас уснул. Говори тихо.
– Ты изводишь себя по пустякам, – отвечал Юлиус. – Наш херувимчик сегодня выглядит еще розовее и свежее, чем всегда.
– Да, ты так думаешь? Возможно, ты и прав. Но когда дело касается его, я становлюсь ужасно боязливой.
Ласковым движением левой руки она привлекла к себе мужа и положила его голову к себе на плечо, но правой все же продолжала качать колыбель.
– Мне так хорошо между вами двумя, моими любимыми! – вздохнула она. – Наверное, если бы пришлось лишиться даже одного из двоих, я бы просто умерла.
– Ах, так, сударыня! – заметил Юлиус, покачивая головой. – Стало быть, вы сами признаете, что я теперь владею не более чем половиной вашего сердца?
– Неблагодарный! Да разве он не частица тебя самого?
– Посмотри, он же уснул, – продолжал Юлиус. – Ну, повернись, взгляни на меня, побудь хоть минуту безраздельно моей!
– О, что ты, нельзя! Он должен все время чувствовать, что его укачивают.
– Что ж, скажи кормилице или Веронике, пусть они его покачают.
– Нет, сударь, ему необходимо чувствовать, что его качаю именно я.
– Вот еще, что за глупости!
– Попробуй и убедись сам.
Она на мгновение оставила колыбель, и Юлиус принялся качать ее сам, бережно, как мог. Но ребенок тотчас проснулся и захныкал.
– Ну, видишь? – воскликнула, торжествуя, Христиана.
Через полчаса, слегка утомленный этим разговором, полным умиленного воркования и ребячества, Юлиус отправился к себе. Но не прошло и двадцати минут, как Христиана вбежала к нему, охваченная беспокойством:
– Ребенок заболел, в этом уже нет сомнения! Он не берет грудь, плачет, кричит так жалобно! И потом, мне кажется, у него начинается лихорадка. Мой милый Юлиус, надо сейчас же послать за врачом!
– Разумеется, – сказал Юлиус, – но, по-моему, в Ландеке нет врача.
– Так пусть лакей сядет на коня и поспешит в Неккарштейнах. За два часа он успеет и добраться туда, и вернуться. Я пойду сама распоряжусь.
Она спустилась, дала слуге все нужные указания, удостоверилась, что он отправился в путь без промедления и поднялась к себе.
Юлиуса она нашла в своей спальне, у колыбели. Младенец продолжал кричать.
– Ему не стало лучше? Боже милостивый! Хоть бы врач скорее приехал!
– Полно, наберемся терпения, – сказал Юлиус.
В это мгновение дверь распахнулась и в спальню быстрыми шагами, казалось не сомневаясь, что здесь его ждут, вошел Самуил Гельб.
– Господин Самуил! – вскрикнула пораженная Христиана.