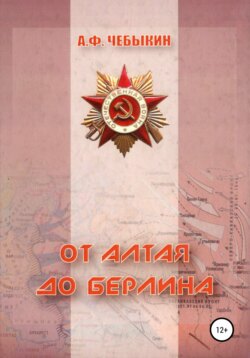Читать книгу От Алтая до Берлина - Александр Федорович Чебыкин - Страница 2
Испытания
Род Чугаевых
ОглавлениеПосле подавления бунта Пугачева в Осу прибыл отряд регулярных войск. Дворянское ополчение не было распущено. Комиссия стала разбираться: «Почему Дворянское собрание не противилось решению коменданта сдать городок Пугачеву?» Екатерина II выразила недоверие Дворянскому собранию. Многие дворяне попали в опалу и вместе с крепостными были выдворены из Осы на необжитые земли по реке Тулве. Под общую гребенку попали и три брата Чугаевых, состоящие на службе со времен Ивана Грозного в гарнизонном отряде охраны и поддержания порядка. Называли этот отряд по-разному: официально -«стрельцы», в народе – «пищальники». Кроме гарнизонной службы занимались земледелием. Указом Екатерины II стрельцы, не принявшие активного участия в обороне, были лишены права проживания в черте городка и подлежали выселению.
Братья Чугаевы, Степан, Иван и Евламлий, покинули свое обжитое вековое подворье. Продавать строения не разрешалось. Усадьбы передавались в пользование новых наемных стрельцов. Охочих до этого людей было предостаточно.
Степан, Иван были семейными и безропотно отправились на новое место жительства. Евлампий – молод, задирист, кряжист, силищи на десятерых. Приехали казаки с Исетской линии, заманивали: «Примем в казачьи станы, приезжайте. Земли и у нас много, рыба в реках не пуганная. Придется только маленько государыне послужить, в походах поучаствовать. Землю сибирскую обживать и сторожить. Хотя жалование невелико, но на прокорм хватит, а остальное сами приработаете». Степан и Иван на посулы не поддались, не понаслышке знали, что такое кочевая жизнь. Отвечали: «Будем обживаться тут».
На новом месте приходилось начинать с нуля. Рубили лес, благо на постройку он отпускался бесплатно. По лесам разбойничали остатки разгромленных пугачевских отрядов. Зимы выдались суровые. Избы пришлось рубить невеликие – большую зимой не натопишь. При топке печи «по-черному» тепло уходило в дымовые окна. Спасали полати, на которых спали вповалку. Позже подъехало еще несколько семей с Осы. Постепенно образовалось небольшое поселение Денисово, названное в честь деда Дениса Чугаева. Земля была плодородной, рядом река Тулва, рыбная и светлая, кругом леса с большими полянами. Земли предостаточно. Постепенно стали обживаться, рубили дома-пятистенки с горницами и светелками. После отмены крепостного права молодежь уезжала в Осу, Сарапул, Пермь.
Евлампию не терпелось себя испытать и силу свою показать. Подался в казаки. После подавления восстания Емельяна Пугачёва яицкие казаки попали в опалу. Река Яик была переименована в Урал, потому и войско стало называться Уральским. Многие казаки были лишены казачьего звания и переведены в крепостные или в государственные. Исетьская и Уральская линии оказались оголенными.
Лошади у Чугаевых были добротные: и на выезд готовы, и в плуг. Евлампию выделили немолодого мерина, серого в черных яблоках. Сказали: «Бери, что есть, а хорошего у степняков отобьёшь». Желающих набралось человек двести под командой урядника Дегтяря. По указанию губернатора отряд направился по Исети до впадения в Тобол. Обосновались в Устье. Благо река на берег после половодья выбрасывала леса предостаточно. Сооружали землянки – знали, что временно. На другой год Евлампий в отбитом табуне выбрал себе отличного жеребца, хотя императрица запретила казакам ходить в грабительские походы, а только охранять земли от набегов головорезов.
Продвигаясь, отряд наскочил на крупное кочевье ордынцев. В одной из юрт нашли русскую семью. Разговорились. Оказалось, эти люди были взяты в полон. Сначала были полурабами, потом прислужничали, а после пугачёвского восстания властелин дал им свободу, опасаясь, что такие, как они, – пленники и бедные ордынцы, могут тоже поднять мятеж, тогда и ему несдобровать. Два сына из ордынской семьи решили идти в казачий отряд.
Евлампию приглянулась их сестрица Ирина, девушка на выданье. Светло-карие глаза излучали тепло и нежность. Стройная, подвижная, веселая. Евлампий стал свататься. Старики отвечали: «Мы рады отдать, а то достанется какому-нибудь толстопузому баю, тогда пропадет с горя девка. Если сыновья идут с вами, то забирайте и нас». На том и порешили.
В Ялутровск возвращались большим обозом. Погрузили и войлочную юрту. Евлампий сначала протестовал, но старики его убедили: «Где первое время жить будем? В твоей землянке? Когда построим дом, как наши предки на Руси, тогда и подарим юрту проезжающим путешественникам, в ней зимой тепло, никакие ветры не продувают, а летом прохладно».
Родился сынишка – назвали Емельяном, в честь Емельяна Пугачева, за ним на свет появились дочурка Татьяна и сын Федос.
Прошло четыре года, из дома Евлампию – никаких весточек. Кругом болота. Летом походы и охрана. Мучали сырость и комарьё. От жаркого солнца только духота. Зимой мороз да ветер. Пошёл к командиру отряда, стал проситься домой на Каму: «Невмоготу тут нам, дети постоянно болеют, старики перед смертью на Волгу хотят посмотреть, Русь повидать». Атаман ответил: «Больному – воля, на то мы казаки,– свободны. Только когда придешь домой – холопом станешь».
– Нет, слышал, что императрица смилостивилась над нами, мы в восстании не участвовали. Из крепостных нас в заводские перевела. Это не мёд, но и не крепостная зависимость.
Через четыре года Евлампий на двух подводах, нагруженных поклажей, прибыл в Денисово. Братья к этому времени обустроились и жили справно. Евлампий начал строиться. Старики смотрели за детьми. Степан и Иван с сыновьями помогали брату в работе. Ирина вскоре овладела топором и рубила в угол не хуже опытного мужика.
Филипп в семье у Евлампия был седьмым, старше его – три брата и три сестры. Рождались почти каждый год. После рождения Филиппа матушка на третий день скончалась. Бабка-повитуха не могла остановить кровотечение. Филипп фактически был предоставлен самому себе. Как вырос – одному Богу известно. В покос некому было пеленки заменить. Так и лежал в люльке до вечера, в мокрой едучей тряпице. Старшие братья и сестры разбегались, как только отец со стариками уходил из дома на работу.
Дети подрастали. Братьям рубили новые дома, женили. Сестер отдавали замуж, в девках не засиживались, были бойкие и работящие. Когда рубили последнему брату избу, Евлампий надорвался, тягаясь с бревнами, и слег…
В восемнадцать лет Филиппу пришлось жениться. Братьям дома строили с печными трубами, у Филиппа отцовская изба топилась по-старинке, по-черному. У соседей и братьев дети рождались каждый год, вперемешку: то девочка, то мальчик, а у Филиппа одни парни – шесть сыновей. Росли шустрые, озорные, непоседливые, драчуны. Носились по селу, как угорелые. В драке наваливались гамузом. Селяне прозвали их крикливыми филинятами.
Сыновья подрастали – женились, один Матвей при отце. Научился читать, увлекся книжками. После отмены крепостного права остался на земле. Женился рано. Имел четырех сыновей и дочь. Два его старших сына погибли в Первую мировую войну. При Матвее остались младшие два сына – Петр и Михаил. Петр рос смышленым, подвижным, темно-карие глаза искрились радостью, черный вихорок торчал на макушке, как гребешок молодого петушка.
В селе открыли церковно-приходскую школу на четыре класса. Хотя и считалась школа народной, но за обучение приходилось приплачивать. Оклады учителей были невелики. Словесность и Закон Божий вел отец Феодосии. Занятия проводились в доме священника, в двух смежных комнатах. Планировалось построить новое здание школы. А пока еле-еле набрали в первый класс пятнадцать человек. Крестьяне не хотели отпускать детей в школу, объясняя, что пахать, сеять, рубить лес грамоты не надо. Некоторых детей приводили в школу силой, с ревом и криком – заниматься не хотели.
Петр со слезами просился у отца в школу. Матвей Филиппович говорил: «Я самоучкой выучился грамоте, рад бы тебя определить в школу, да платить нечем». Петр каждое утро отправлялся к дому о. Феодосия. Смотрел в раскрытое окошко, как ученики рассаживаются за столы. Как только начинались занятия, Петруша подкатывал чурбак к окну, залазил на него, прятался за косяк и вникал в каждое слово учителя. Когда при ответах ученики путались, Петруша не выдерживал и начинал подсказывать. Батюшка замечал за окном настырного паренька, но не прогонял. Прошел месяц, похолодало, окна стали закрывать. Петруша прикладывал ухо к стеклу и слушал. Пытался по жестам и движению губ улавливать смысл рассказываемого. Однажды в начале октября, после дождя, чурбак под мальчиком стал скользить по земле. Петруша потерял равновесие – свалился. При падении лбом разбил стекло. Вышел батюшка, велел зайти в дом. Матушка обмыла лицо от крови и попросила отца Феодосия, чтобы мальчишка посещал школу без доплаты.
Отец Феодоссий сказал: «Сам вижу, что парнишка смышленый, есть тяга к знаниям, пусть передаст отцу, что принимаю в школу как примерного ученика». Как один день пролетели четыре зимы занятий в школе. Знания Петруша впитывал как губка. Каждый раз в базарный день просил у отца с матерью не сладостей купить, а книгу.
В семье у Матвея подрастала и дочка. Девочка была красавицей. Женихи не раз дрались из-за нее на кулаках. Сватам отбою не было. Но выйдя замуж она умерла при родах.
Сыновей Матвей Филиппович решил оставить при себе. Построили дом с расчетом на две большие семьи с двумя парадными крыльцами с противоположных сторон дома, чтобы невестки не перессорились, а сыновья бы вели хозяйство раздельно.
Как только Петруша повзрослел, определили его писарем в волость в Крылово. Писарь из него получился грамотный. Почерк аккуратный, документы составлял умело.
Петруша на игрищах был заводилой. В схватках на кулачках равных ему не было, сказывалась хватка деда Филиппа. Девки на него заглядывались: роста среднего, а в плечах – косая сажень, кареглазый, волосы как смола черные.
Во всех увеселеньях он всегда оказывался рядом с Катей Баландиной. Катюша считалась первой красавицей на селе. Миловидное лицо, веселый нрав. Глаза – как два изумруда. Толстая коса, на висках завиточки. К тому же рукодельница непревзойденная.
Петруша постоянно тормошил отца: «Тятенька, посылай сватов, а то Катюшу отдадут за другого жениха, каждую неделю приезжают свататься».
Отец отвечал: «Посылал я весточки издалека, пробные, но Петр Баландин ответа не дает, хочет выдать за богатого, но и мы, Петр, не бедные, как восемнадцать стукнет – отправимся свататься».
Дважды Матвей Филиппович ездил свататься, но согласия не получил и отказа тоже. Катерина отцу и матери говорила: «В старых девах останусь, а кроме Петра Матвеевича ни за кого не пойду». Ее желание исполнилось как во сне.
Петру Чугаеву исполнилось девятнадцать, скоро идти в армию. Всеобщая повинность – 2 года. Наконец Петр Баландин передал через куму: «Пусть Чугаевы приезжают, но приданого большого не дам, братья молодым обжиться помогут. Пусть Петр учится сам зарабатывать деньги, голова на месте, грамматешка при нем – не пропадут». Свадьбу играли по старинке. Неделю в Денисово гуляли стар и млад.
В 1913 году родился первенец – дочурка. Назвали Александрой.