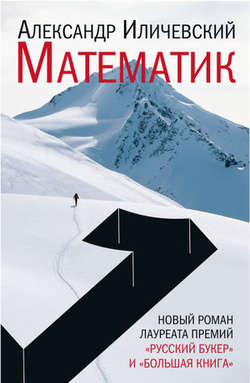Читать книгу Математик - Александр Иличевский - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 3. Отец и дед
ОглавлениеДостаточно ли крови потомка, чтобы воскресить предка? Как будет происходить воскрешение мертвых? Нужны ли для этого кости? Как воскреснут те, чье тело было сожжено? Чьи кости двинутся под землей по направлению к Иерусалиму? Хорошо ли все представляют, какой путь им предстоит?
Максим пил, пил, видел скелеты, шагающие под землей, под Черным морем, под Малой Азией… и вдруг вспомнил, что отыскал могилу деда, погибшего на фронте. И он поразился тому, что мог об этом забыть. А было так.
В начале декабря Макс набрал номер отца.
– Папа?
– Да, сын. Здравствуй.
– Ты можешь говорить, не занят?
– Слушай, я на ланч собрался, давай через час созвонимся?
– О’кей. А я пока пошлю тебе письмецо, изложу суть дела, – сказал Максим и положил трубку.
Он набрал в строке поиска Подольского военного архива «Семен Николаевич Покровский», кликнул, сохранил загрузившийся скан отчета о боевых потерях и послал его отцу.
Через час набрал его номер.
– Папа?
– Привет, сын, привет. Как дела?
– Как сажа бела. Открой почту, посмотри от меня письмо.
– Так… Вижу.
– Это список боевых потерь, куда вписан наш дед. Читай.
– Подожди. Номер записи… Покровский С.Н. 1915 года рождения, Ординский район. Призван в городе Кунгур. Откуда это?!
– Читай, читай.
– …Старший лейтенант 717-го стрелкового полка Речицкой дивизии – 170-й стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта. Погиб в бою 1 января 1944 года. Похоронен в деревне Страковичи Паричского района Гомельской области, Белоруссия… Где ты это нашел?
– Министерство обороны наконец выложило на свой сервер весь Мемориальный архив, все данные о потерях. Включая раненых, пропавших без вести и попавших в плен.
– Не может быть… Почему они раньше этого не сделали?.. Мы с матерью, твоей бабушкой, несколько раз посылали в Подольск запрос, нам отвечали только, что дед погиб под Гомелем…
– Скоро Новый год. Съездим?
– Куда съездим?.. Когда?
– К деду на годовщину. Ты ведь все равно на Рождество никуда не летишь…
– Как раз лечу. В Калифорнию.
– Папа. Вдумайся. Сколько раз бабушка ездила в Белоруссию, чтобы найти могилу деда?
– Три. Два раза я с ней ездил.
– И теперь, когда стало известно, где похоронен дед, тебе безразлично? Хотя бы в память о матери. Она любила деда. Никогда не отмечала Новый год.
– Да…
– Давай слетаем. Расходы беру на себя, – Максим глотнул виски.
– Я подумаю.
– Нечего думать. Вообще-то это чей отец? Твой или мой? Я бы на твою могилку съездил.
– Не хами.
– Я еще кое-что узнал. В списке потерь за тот же день имеется некто Мирошниченко. Он повторил подвиг Матросова. Звание Героя Советского Союза ему присвоили посмертно. Вот откуда началась цепочка моих разысканий. Есть описание боя, в котором погиб дед. Мирошниченко был командиром разведвзвода.
Под Новый год командованию понадобилось улучшить боевые показатели. Мирошниченко послали разведать место будущей операции. Предполагалось освободить часть села Печищи. Надеялись поздравить немцев: захватить врасплох.
31-го числа Мирошниченко у линии обороны на подступах к Печищам обнаружил три дзота. Четвертого он не заметил. Ночью разведрота вместе со взводом автоматчиков, которым командовал дед, отправилась навестить фрицев. Они шли мимо того четвертого дзота, который не заметил разведчик. Заработал пулемет.
Бойцы – кто выжил – залегли, врылись в снег. Приближался рассвет. На свету, с пятнадцати-двадцати метров их перестреляют, как куропаток. Мирошниченко понял, что головы ему и так не сносить. Он рванулся к дзоту. Пулемет был на мгновение закрыт, и этого хватило еще одному смельчаку, чтобы забросать дзот гранатами. Когда дед погиб, неясно. Или в самом начале, или он лежал вместе со всеми несколько часов в заснеженных потемках, ожидая участи.
– Откуда ты все это знаешь?
– Я нашел в одной белорусской газете воспоминания о Мирошниченко.
Мемуары бойца, который бросился на дзот вслед за ним и успел швырнуть гранату. Агитотделы пропагандировали жертвенное геройство в войсках. Список бойцов, которые повторили подвиг Матросова, насчитывал к 1945 году больше двух сотен фамилий. Едем?
– Ты и описание боя нашел, и место захоронения… Удивительно.
– Мир меняется, папа. Мир становится прозрачней, ближе.
– Я подумаю, – буркнул отец и положил трубку.
На следующий день он перезвонил.
В Минск они вылетели вместе. Максу было тяжело. Второй день похмелья оказался самым страшным. К вечеру его затрясло. Перед посадкой он дрожащими пальцами выломал очередную облатку транквилизатора, проглотил – и в аэропорту его, два раза кинув в озноб, отпустило.
Переночевали в Минске. Взять напрокат машину оказалось невозможным.
Толковой карты найти не смогли – таксист посоветовал расспросить о Страковичах и Печищах поближе к месту, в Паричах. «Может, того хутора уже и нету», – добавил он.
Ехали они полдня, на каждой заправке расспрашивали, где находятся Печищи. Или Страковичи. Заночевали в Светлогорске, в Доме колхозника.
За окном было снежно и ясно. Взволнованный отец не знал, чем себя занять. Номер их был убог: две тумбочки, две кровати, провонявший чем-то холодильник, телевизор, по которому шли угрюмые передачи, похожие на трансляции из детства: «Сельский час», «Музыкальный киоск», «Утренняя почта»…
От окна пластами отваливался понизу холодный воздух. За стеклом дымы столбами уходили в небо.
* * *
В 1946 году, когда он пошел в школу, на самом первом уроке учительница попросила:
– Дети, поднимите руки, у кого есть отцы.
Подняли только трое из сорока.
До восьмого класса он страстно им завидовал.
Горечь с возрастом сошла на нет.
Но сейчас это чувство вернулось снова.
Он хорошо помнил этих детей. Два мальчика и девочка.
Он помнил кобуру отца, которую теребил, пока тот держал его на коленях, перед фотографом. Отец: светловолосый человек с упорным подбородком и добрым оживленным взглядом.
* * *
Каждое утро, когда в боковом зрении появлялись зеркальные, солнцезащитные панели Curtis Library, Максим чуть изменял траекторию, начинал поглядывать под ноги, искаженная его фигура, протекая по серебряной кривизне, потихоньку собиралась на плоскости, и он начинал посматривать на себя без отвращения. Теперь он готов. Шагов через пять он встретится взглядом с дедом.
Черты деда резко вдруг проступали в неочевидном преломлении света, случайно выстроенном именно этой парой панелей. Сначала он был ошеломлен, это напомнило ему кадры из страшных фильмов, когда лицо оборотня искажается чужим естеством, но постепенно он привык и подходил к библиотеке с радостным чувством встречи.
– Здравствуй, дед! – кивал он и шагал навстречу раскатывающимся воротам, навстречу стойке с уже очнувшимися под пальцами первых посетителей каталожными терминалами и высокими стульями…
* * *
В Светлогорске Максу не спалось, и он вспоминал свое скудное детство. Рабочие окраины и раздолье заводских складов, горы керамзита и песка, высоченные стопки железобетонных плит, старые маневровые тепловозы, пляшущий под карьерными самосвалами мост через Москву-реку; иссекший спины, щеки, больно лупивший по темечку град, от которого они прятались под мостом; прибрежное речное царство, заросшее ежевикой, повиликой, хрустальные роднички у самого уреза воды с фонтанчиками песчинок…
Не спалось. Он вставал, подходил к окну, прислушивался к дыханию отца, ложился и снова вспоминал взросление. Почему-то оно связывалось с первым осознанием войны – не Великой Отечественной, которая в основном состояла из героики, а не из крови, – а другой, близкой.
Афган стал осязаем, когда друг Андрей позвал его «смотреть цинковые гробы».
Июньский вечер, над дворами носятся стрижи, сверчат в вираже; дети играют в волейбол. Перед подъездом группа парней, красные с черным повязки на рукавах. Они встают в очередь, потихоньку поднимаются по лестнице. В квартире на третьем этаже стоит на табуретках оцинкованный железный ящик с куском стекла в крышке. Женщины держат в пальцах свечи или к животам прислоняют иконы; две бабушки потихоньку плачут и причитают. Мать солдата без слез сидит у гроба.
Летом того же года в пионерлагере «Ландыш» вожатый Копылов учил их жизни. Весной он вернулся из Афганистана, от него Макс впервые услышал слово «духи». Так и представлял, как солдаты воюют с духами.
Копылов рассказывал, что горел в бронемашине, спасся, а обгоревшего друга после госпиталя комиссовали. Макс слушал этого рыжеватого крепыша с интересом, страхом и раскаленным непониманием сути войны, сути страданий и смерти.
Копылов учился в пединституте на преподавателя физкультуры, и что-то глодало его изнутри. По десять раз за ночь он поднимал отряд по тревоге. Максим засыпал в носках, чтобы уложиться в положенные двадцать пять секунд, или «пока спичка догорит». После команды «смирно» любое шевеление в строю поднимало Копылова в воздух, и он содрогал его перед носом Макса приемом маваши гири.
Единственной отрадой в «Ландыше» случилась вожатая Наташа, на сон грядущий пересказавшая им однажды «Венеру Илльскую» (Копылов в этот вечер отвалил в город). А так там было полно комаров, на мостках через болото можно было нарваться на деревенских, огрести по присказке: «А что вы делали у нашего колодца?!» Приемник «Крош», который доставлял Максу репортажи с чемпионата мира по футболу, украли на третий день. Сосед по койке однажды выпил залпом одеколон «Саша» и потом полночи тяжко блевал за окно. Кто-то стянул у Макса простынь, и он спал на голом матрасе. Мяча футбольного от Копылова было не дождаться. К тому же афганец совсем распоясался, день напролет гонял отряд по лесу вприсядку, – и Макс с Андреем сбежали. Искали их с милицией, но после бешеного афганца милицией их было не испугать.
Максим помнит распущенные волосы Наташи, как они текут вдоль стана, и как она строго стоит против тусклой лампы, помнит ее голос. А дикую историю об ожившей страстной бронзе он запомнил слово в слово.
Его детство – река, лес и убогий, таинственно безлюдный мир промзоны – складов, цехов, брошенных железобетонных труб, где они мечтательно ютились над костром, дым от которого расползался в оба конца и восходил в промозглую, озаренную желтой мокрой листвой осень. Брошенные карьеры, заполненные водой, зеленая отвесная их глубина, в которой начинали купаться еще в апреле, еще среди льдин, – и потом, растянув на сломанных ветках выжатые трусы, сушили их над костром. Посреди озера высился остров. В воображении – поскольку на известняковых глыбах этого острова имелось много отпечатков палеозоя – он представлялся могилой динозавров, которые могли однажды выломаться из пластов известняка… Отличная тарзанка была подвешена на острове, на ней взлетали высоко – выше деревьев на том берегу – и потом рушились в воду. Оставленные эти места выглядели смутной Помпеей, пространством зачарованного поиска.
Что еще он помнит? Конский череп, изнутри освещенный свечкой во тьме.
Озеро, оправленное в заснеженные берега, хоккеисты передвигаются далеко внизу на расчищенном, расцарапанном зеленоватом бельме. И летом – теплоход, охваченный по всем палубам огнями, уходит в излучину реки, как космический корабль по орбите.
* * *
Отец проснулся и не смог снова заснуть. Он лежал и вспоминал, как во время войны был со своей мамой в госпитале, как забинтованные раненые, от которых пахло дегтем, прятали его под кроватями от главврача во время обхода.
Ребенком он был несносным. Однажды довел мать до белого каления, и она заперла его в чулане. Но скоро вытащила и сказала: «У нас папа на войне умер, а ты так себя ведешь…»
Отец отлично помнил этот госпиталь в Могилеве. Он там заблудился и попал за кулисы походного театра: артисты приехали с концертами для раненых. Он ходил зачарованный среди декораций и вдруг оказался на сцене перед рампой. Внизу сидят люди и смеются.
Помнил еще, как они с матерью едут в кузове «студебекера», а мимо идет колонна пленных немцев: серо-зеленая форма. Он испугался, стал кричать: немцы! немцы! И помнил овчарку саперов – гигантскую псину, выше его ростом.
* * *
Утро 31 декабря выдалось хмурое. Они пришли на автовокзал, где поджидали автобус трое подростков с пивом и несколько старух на баулах и корзинах.
Одна из них знала Страковичи: «Так то ж через лес на Печищи».
Леса вокруг казались полными волшебного мрака: страшно было понимать, что эта глухомань тянется на сотни километров. Такие леса Максим видел впервые в жизни и именно так представлял дебри, через которые пришлось перебираться купцу из «Аленького цветочка». Когда они останавливались оправиться, он делал тридцать-сорок шагов в глубь чащобы, вокруг него воцарялся настоящий сказочный лес, который здесь рос десятки тысяч лет и стоял в этом неизменном виде, когда еще не было человека. А лес Максим понимал: в детстве любил один далеко ходить по грибы и любил это сладкое ощущение жути на краю бездонного оврага, чьи склоны казались неприступными из-за вывороченных вместе с пластами земли корнями замшелых сосен. Случалось, жуть эта гнала его прочь, и когда он останавливался без сил, еще долго не мог прийти в себя; беспричинный страх был похож на бессловесное откровение…
В Страковичах мемориала не оказалось. В сельсовете им сообщили, что когда-то было произведено перезахоронение в общую братскую могилу. И сейчас там – в трех километрах отсюда, в Печищах, – установлен мемориал, посвященный красноармейцам, погибшим в местных боях в годы Великой Отечественной войны.
Печищи открылись посреди леса двумя огромными полями и колхозными строениями вокруг густой россыпи домов. Первое, что они увидели, – конезавод. Жеребцы – серый и гнедой – выезжались за оградой конюхами; лошади гарцевали, пар валил из их ноздрей; хлопал кнут.
В начале главной улицы, шедшей через все село, высилась гранитная глыба с барельефом – памятник Герою Советского Союза Петру Афанасьевичу Мирошниченко, лейтенанту, командиру взвода пешей разведки, повторившему в двадцать два своих года подвиг Александра Матросова.
На площади перед колхозным правлением был разбит сквер, посреди которого стояла четырехметровая статуя женщины с ребенком на руках. По периметру сквера были уложены мраморные плиты. Среди имен, высеченных на них, деда они не нашли. Восемьсот семьдесят пять имен, отчеств и фамилий они прочитали вслух два раза. Иногда приходилось приподнимать с плит венки с искусственными цветами. Отогревались в машине.
В сельсовете встретил их председатель Андрей Андреевич Скороход: полный, в пиджаке, с радушным лицом и голубыми глазами, он достал бумаги, пришедшие в прошлом году из военкомата Светлогорска. Он нашел имя деда в списке, который должен был пополнить здешний мемориал, и радостно ткнул в него пальцем.
Отец и сын по очереди вчитались в приказ, всмотрелись в список, все верно: есть Покровский.
– Значит, кости деда здесь… – пробормотал Максим и почувствовал, как мозг, который теперь не вполне повиновался его намерениям, вновь стал размышлять о задаче воскрешения предков; теперь он, мозг, был занят настройкой недавно разработанной модели, с помощью которой можно было локализовать в фазовом пространстве рождений до восьми поколений прародителей.
Отец волновался. Он вытер платком взмокшие ладони.
– Вы понимаете, в 1975 году было сделано перезахоронение из Страковичей, где во время боев были погребены двадцать шесть солдат. А вот имена не внесли. Почему? Кто не внес? Забыли? Ничего не понятно. Но ко Дню Победы мы три дополнительных плиты заказали. Установим и торжественно откроем. Приезжайте. Будем очень рады.
– Спасибо. Мы еще не знаем. Мы вообще-то издалека, – сказал отец.
– Москва теперь хоть и другое государство, однако на границе задержек не бывает.
– А что, пап, приедем?
– Посмотрим. Давай еще раз сходим к мемориалу и – пора. Смеркается уже.
– Куда уж вы? Оставайтесь у нас, здесь. Я вам в красном уголке постели сооружу. Да и посидим, помянем павших.
– Неудобно, что вы, – отец пожал плечами.
– Пап, может, останемся? Когда еще здесь будем.
Председатель снял телефонную трубку.
– Мария, здравствуй. Милая, гости у нас сегодня. Постели надобно устроить. И выпить-закусить – сама понимаешь. Давай, милая, ждем. Давай, с Богом… – председатель немного раскраснелся; ясно было, что он очень рад гостям.
Помолчали. Все трое – Максим первый – посмотрели в окно, за которым в свете уже зажегшегося фонаря летел и искрился снег.
– Интересно, а где дзоты располагались?
– Какие дзоты? – спросил Андрей Андреевич.
Максим пересказал описание боя.
Отец стоял у окна.
– А так-то, наверное, на том поле перед лесом на Страковичи.
Председатель подошел к окну и указал пальцем на сгущающуюся от сумерек и снегопада тьму поля и леса́ за ним.
Максим спустился вниз, расплатился с таксистом и договорился, что завтра он за ними вернется. По тройному, новогоднему тарифу.
Пришла Мария, рослая женщина с озабоченным лицом. Поздоровалась за руку. Развернула одеяло, достала кастрюлю с картошкой и гуляшом, из которой повалил пар. Вынула из шкафа, обвешанного грамотами и вымпелами, тарелки, стаканы, початую бутылку водки, банку с огурцами.
– Угощайтесь, гости московские, чем Бог послал.
Мария призвала мужчин не стесняться и, вынув из того же шкафа стопки белья, вышла стелить постели.
Приступили к еде. Скороход предложил, не чокаясь, выпить за павших. Отец только пригубил. Мария отказалась присоединиться, посидела немного за столом и попрощалась.
Водка закончилась, картошку доскребли. Скороход собрал тарелки, рюмки и хлеб в пустую кастрюлю и поставил у двери.
– Пойдемте, покажу ваш блиндаж.
В красном уголке по сторонам гипсового бюста Ленина стояли два разложенных кресла-кровати. Они были завалены перинами и лоскутными одеялами.
– Что ж! С Новым годом! Счастья вам и исполнения желаний!
– Спасибо! – отвечал Макс.
– Поздравьте своих близких с Новым годом, – сказал отец и пожал Скороходу руку.
– Если что – телефон в кабинете: 32-16.
Распрощались до утра.
Отец разделся, но долго не мог заснуть. Максим скользнул в туалет. Вернулся. Стоя в дверях, сказал:
– Пойду я, погуляю.
– Куда? Зачем?
– Интересно – есть у них здесь ночной магазин? Как они тут выживают?
– Ты же хорошо выпил. Не морочь голову. Не ищи себе приключений.
– Да ладно. Скоро буду.
– Максим, я тебе запрещаю.
– Пап, отдохни.
Максима не было уже час. Отец думал, сколько следует оставить денег в благодарность Скороходу. Просто – положить на стол перед тем, как утром они уедут. Решил, что пятидесяти долларов хватит.
Снег перестал. Выступили звезды. По единственной освещенной фонарями улице прошли гуляки.
«Еще побьют его», – подумал отец и стал одеваться. До трех ночи он бродил по селу, спрашивал у встречных – не видали ли они парня в светлой куртке с меховым башлыком. Все были навеселе, никто чужого человека здесь не видел. Отец вернулся в правление и позвонил Скороходу. Извинился.
– Так Максимка был у меня. Еще не дошел?..
– Нет.
– Куда он подевался? А мы так хорошо с ним посидели. Может, он на поле пошел?
– На какое поле?
– Ну, где дзоты были. Говорил, хочет посмотреть, как оттуда дед небо видел.
Снегу на поле было выше колена. Кругом светло, бело, звезды ясные. «Где здесь были дзоты? Все ровно. Ни ложбинки. Сумасшедший. Пьянь. Как такое выросло! Ну куда он девался? Никогда не знаешь, как жизнь проживешь. Все кругом серебро. Ни пятнышка».
Отец оглянулся. Почему сразу не сообразил. Вон дорога на Страковичи заворачивает, а напрямки лесом срезать – как раз на тот край, чуть правей, и выйдешь. Значит, там стояли укрепления.
«Он же одет в рыбий мех. Сейчас градусов пятнадцать, подморозило».
Через сотню тяжких, задыхающихся шагов отец наткнулся на борозду следов. Почти побежал. Максим лежал навзничь у самого леса, раскинув руки. Отец его тормошил, тер снегом щеки. Наконец Максим открыл глаза. Улыбнулся:
– Пап, ты чего?
Отец поморщился от перегара. Он замер над сыном, испытывая жалость и отвращение. И, прежде чем взвалить его на себя, лег рядом и смотрел в небо, пока не закружилась голова от бездны подслеповатых, мигающих от мороза звезд.