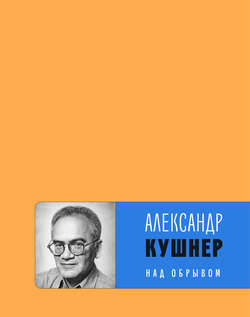Читать книгу Над обрывом (сборник) - Александр Кушнер - Страница 2
1. Всех звезд, всех солнц, всей жизни горячее
ОглавлениеНад обрывом
Мне не нужен дом на обрыве к морю,
Потому что художник его уже
Написал, – и его я не переспорю:
Низкий, каменный, ветхий, на рубеже
Жизни, Франции, сумерек, счастья, горя, –
Чуть взглянув, согласился я с ним в душе.
И представить другой не могу, высокий,
Многобашенный, пышный, с большим крыльцом.
Нет, приземистый, маленький, одинокий,
Он уткнулся в безлюдную даль лицом,
И открыт ему сумрачный смысл глубокий.
Замком быть он не мог бы или дворцом.
Низкорослою, в сучьях, полуживою
Изгородью колючею обнесен,
К блеску вечному, шороху, гулу, вою,
Тишине хорошо приспособлен он.
Я не мог бы в нем жить, я его не стою:
Волны, небо, пространство со всех сторон!
Лестница
Есть лестницы: их старые ступени
Протерты так, как будто по волнам
Идешь, в них что-то вроде углублений,
Продольных в камне выемок и ям,
И кажется, что тени, тени, тени
Идут по ним, невидимые нам.
И ты ступаешь в их следы – и это
Все, что осталось от людей, людей,
Прошедших здесь, – вещественная мета,
И кажется, что ничего грустней
На свете нет, во тьму ушли со света,
О, лестница, – страна теней, теней.
«Наказанье за долгую жизнь называется старостью…»
Наказанье за долгую жизнь называется старостью,
И судьба говорит старику: ты наказан, живи. –
И живет с удивленьем, терпеньем, смущеньем и радостью.
Кто не дожил до старости, знает не все о любви.
Да, земная, горячая, страстная, злая, короткая,
Закружить, осчастливить готовая и погубить,
Но еще и сварливая, вздорная, тихая, кроткая,
Под конец и загробной способная стать, может быть.
И когда-нибудь вяз был так монументален, как в старости,
Впечатленье такое глубокое производил?
И не надо ему снисхожденья, тем более – жалости,
Он сегодня бушует опять, а вчера приуныл.
Вы, наверное, видели, как неразлучные, медленно,
Опекая друг друга, по темному саду бредут,
И как будто им высшее, тайное знанье доверено,
И бессмертная жизнь обреченная, вот она, тут!
«Мысль о славе наводит на мысль о смерти…»
Мысль о славе наводит на мысль о смерти,
И поэтому думать о ней нам грустно.
Лучше что-нибудь тихо напеть из Верди,
Еще раз про Эльстира прочесть у Пруста
Или вспомнить пейзаж, хоть морской, хоть сельский,
С валуном, как прилегшая в тень корова,
Потому что пейзаж и в тени, и в блеске
Так же дорог, как музыка или слово.
Я задумался, я проскользнул на много
Лет вперед, там сидели другие люди,
По-другому одетые, и тревога
Овладела мной, но ничего по сути
Рассказать не могу о них: не расслышал
И не понял, о чем они говорили.
Был я призраком, был чем-то вроде мыши
Или бабочки. Бабочки речь забыли.
«Мимо дубов или вязов, не знаю…»
Мимо дубов или вязов, не знаю, –
Издали точно сказать было трудно,
Мы проезжали в машине по краю
Местности сельской, распахнутой чудно.
И почему-то дубы или вязы
Эти мне вдруг показались знакомы:
Всплески их, вздохи, улыбки, гримасы,
Взгляды, поклоны, увечья, изломы.
Что-то как будто сказать мне хотели,
Но, отступив на манер привидений,
Скрылись вдали, подойти не посмели,
Стали одним из моих заблуждений.
Где-то я видел их в прожитой, прошлой
Жизни таинственной, мною забытой,
Скрытой теперь от меня суматошной,
Взрослой, для детского чувства закрытой.
И не владею я теми словами,
Что их вернули бы, расколдовали.
Словно когда-то моими друзьями
Были они – и деревьями стали.
«Вчера я шел по зале освещенной…»
Вчера я шел по зале освещенной…
А. Фет
Вчера я шел по зале освещенной…
Все спят давно, полночная пора,
А он идет один, неугомонный,
Не в позапрошлом веке, а вчера!
И нет меж ним и нами расстоянья.
И все, что с той поры произошло,
Отменено, ушло за край сознанья,
Все испытанья, горести и зло.
Одна любовь на свете остается,
Она одна переживет и нас,
В углах таится, в стенах отдается,
В дверях тайком оглянется не раз.
И вещи – вздор. Какие вещи в зале,
Кто помнит их? Не вазы, не ковры.
Где ноты те, что были на рояле?
Одной любовью движутся миры.
Всех звезд, всех солнц, всей жизни горячее,
Сильнее смерти, выше божества,
Прочнее царств, мудрее книгочея –
Ее, в слезах, безумные слова.
«Я вспомнил улыбку чудесную эту…»
Я вспомнил улыбку чудесную эту,
Которой художник сумел наделить
Хозяек и горничных, радуясь свету,
Вот он и окно не забыл приоткрыть.
Вот он и бокал шаровидный поставил
На стол, и кувшин попросил подержать.
И кресло подвинул, и скатерть поправил,
Чтоб ты этой жизни поверил опять.
Поверил, припал к ней хотя б на минуту,
Приник и свои огорченья забыл.
Забудь, постарайся! Я тоже забуду,
Мне так этот дворик приятен и мил!
Так нравится комната с плиточным полом!
В лицо этой жизни еще раз взгляни
С доверием к ней и в унынье тяжелом, –
Недаром же ей улыбались они!
«Познай себя! – Неинтересно…»
Познай себя! – Неинтересно.
Себя я знаю назубок.
В самом себе, философ, тесно.
Исхожен вдоль и поперек
Самим собою, как в темнице,
А хороши во мне дома,
Огней вечерних вереницы
И книг прочитанных тома.
Люблю в себе морские пляжи,
Прогулки в вырицком лесу,
Голландцев малых в Эрмитаже,
Собор Казанский и грозу,
И старый клен, – меня не станет,
Но, и пропав, не пропаду…
Вошла, увидела, что занят,
Поцеловала на ходу.
«Душа не терпит принуждения…»
Душа не терпит принуждения,
Как будто там, откуда ей
Сюда случилось в день рождения
Зайти, жилось куда вольней.
Недаром дети упираются,
Кричат, капризничают так,
От ложки с кашей уклоняются,
Не урезонить их никак.
Как будто здешние желания,
Шлепки, едой набитый рот –
Лишь униженье, подражание,
Подобье подлинных щедрот.
Пускай сластями и лекарствами
Сегодня пичкают ее,
Душа как будто помнит царствие
Непринужденное свое.
«Перед тем как потерять сознанье…»
Перед тем как потерять сознанье
Или в тот момент, когда терял,
Ощутил я радость расставанья
С жизнью той, что так любил и знал.
Боже мой, свобода! На свободу!
Ни о чем не думать, все забыть.
Словно прикоснулся к небосводу,
К его лучшей части, может быть.
Или это только самый первый
Вздох в его прихожей, вестибюль?
Розы в вазе, статуя Минервы,
Дальше будут май, июнь, июль.
Или это я потом прибавил,
Приходя в сознанье, сочинил?
Но как будто счастье там оставил,
Полноту возможностей и сил…
«Перечитывал книгу и в ней на полях…»
Перечитывал книгу и в ней на полях
Карандашные видел пометки свои –
Угловатые птички, – на пыльных кустах
Так сидят в петербургских дворах воробьи,
И казалось, что я ненароком во двор
Заглянул, где когда-то, лет сорок назад,
На скамье с кем-то тихий я вел разговор,
Совпадению мыслей и выводов рад.
Как же был я горяч и отзывчив тогда
И, ей-богу, умней, чем сегодня, – умней!
И меня с той поры укатали года,
Словно сивку, и жаль мне должно быть тех дней,
И нисколько не стыдно за них, и не прав
Я, когда на былое свое свысока
И в сомненье гляжу, – и ко мне под рукав,
Как жучок, щекоча, заползает строка.
«Мельканье рощиц и кустов…»
Мы все попутчики в Ростов…
П. Вяземский
Мельканье рощиц и кустов,
Унылых дней и мрачных снов,
Всего труднее на рассвете.
Я встать с постели не готов,
Опять попасться в те же сети
Постылых дел и жалких слов.
Увы, мы в старости в ответе
За безотрадный свой улов.
Теперь одну из всех стихов
Строку держу я на примете:
«Мы все попутчики в Ростов».
В Ростове Вяземский нас встретит.
«День проступает, еще слаб…»
День проступает, еще слаб,
Из тьмы, светя издалека мне,
Как микеланджеловский раб –
Из неотесанного камня.
И мне уже видны сквозь тьму
Черты его на грубом ложе.
И я, конечно, рад ему,
Но и побаиваюсь тоже.
«Мемуарист не все расскажет…»
Мемуарист не все расскажет
И, заманив в былую тьму,
Легко забудет и замажет
То, что невыгодно ему.
Не первый раз про мемуары
Пишу и думаю о том,
Какие это злые чары
С набитым вымыслами ртом.
Как, разбавляя правду ложью,
Чужою жизнью завладев,
Испытывают милость Божью,
Его терпение и гнев.
И, Божий суд себе присвоив,
Размазав слезы по лицу,
Мерзавцев лепят и героев
По собственному образцу.
«Смотри, какой хороший мальчик Павел…»
Смотри, какой хороший мальчик Павел,
Доверчивый и нежный, – видно сразу.
Иль живости и прелести добавил
Ему художник, радуясь заказу?
И засмеяться может, и заплакать,
В парадном алом, бархатном кафтане,
Не косточка военная, а мякоть,
И будущее прячется в тумане.
Румяный, кареглазый, яснолицый,
Зачем ему военная карьера?
И Фридриха не надо, – поучиться
Ему бы у Руссо или Вольтера.
И можно ль не почувствовать печали,
Хотя все очень празднично и пышно?
Мы тоже в детстве много обещали,
А что из нас, сказать по правде, вышло?
«Какая дружба намечалась…»
Какая дружба намечалась
Меж Чичиковым и Маниловым!
Увы, она не состоялась.
А как Манилов фантазировал!
Как угодить старался Чичиков!
Не получилось крепкой дружбы.
Один был слишком предприимчивый,
Другой был слишком благодушный.
А вспомнил я о них по случаю
Какой-то пасмурной погоды,
Но не дождливой, а задумчивой,
Голубоватые разводы
На небе. Было что-то милое
И глуповатое, и мглистость,
Напоминавшая в Манилове
Поэтов-сентименталистов.
И вообще не слишком строго ли
Мы говорим о персонажах,
В поэме выведенных Гоголем?
Он их любил, Ноздрёва даже,
И я бываю Собакевичем,
Ах, и Коробочкою тоже.
И заноситься, право, незачем,
И жить смешно, и все похожи.