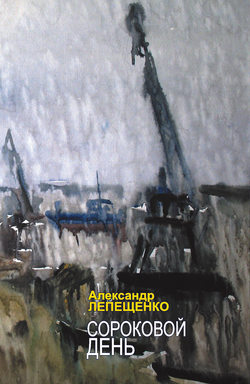Читать книгу Сороковой день - Александр Лепещенко - Страница 5
Отрезанный ломоть
II
ОглавлениеВечер прошёл в колонии, как обычно. Дежурный офицер сводил зэков на ужин, пересчитал и закрыл в бараке. Перед отбоем Кольчугин выцедил кружку чифира, долго ворочался на жесткой шконке, потом встал – до окаянства захотелось курить. В темноте взял с тумбочки сигареты, нашарил письмо и пошёл в бытовку.
Сначала залитая светом бытовка показалась ему пустой, но в углу зашуршало, и он заметил Огульца. Похожий на свое отражение в чайнике, Огулец выглядел испуганным. Коротконогий горбатый дагестанец быстро заварил Капитановскому чай и мышью шмыгнул в дверь. Кольчугин, проводив его взглядом, закурил, склонился над письмом и стал разбирать знакомые строчки. Напоминавшие муравьёв буквы были выведены каллиграфическим школьным почерком. Отличалась лишь «д»: всюду стояла она палочкой вверх и жизнерадостно тянула за собою строки. Оля Закатова писала:
Милый Димочка!
Не зову тебя «дорогой», поскольку считаю, что «милый» всё же бескорыстнее. Ты не обращай внимания на мои умствования. Знаешь, насидишься весь день в каталке, как прикованная, а потом нет-нет да и такое выдашь!
Ты вот с лётчиком Маресьевым меня сравниваешь, боевой дух поднимаешь. Но, Димочка, какой же я герой? Маресьев тот без ног летал, фашистов бил. А я лишь назло врачам с костылями научилась ходить да в каталке прямо сидеть. Ну ещё институт не бросила. Порой две недели сессии в Дантов ад превращаются. Ты не подумай, не от боли в ногах. Когда болят, я, наоборот, радуюсь: значит, они что-то чувствуют, оживают.
Мучаюсь же я эти недели потому, что не хочу казаться одногруппникам и профессорам ущербной. Чтобы одни из-за ущербности этой глаза от меня прятали и умолкали, когда я на ходунках мимо тюхаю, а другие – оценки ставили снисходительно, иногда и не спросив по билету.
Занесло меня, милый, но я уж не буду переписывать заново.
Ты просил разузнать о твоём имени, я кое-что нашла у Флоренского. По-гречески Дмитрий – плод земной. В тебе весьма определенно сказывается связь с землёй, а через землю – с Землёй-Матерью. Но насколько первая очевидна и выражена, настолько же вторая живёт в тебе, как тончайший привкус, и преимущественно в детстве. Скорее, даже материнство Земли вьётся около тебя, милый, и самим тобой смутно чается, как заветная и дорогая, но почти утраченная святыня детства.
Помнишь, ты писал, что после училища хотел идти трактористом в колхоз, да дружки в город сманили? А может, ещё не утрачена связь с землёй? Ты не думай, Дима, что я в деревню тебя зазываю. Вот через месяц вольную получишь, в Ростове устроишься – его ты знаешь теперь. Но мне просто подумалось, что земля душу твою изувеченную лучше всего исцелит.
Милый, ты прости мне рассуждения глупые. Только я точно знаю, что душа болит так же, как тело. Ее знобит, она облегчения ищет и покоя.
Бог мира да будет с тобой! Не обижайся, пиши!
Твой друг Закатова Оля.
«За что обижаться-то? Ты и не представляешь, дурочка, как одно лишь слово твоё уже исцеляет».
Окурок обжёг Кольчугину пальцы, он затушил его и надолго задумался.