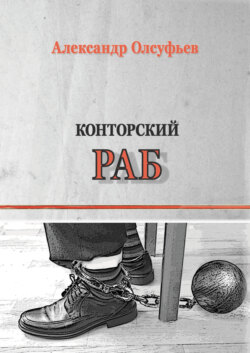Читать книгу Конторский раб - Александр Олсуфьев - Страница 10
Конторский раб
За стеной
Хорошо поговорили
ОглавлениеСекретарша подняла аккуратную, милую головку на высокой шее, бегло взглянула на меня и, опустив глаза, продолжила разбирать бумаги и спросила холодно:
– Слушаю…
– Меня Владимир Иванович вызывал, – пролепетал я, останавливаясь в метре от ее стола и робко переминаясь с ноги на ногу.
– Фамилия…
Я назвал. Она открыла небольшую книжицу, провела пальцем сверху вниз, до самого нижнего края.
– Вы записывались на прием?
– Нет… Но мой начальник, Богдан Осипович… – я чуть не ляпнул «дед», но вовремя сдержался, – передал, что директор хочет видеть меня по срочному делу.
Хорошенькая головка отложила бумаги, подняла трубку, нажала верхнюю клавишу на аппарате и спросила:
– Владимир Иванович, тут к вам… такой-то… говорит, что вы его вызывали по какому-то срочному делу… – молчание, кинула быстрый взгляд поверх моей головы, потом взгляд скользнул на мое лицо, и дальше вниз до самых ботинок и уполз на соседнюю стену. – Поняла… Хорошо… – опустила трубку и сухо произнесла:
– Проходите… – словно часовой на посту, поднявший шлагбаум.
Ох уж эти секретари и секретарши – особый сорт людей, особая каста, чья задача прислуживать высшему конторскому сословию. А что значит прислуживать? Даже не служить, а именно прислуживать. Лично для меня подобный вид деятельности или времяпрепровождения совершенно невыносим. Для меня очень сложно быть внешним, наружным, так сказать, продолжением того, кто постоянно прячется за закрытыми дверями, ни с кем в конторе не общается, ведет какую-то скрытую жизнь, очень часто таинственную, с точки зрения сидящих за столами в тех же пределах, и о ком говорят чуть ли не шепотом, иногда оглядываясь – не моё это, но…
А интересно, она спит с ним?.. Судя по хорошенькой головке, то не без этого. Ну, да это их дело… Мне-то что с того? Не суди, да не судим будешь – поговорка хоть и ветхая, но всегда оставалась актуальной и таковой останется до конца света.
Быть прилежным и услужливым, всегда наготове исполнить чуть ли не прихоть начальника, служить не в соответствии с абстрактными обязанностями, как я, например, и как остальные, а служить именно тому человеку, кто сидит за тяжелыми дверями, знать про него все… ну, или почти все… быть в курсе всех его дел… ну, или, по крайней мере, большинства дел… чутко улавливать его настроения – для меня это очень сложно, практически невыполнимо, я не могу, не умею быть настолько преданным, не могу даже изображать преданность такого уровня и глубины день за днем, месяц за месяцем, из года в год, не смогу, у меня так не получится, рано или поздно у меня вырвется заветное: «А не пошел бы ты!..»
На такую работу берут людей особенного склада. Нет! Идут-то все, не все выдерживают испытания, не все остаются и не всех оставляют. Хорошего секретаря очень трудно найти. Их терпеливо выращивают, их приучают к себе, иногда их дрессируют, и почти всегда таскают за собой как… как…
Тут я подошел к массивным дверям и несколько раз костяшками пальцев, достаточно громко, чтобы стук был хорошо слышен с той стороны, поскольку, как я предполагал, от двери до директорского стола не менее десяти метров покрытых ковром с отличным, шерстяным ворсом.
Приоткрыв дверь, я робко протиснулся в образовавшуюся щель. Стол и в самом деле стоял далеко, метров за семь, восемь.
– Разрешите? – пролепетал я.
Человек за столом вскинул голову, швырнул в мою сторону быстрый взгляд и, уткнувшись снова в какую-то бумагу, произнес достаточно громко:
– Входите…
Я прошел по ковру, где ноги мои буквально утопали в мягком ворсе. Шаги были бесшумные, легкие – ворс приятно пружинил под ногами.
«Где они берут такие ковры?» – думал я. – «Мы, вот, с женой не могли найти себе ковер в течение нескольких месяцев, хоть и объехали почти все магазины. Одна синтетика, либо цвет и рисунок такие, что на огороде расстелить стыдно и противно будет, не то что в доме. Наверное, все хорошие ковры сразу же раскупают такие конторы, как эта. А контор таких в этом городе… Вот и не остается ковров для людей простых, как я».
Размышляя таким образом, я подошел, чуть ли не на цыпочках, к столу и сел на один из стульев, что по обыкновению стоят парой, друг напротив друга. Сел на краешек, держа спину прямо, голову высоко подняв.
Человека, сидящего за этим широченным столом с противоположной стороны, одетого в дорогой темно-серый костюм, я видел вот так, вблизи, второй раз в жизни. Первый раз – это было на праздновании Нового Года. Тогда для всей конторы был снят один из ресторанов. За столиком мы сидели вчетвером – я, Юлечка и еще какие-то две женщины, совсем мне незнакомые.
Директор тогда поднялся на сцену и поздравил всех с Новым Годом, потом пошел по залу, к нему сразу присоединился тот грузный гражданин из отдела безопасности, кто ездит при помощи «корочек» по встречке и зачем-то следовал на шаг позади. Оба начали подходить к разным столам и поздравлять сидевших за ними. Точнее сказать, поздравлял только директор, второй стоял рядом, молчал, по-бычьи наклонив бритую голову, и сонно моргал маленькими глазками. Не ко всем, конечно, столам подходили, маршрут был витиеватый, шли они сложным зигзагом, но, в конце концов, подошли и к нам.
Я сразу же поднялся со стула, чтобы поприветствовать начальство, как и был обучен – младший сотрудник приветствует старшего стоя. Юлечка зачем-то встала тоже, хотя ей, как женщине, было позволено сидеть – дурной пример заразителен. Но гражданин директор расположился таким образом, что смотрел на тех женщин, а к нам остался стоять спиной, и между нами и «родным» директором еще втиснулась широченная спина с щетинистым затылком в складочку ответственного за безопасность, частично лишив удовольствия лицезреть «людимое» начальство с близкого расстояния. Мы с Юлечкой смотрели на эти спины и робко улыбались, не решаясь даже пошевелиться. Директор начал поздравлять… «представителей главка в лице таких очаровательных дам, как …».
К нам он так и не повернулся лицом. Закончив поздравлять, он сделал шаг в сторону и пошел дальше. Широченная спина, тяжело ступая, послушно последовала за ним.
Я сел на стул, Юлечка села следом. Я налил себе и коллеге шампанского, бокалы тихонько звякнули, мы выпили, потом принесли винегрет и оливье, и праздник покатился дальше своим чередом. Мы продолжали улыбаться, потому что по-другому нельзя вести себя в Новый Год, но на душе сделалось скверно. Очень неприятный осадок остался. Создалось такое впечатление, будто нас вовсе не было, словно мы не существовали, что мы, рядовые сотрудники, настолько мелкие и незначительные личности, и нас даже не видно вовсе, по сравнению с теми женщинами из какого-то главка, хоть все и сидели за одним столом.
Вот я теперь сижу напротив него, растянул губы в заискивающей улыбке, рассматриваю начальство с близкого расстояния.
Ничего дядька, симпатичный, в летах. За пятьдесят будет. Волосы с проседью, стрижены ежиком, брови густые, твердый подбородок… Второго подбородка пока не видно. Но черты лица какие-то невнятные. Нос прямой, а на конце «картошка». Глаза маленькие. Вокруг глаз мелкие морщины, сеточкой. Лицо как лицо. В толпе встретились бы – прошел бы мимо, даже не посторонился. По привычке попытался сравнить его с кем-то, чтобы найти хоть какие-нибудь аналогии с уже знакомым мне характером, но ничего в голову не приходило. Похож на какого-то актера, но на какого не помню… Да и актеришки эти все время лицедействуют, изображают кого-то другого, а сами кто такие? Кто бы знал.
Наверное, поэтому, что такой невзрачный, не оригинальный, его и посадили на это место – хороший исполнитель без фантазий и административных выкрутас.
– Это ваших рук дело? – вдруг спросил он и, взмахнув ладонью, кинул мне через стол лист бумаги, что, скользнув по воздуху, лег передо мной наискосок. Нагнувшись вперед, не дотрагиваясь до бумаги, словно она была пропитана ядом, я прочел первые строки:
«… приказ об упразднении административного отделения предприятия…»
Дальше читать не стал. Спину расслабил, сел посвободней, оперся о спинку стула.
Но как!.. Как он «вычислил» меня?
Не спрашивая разрешения, я встал, подошел к окну. Стоял некоторое время молча, смотрел на улицу, покачивался на носках.
– А вид-то из вашего окна такой же скучный, как и у нас, – заметил я. – Одни лишь крыши. Ряд за рядом. Словно в этом городе без крыш обойтись нельзя. Ни парков, ни скверов. Одни лишь крыши…
Потом повернулся и пошел к одному из шкафов, растянувшихся вдоль стены напротив окна. Все витрины были заняты книгами по юриспруденции и администрированию, которые никто оттуда никогда не доставал, а может это были лишь корешки, наклеенные на фанеру – этакий дизайнерский прием. Не спрашивая позволения, открыл одну дверцу. Там были выставлены отмытые до блеска стаканы, фужеры и рюмки.
– А бар у вас где? – спросил я холодно, не смотря в сторону стола.
– Ниже, следующая дверца, – услышал я спокойный голос.
– Коньячку надо выпить или водочки… А то съел что-то в этой заводской столовке, теперь живот крутит, а хороший коньяк снимает эти неприятные симптомы. Вы же не едите там, со всеми. И не знаете чем кормятся ваши сотрудники в обед. Н-да…
Я налил себе в стакан из какой-то бутылки с большой этикетки, даже не разбирая, что там было написано – плохих напитков в этом месте держать не будут. Отошел от шкафа и пошел не к столу, а к широкому кожаному дивану, напротив которого стоял низкий журнальный столик. Расстегнул пиджак, сел, закинув ногу на ногу.
– Что вы там сидите, Владимир Иванович, идите сюда. Поболтаем. Не прячьтесь за столом… Идите, идите. Все равно, очень скоро кабинетик придется освободить. Не таитесь…
Директор, откинувшись на спинку кресла, молча сверлил меня черными глазами, похожими на два ствола. Но все же послушно встал, подошел к дивану и сел с противоположного края, подальше от меня.
Подчинился… надо же – вот это интересно, а почему? Давно ожидал такой развязки, а потому подготовился, подыскал себе новое местечко? Наплевать на контору и давно уже собирался уйти? По природе своей человек гибкого, услужливого поведения, можно сказать бесхребетный? Вот это вряд ли. Любопытно, очень любопытно.
– Себе не нальете?
Он отрицательно покачал головой.
– Ну, не хотите, как хотите, а я выпью, – я сделал глоток, и обжигающая струйка скользнула ко мне на дно желудка и все бормотание, все водовороты там, внутри, сразу же остановились. Почувствовав себя свободней и лучше, я продолжил:
– А как вы меня вычислили, Владимир Иванович?
– Сталкивался с подобным раньше, – буркнул он, вскинув брови.
– Та-ак, – протянул я и сделал еще один глоток, – «тертый калач» получается…
После этих слов он напрягся, хотел ответить что-то резкое, но промолчал.
«Умеет сдерживаться – это хорошо. Приятно иметь дело с человеком сдержанным, размышляющим, а не истериком, который вопит, не понимая сам что говорит, лишь бы надавить, лишь бы раздавить, лишь бы показать что он выше, сильнее, лучше, чем ты… Но на Новом Годе стоял спиной ко мне… Сволочь, получается…»
– Значит, сталкивались… И, все равно, ведете дела по-старому… Как и в прошлый раз…
Директор продолжал молчать, сидел напротив с каменным лицом, взглядом щупал ковер.
– Хороший ковер, я уже оценил, – ухмыльнулся я. Он вздрогнул и криво улыбнулся. – Можете не отвечать, если нужно – я все равно узнаю. Просто, зря вы сказали про «прошлый раз», – тут он вскинул на меня глаза и во взгляде я заметил легкий испуг. – Значит, уже попадались и выводов не сделали. О таких вещах нужно помалкивать. Никто не тянул вас за язык. Помните, как эти полицейские орут во всех американских фильмах: «… и каждое слово, сказанное вами, может быть истолковано против вас…» или что-то в этом духе. Не помните точно?
Он отрицательно покачал головой.
– Ну и ладно, – небрежно махнул рукой я.
– Пожалуй, я тоже налью себе, – он тяжело поднялся с дивана, опираясь рукой о широкий подлокотник. – Вам повторить?
– Спасибо не надо.
Подойдя к шкафу, он довольно долго гремел стеклом, потом вернулся с широкой коньячной рюмкой заполненной наполовину жидкостью цвета темного янтаря. Сел опять на свое место. Пригубил.
– И вам не стыдно, – неожиданно произнес он. У меня от удивления глаза округлились. Надо было соглашаться на выпивку.
– А почему мне должно быть стыдно, позвольте узнать, любезный Владимир Иванович.
– Благодаря вашей, в кавычках, деятельности, столько людей останутся без работы.
– Моей?.. Понятно… – я поджал губы. Видимо этот тип все-таки крепкой феодально-райкомовской «закваски». Видимо его уже ничто не исправит. А можно ли, вообще, исправить человека. Загнать его в тупик и превратить в чудовище – сколько угодно, но сделать из него что-то лучшее… такого я что-то не встречал. Человек сам из себя ничего сделать не может, пока обстоятельства так не сложатся, что по-старому жить не получится, пока не потребуется что-то менять и в себе, и вокруг себя. Вокруг себя менять-то быстрее и проще, очень часто оно меняется само по себе, без нашего участия, но вот внутри себя… внутри почти никогда ничто не меняется – со всеми своими «да» и «нет», «хочу» и «не хочу», «нравится» и «не нравится» так он, человек этот, и ползет на кладбище.
В поведении своем, во внешнем виде что-то иногда меняет, чтобы легче стало выживать, чтобы приспособиться получше к изменчивой окружающей среде, и выдает это на публике за удивительное перевоплощение, за необыкновенную работу силы воли, за огромный труд над самим собой, но рано или поздно его «я» все равно выползет на поверхность, как червь, которому надоело сидеть внутри яблока, и он поднялся наверх, чтобы подышать свежим воздухом, а потом опять уйдет внутрь, в свою норку, но не наружу, не на новое место. Так и здесь, ведь «били» его уже, а он все такой же, все делает, как и делал… или не делает ничего, как и не делал.
– То есть, вам самому за ваше безделье не стыдно, а мне за мою, так сказать, деятельность должно быть стыдно. Хорошо… Очень даже хорошо…
– А почему вы решили, что я здесь бездельничаю? – вспыхнул он.
– А это не я решил… Это там решили, – я ткнул пальцем в потолок. – И потом… я, наверное, не правильный глагол использовал. «Бездельничать» – это не совсем правильно…
– Это совсем неправильно! – перебил он меня с вызовом в голосе. – Я тут с утра и порой до ночи сижу безвылазно, бумаги так и сыплются, словно снег. И все требуют немедленной реакции, быстрейшего ответа. А не ответишь, начнут «склонять», ругать, угрожать, требовать. Я тут, дорогой мой, не бездельничаю.
– Хорошо, хорошо, – я поднял руки, давая понять, что согласен. – Не бездельничаете тут, работаете в поте лица: совещания то в компании, то в министерстве, то еще где-то, документы, письма, инструкции… Понимаю, что система такая и не нами она придумана, но… все же… так тоже дальше нельзя. Здесь чтобы решить простой вопрос нужно закопаться в бумагах, а уж узнать что-нибудь, добыть какую-нибудь цифру в вашем царстве – сущая пытка – ходишь-бродишь от одного к другому, звонишь туда-сюда, просишь, выпрашиваешь… Тьфу!.. И у всех вид такой, словно спят с открытыми глазами, а ты к ним пристаешь со всякими глупостями и беспокоишь, прерываешь сон на самом интересном месте.
Он сидел и молчал, потом недовольным голосом буркнул:
– А что, где-то по-другому? Бумаг много, все путано-перепутано, но не мной же это придумано. Приказы, инструкции, циркуляры, письма, докладные записки, звонки с указаниями – все это идет оттуда, – он многозначительно показал глазами на потолок, – а теперь им все это не нравится, решили менять. А про себя они не вспомнили? У себя они там ничего менять не желают?
Я неопределенно пожал плечами.
– Про них ничего не могу сказать.
– А кто может? – со злостью в голосе спросил он. – Это же они прислали вас сюда посмотреть, так сказать, изнутри. Сами все соорудили, а что внутри происходит, даже не представляют. Прекрасно! Отлично устроились! – хмыкнул он. – Все здесь было спокойно, тихо крутилось, а теперь собирай вещи и отправляйся в Н-ск.
Он раздраженно передернул плечами.
– Сами-то они в Н-ск не собираются переезжать. Здесь осели поголовно. Бульдозером не сковырнешь.
– Нет, не сковырнешь, – согласился я. – Да и опасное это дело – их ковырять, лучше не трогать. Вот и ковыряют в других местах. Здесь, например.
Он зло оскалился.
– Нашли где менять! Это все равно что рассуждать о загрязнении окружающей среды, но при этом единственно что делать – менять воду в собственном аквариуме. Результата никакого не будет. Рыбы только передохнут.
Я хмыкнул в ответ. Интересное сравнение.
– Сокращают таким образом расплодившуюся бюрократию, – равнодушно заметил я.
– Что! – взвизгнул Владимир Иванович и чуть не подпрыгнул на своем краю дивана, хорошо, что я сидел на противоположной стороне. – Вот так?! Вот тут?! В самом низу? Здесь, среди людей, обреченных почти что на рабское существование? Ну, знаете… – он одним глотком допил свой коньяк. – Это уму непостижимо. Здесь что-то менять – все равно что тротуар зубной щеткой мести, через минуту уже заплюют.
Какое все-таки богатое у человека воображение: то аквариум, то тротуар мести зубной щеткой – интересный персонаж. Или, может быть, разыгрывает передо мной сцену со справедливым возмущением, словно я не я, а сам Петр Степанович пришел к нему в кабинет. Но перед ним-то, наверное, сидел бы молча и даже не шевелился, все бы принял с монашеской покорностью и самоотречением.
– И потом… Бюрократия, она неистребима! – и он, обернувшись ко мне, многозначительно задрал указательный палец и добавил:
– Запомните это, молодой человек, – он посмотрел на свой пустой бокал. – Выпьете?
– Я ж на работе, Владимир Иванович.
– Ой, да ладно! – замахал он на меня руками, словно отгонял назойливую муху, и сам вскочил, метнулся к шкафу, булькнул пару раз и вернулся с заполненным наполовину бокалом. – Ну, не хотите, как хотите. Я не неволю. А насчет бюрократии, могу с уверенностью сказать, что бюрократия вечна, как и власть. Всегда так было, что кто-то командует, а кто-то подчиняется. Всегда так было, есть и будет! И тех, кто подчиняется, всегда большинство, а тех, кто ими командует, значительно меньше. И, к тому же, вот такая бюрократическая, чиновничья система существует не одно столетие. И столько всего там «наросло», что и не вычистить ни за год, ни за десять. Но, самое главное, что чиновники всегда служили во благо лишь тем, – он указательным пальцем ткнул в потолок, – правящему, так сказать, сословию, но с неизменным условием, что и себе оставляли кое-что.
Помните, были когда-то разные советники: статские, тайные, титулярные, столоначальники, опять же директора, деление в соответствии с табелем о рангах, а потом появились комиссариаты всякие, совнаркомы, райкомы, обкомы, горкомы и так далее…, чья деятельность также была направлена на защиту нового, но все же, правящего сословия. Народ сам по себе, а те сами по себе. И снизу, – он кинул многозначительный взгляд на ковер, – попасть туда, – он перевел взгляд на люстру, – попасть было очень и очень трудно, почти невозможно. Редко если такое случалось. И расчистить все это практически невозможно.
– И то верно, – я задумчиво кивнул головой. – Не вычистить. Да-а уж… Подбирают для себя и под себя. Берут в основном прилежных, исполнительных, но ни к чему не годных, чтоб не подсиживали, а лишь засиживали, – он кинул на меня быстрый взгляд, но сразу же отвернулся. – Но не учитывают только одного: со временем таких вот «прилежных и любезных» становится все больше и больше, и своей массой они вытесняют тех, кто их наплодил и рассадил. Ну и время, конечно, способствует этому: с поста и на погост, покомандовал и в стену. А коль те рассядутся на своих местах… – тут я глаза закатил, как мне показалось, выразительно, – то сразу же начинают окружать себя еще большим количеством таких же прилежных, исполнительных и еще более никчемных, полагают, что так смогут обезопасить себя. Подбирают подчиненных, исходят из собственного опыта и из наблюдений за происходящим, но со стороны, с безопасного расстояния. И это все растет, разрастается, распухает… – я растопырил руки и показал, как куча поднимется, выше, выше… рядом начал другую выкладывать, потом бросил – не очень живописно, но и так сойдет, – н-да, не вычистить… очень и очень сложно расчистить…
– Тогда зачем это – «упразднение административного отделения предприятия…», а?
– Как это зачем? А все ради денег. Ради наживы. Разве не понятно?
– Какая-то бедная, почти убогая цель и причина для всякого рода изменений, не кажется ли вам? Нажива! Жадность! Это же отвратительно.
Я неопределенно пожал плечами.
– А на что, простите, ориентироваться кроме денег? Царей-то нет, королей нет, от сословий ничего не осталось, райкомы исчезли, а кто в них сидел – те сбежали, а другие перекрасились, рядом будешь стоять и не увидишь… Короли стареют и умирают или им головы рубят, царей убивают, императоров свергают, а чиновники остаются, и после каждого переворота их становится все больше и больше, к старым прибавляются новые и молодые, и они продолжают служить в своих конторах, отделениях, главках, министерствах… Может и не в императорах с королями все пагубное дело-то, а?
Он скривил губы.
– Может и не в них, – согласился он. – Деньги, деньги, всюду деньги…
– Конечно деньги. У тех таинственных граждан, на которых мы оба служим, имеется одна общая черта – они везде теперь ищут для себя выгоду. Вот из-за этой выгоды контору и закрывают. Ни политика тут не замешана, ни идеологические вопросы, а лишь деньги, и никаких эмоций поверх этого. В строчке «прибыль» с каждым днем должно быть больше и больше, и не хуже, чем у соседа.
Он понимающе наклонил голову, не отрывая взгляд от ковра. Понравился, наверное, с собой заберет на новое место.
– А у вас одних начальников пятнадцать штук. Всякие. Замы ваши, начальники управлений, отделов, еще какие-то замы. Даже служба безопасности имеется. Завели зачем-то. Что он там охраняет, стережет? Такую трясину развели, что и шагу нельзя ступить – проваливаешься в какую-то муть.
– Трясину? А кто будет управлять всем этим стадом? – вскинул он брови, выстрелив этот вопрос. – Кто будет управлять всей этой человеческой массой, что растет и размножается, а? Кто-то же должен. Их же нельзя оставить самих по себе. Это же, вообще, неизвестно чем закончится. Случайно не знаете ответа на этот простой вопрос? – он ехидно оскалился.
– Нет, не знаю, – успокоил я его. – Но знаю совершенно точно, что стоит лишь трем конторским служащим, они же чиновники, они же бюрократы, объединиться под одной крышей с благим намерением, как вы говорите – управлять стадом или коллективом, то полдня они в самом деле будут управлять им, как смогут, как получится, а другую половину начнут бороться и грызться друг с другом, но здесь уже на совесть, так сказать от души.
Но когда под этой же крышей их становится все больше и больше, как здесь, почти сотня человек, то они только тем и заняты, что выстраивают какие-то сложные, запутанные отношения друг с другом, словно вьют паутину, а стадо, массы бредут сами по себе, направляемые лишь чувством голода, жажды, похоти и собственно безопасности – основные инстинкты, они самым сильным образом, как раз, и проявляются именно в массе, в толпе. Вот такие дела, – я развел руками. – Индивидуум со своими идеями, чувствами и фантазиями исчезает среди этих людей, вьющих сложные взаимоотношения, растворяется среди них полностью и без остатка. Как, например, в вашем коллективе. Даже я, повидавший на своем веку всяких контор, чуть не погрузился в летаргический сон здесь, у вас. Как будто чем-то липким обмазали, и не пошевелишься, не побунтуешь, безвольный какой-то сделался, словно все соки из меня выкачали – сам этому удивляюсь.
Но все с утра прилежно сидят за столами. Чем заняты? Одному Богу ведомо. Но все на окладах и немаленьких. Плюс еще премии, надбавки всякие… Это показалось кому-то очень расточительным. Вот вас и переводят в Н-ск. Вы же родом из Н-ска. Прекрасная возможность вернуться в родной город. Наладить там дело, помочь землякам своим опытом и знаниями…
Он печально опустил уголки рта.
– Меня этого генерала попросили пристроить, позвонив напрямую оттуда, – он оторвал взгляд от ковра и посмотрел опять на потолок. – Отказать было никак нельзя. И все остальные приблизительно такие же. Вас, только, я как-то пропустил, проморгал.
– Так, я же человек маленький. Должность у меня рядовая. Клоп, а не человек.
– Мал клоп, да вонюч, – ухмыльнулся он, а я и не обиделся. Что тут обижаться. Хорошо беседуем, спокойно, без эксцессов и истерик. Не всякий раз такое случается. Бывало, что и угрожали расправой, но потом куда-то сами исчезали. Не мое это дело, что потом будет.
– Деньги сейчас решают все, – продолжил я, взглянув на часы. Пора было и уходить. Познакомились, поговорили и разошлись с миром. О чем тут, вообще, говорить? И так все ясно.
– Это, что деньги решают, конечно плохо, но иногда и хорошо. Как в нашем случае. А что касается людей… – я замолчал, прикидывая, а стоит ли продолжать, уж очень эта тема, про людей и как с ними быть, неопределенная, но потом решился и заговорил:
– Вы знаете, – я повернулся к нему, он взглянул на меня, но сразу же опустил глаза, – я очень часто смотрю на звездное небо и стараюсь представить как и что там происходит вокруг той или иной звезды. Воображаю себе, что там кружатся планеты. Пытаюсь вообразить, какие там могут быть закаты, рассветы. Какая там жизнь, если вообще там есть жизнь. Воображаю себя в звездолете, летящим к тем звездам, занятым разными исследованиями… А потом прихожу в такое вот место, как это, сажусь за стол и пишу письмо со словами «… в ответ на ваш входящий номер извещаем, что…»
И вас, наверное, не удивит, если скажу, что не только я один смотрю на небо ночью. Судя по косвенным признакам, вы тоже заглядываетесь на звезды.
Человек – это сам по себе космос. Это бездна способностей, которые он не может реализовать по причинам самым разнообразным, и в частности из-за вечного страха лишиться куска «хлеба насущного». Голодать-то никто не хочет, а потому приходится идти на компромиссы по отношению к себе, по отношению к другим. Здесь уступил, там слабину дал, тут опять сдался, лишь бы не высовываться и не конфликтовать – иначе можно остаться без всего, совсем без всего и в результате попадаешь в рабство, в прямом смысле этого слова. Получаешь грош, а отдаешь самое ценное, что у тебя имеется – свое время, свою жизнь, кстати, очень короткую. И отдаешь не на изучение космоса, далеких планет, а чтобы отвечать на идиотские письма и получать за это корочку хлеба. Вот это я ненавижу больше всего.
Последние слова я произнес, сжимая зубы.
– Поэтому мне совсем не стыдно. Хватит вам рабов здесь держать. Пусть идут на свободу. Выживут там или не выживут, или опять пойдут служить – не мое дело. Пусть смотрят на небо и сами решают как им жить…
Я поднялся с дивана.
– А вы, как я вижу, мечтатель, философ, почти психиатр-бщественник. Романтик! – с ехидной интонацией поставил он ударение на букву «о», а я опять не обиделся. Да, не без уродства. А кто у нас совершенен? Лишь пожалел о том, что разоткровенничался про какой-то космос, про звездолет, не стоило так обнажаться в этом месте и перед этим типом.
– Я даже биться об заклад не буду, что все они в скором времени опять вернутся за стол, – хмыкнул он. – А те, кто не вернется, то, скорее всего, либо наложат руки на себя: повесятся или утопятся, найдут где место поглубже и с головой туда, либо перемрут с голоду.
– Может быть… Может быть… И такой вариант не исключен. Но, все же, удивительно, какого вы невысокого мнения о своем «войске». Что ж вы с ним в бой-то пошли? Почему не разогнали раньше? Особенно этот Михаил Сергеевич и его сподручная Татьяна Марковна. Подобных типов я не встречал уже давно. Фу! Мерзость какая! – я невольно передернул плечами.
– Что мне дали, с тем я и пошел. Не я их набирал. Все время кто-то кого-то подсовывал. И отказать нельзя… И уволить без разрешения не получится. Почти за каждым стоит то родня какая-то, то друзья, то еще невесть кто – и все люди полезные и в быту, и в делах. А что вам этот Михаил Сергеевич по душе не пришелся-то? Славный малый, любезный.
– Тем и не пришелся, что славный и не в меру любезный для вас, но во всем остальном, как водится за такими «любезными», лоботряс и разгильдяй, и здоровье у него хлипкое – каждый месяц на бюллетене, но, опять же, на хорошем окладе, а не улицы метет.
– Кто ж таких на улицу выбрасывает? – хмыкнул он. – Это таких, как вы, в дворники и дальше отправляют. А этот никогда по улице ходить не будет, только ездить по ней будет.
– Это верно, – пробормотал я. – Не пропадет малец. Пристроят. Вас же тоже без дела не оставляют, хотя и второй раз попадаетесь. В Н-ск переводят на руководящую должность. И жалеют вас, и числитесь также любезным и послушным, а результат…
– А что результат? – в его голосе зазвучали злые нотки. – Кому он нужен ваш результат? От этих «результатов» одна лишь головная боль. Если где-то, кто-то показывает ваш «результат», то все те, кто с ним как-то связаны, тоже должны меняться и начинать показывать этот самый «результат», не в пустыне живем, все-таки, не в тундре, все повязаны, все зависят друг от друга. Это значит, что все должны менять у себя и внутри себя… Хотел сказать «перестраиваться», но как-то язык не повернулся. А это так сложно, меняться-то, это безумно сложно, и, следовательно, мало кому такое может понравиться, – он помолчал, подумал и продолжил:
– Сложилась система, а система – это не я один, это много, очень много людей, и все связаны друг с другом тем или иным образом и способом. И гонят через нее, эту систему, деньги, и все, кто внутри системы, сыты и довольны, для них любые изменения хуже погибели – не нужны им изменения. А если где-то и освобождается место, то туда определяют человека из собственного окружения. Чужих не берут. Там должен быть человек такой же, как те, кто сверху, и сбоку – спокойный, уравновешенный, не дебил, млеющий от вида звездного неба, – он кинул многозначительный взгляд в мою сторону, а я опять не обиделся. Что мне обижаться? Он прав… и я тоже прав… все правы, а дела идут все хуже и хуже… Увидев, что я никак не реагирую, он продолжил, – без «завихрений» в мозгу, без «результатов», но исполнительный. А я что, особенный? – он закатил глаза, поиграл бровями. – Мне все эти изменения и новые «результаты» тоже не нужны. Мне семью надо кормить. У меня двое детей.
– Трое… – поправил я. – Ваша молодая жена на шестом месяце, глазом не успеете моргнуть, как квартал пролетит. А те двое – это у вас от первого брака.
– Вы и про это знаете?.. – он удивленно поднял брови.
– Знаю, знаю… А что тут знать-то, про это все знают, вслух не обсуждают, однако знают. Но то ваше личное дело, ваши личные дела-делишки. Меня они не касаются. Вернемся в контору. Ну хорошо… Согласен… Система сложилась… Те, кто внутри нее, сыты и где-то как-то довольны жизнью… Хотя это временное и обманчивое чувство – разве могут такие люди, как вы, например, быть довольными жизнью. А эти, ваши непосредственные подчиненные – начальнички местные, им все мало, им все время большего подавай. А рядовые сотрудники? Они-то бегают сюда за гроши. Им, тем более, мало и хочется больше, больше…
– А и пусть бегают, – он небрежно махнул рукой. – Они тоже не по конкурсу сюда попали, а через знакомства всякие, с помощью звонков и связей. Сидят здесь по собственной воле. Может они и поглядывают на небо, но лишь для того, чтобы решить брать зонтик с собой или оставить его дома.
Я прошелся по пружинистому ковру до окна, постоял недолго, посмотрел на крыши, с торчащими в разные стороны антеннами, с забитыми фанерой чердачными окошками – скучное зрелище и вернулся к дивану.
– И после этого, после такой оценки собственного предприятия, вы спрашиваете – не совестно ли мне? Вам на них наплевать, как на скучные, ненужные вещи, а они это и чувствуют и знают, а потому отвечают вам тем же – безразличием к делу. По-моему, в этих стенах о какой-то совести речь не должна идти вовсе. Закрывать надо и разгонять – единственный выход из сложившейся ситуации.
– Повыгонять людей на улицу… – он передернул плечами, – чтобы они сидели в подворотнях с протянутой рукой и смотрели на звездное небо? Они ж никому не нужны. Они и делать-то ничего не умеют. Почти беспризорники, а точнее сказать – они как рабы. Сейчас они при хозяине, а когда хозяина не будет, что с ними станет? Куда им идти? И что нужно рабам? Звезды? Космос? Свобода? Да на кой она им сдалась! Свобода это голод, это жажда, это бесконечная борьба со всем миром, это… м… м… – Владимир Иванович замычал и затряс руками, словно они были в кандалах, а он безвинно осужденный узник, требующий справедливости и потому просит об этом у всего мира… и продолжил, – это… это кошмар, а не жизнь! Это суета, это беготня, это вечное беспокойство о куске хлеба, это страх, что он не сможет прокормить ни себя, ни свою семью, если такова у него еще сохранится к тому времени, а не разлетится вдребезги. А раб, он накормлен, у него есть где спать, там тепло и сухо, и он при деле, и ни о чем не беспокоится, потому что знает, что это бесполезно.
Единственно, что нужно хозяину – это чтобы раб считал свою жизнь нормальной, пусть не счастливой, но устроенной, и не только не строил планы всякие выбраться на свободу, но даже не мечтал о какой-то там глупой, не нужной никому свободе, чтобы раб был доволен, а для этого ему, рабу этому, надо внушить одну простую мысль, что у него все хорошо, и тогда ему многого не надо, он будет довольствоваться малым, но и трястись от одной лишь мысли, что вот хозяин придет, и с него снимут кандалы, – он опят потряс руками над столом, – его освободят и выбросят на улицу, в этот мир, на вольные хлеба.
А как внушили ему или ей мысль, что у него все хорошо, как у других, то и хлеба можно поменьше давать, и воды… – он задумался на мгновение, – нет… воды, питья всякого надо давать как положено, без питья человек долго не протянет, без еды может прожить подольше, а вот без питья – вряд ли. Можно и платить поменьше – все равно доволен, ведь. Но здесь самое главное – это не перейти грань, не нарушить то тонкое равновесие, когда это «доволен – не доволен» перекосится на сторону, где «не доволен», и совсем плохо будет, когда «всем очень не доволен», тут требуется осторожность, знание материи…
– А можно еще проще все сделать, – добавил я, поддержав эту тему и игру в размышления про судьбы этого мира. – Добавить в сложившуюся систему, сделать ее такой, чтобы бежать было некуда, чтобы все везде было одинаково. А когда бежать некуда… Всюду одно и то же… И платят одинаково, и кормят одинаков, и питье одно и то же, и мебель почти одинаковая, и холодильник, и машина… Тут у многих и пропадают мысли о «результате», о поиске такого места, где можно было бы добиться «результата», проявить себя, показать с какой-нибудь особенной, яркой стороны – все ж везде одинаково, зачем надрываться, правильнее будет – не высовываться. Но именно при подобных обстоятельствах у некоторых и начинают появляться мысли о свободе.
– Опять вы про свою «свободу» начали! – взвился Владимир Иванович и почти бросил пустой стакан на стол, так что тот зазвенел. – Нет её, свободы этой! Не-ет! Сами знаете. Кто где сможет приткнуться, там и осядут опять и будут судьбу за это благодарить. А где в этом городе можно пристроиться? – только за столом. У нас и учить-то толком никто не учит. Сказки какие-то рассказывают про звездное небо, а люди потом выходят на работу, а там… – он устало махнул рукой. – Там либо бумаги с места на место двигаешь, либо нужно крутить ржавые гайки. Согласитесь, таким способом мы до космоса вообще никогда не доберемся. А что касается свободы… – он задумался, сложив пальцы шалашиком. – Свобода – это самое сложное, что есть на этом свете. Это сложнее вашего звездолета в миллионы раз. И если полетам к вашим звездам где-то как-то учат, то как пользоваться этой «свободой» не учат нигде. Учат как выжить в рабстве, но как выжить, когда «свободен» – об этом не говорят ни слова, нигде, ни в одном учебном заведении, которых у нас великое множество, нет ни одного курса, нет людей, которые бы знали и смогли объяснить.
– Согласен, – задумчиво пробормотал я.
А что?! Прав мужик. Но… тут я вспомнил про его молодую беременную жену. Как она отнесется к переезду из большого города в Н-ск? Согласится ли на эту жертву, а для нее это будет именно жертвой. Она же на другую жизнь рассчитывала, а тут раз! и стала женой декабриста. «И зачем он поперся на эту Сенатскую площадь?» – будет она шептать в трубку своим подругам, прикрывая рот ладошкой, чтобы сам не услышал.
Скорее всего, не согласится… А он, к тому же, и не декабрист. Он такой же раб, как и все, только с большими благами.
– Я хоть и мечтатель, но тоже не оптимист, – продолжил я. – Согласен, что свобода – предмет очень сложный. И нет у нас системы, которая занималась бы тем, что определяла какие у кого способности и дальше пристраивала на соответствующее место, чтобы и человеку было интересно на работе и пользу можно было бы получать от него по максимуму, то есть освободила бы его хоть немного, хотя бы в некоторой степени. Как там говорили в те времена про способности и потребности?
– От каждого по способностям, каждому по потребностям, – буркнул он. – Так, когда-то писали на плакатах, но дальше этого, дальше пустых слов, дело не пошло…
– Да… Дальше этого не пошло, потому и провалились опять на несколько уровней вниз… Но… – я задумчиво обвел взглядом комнату. – Знаете… Если рождаться с мыслью, что жить можно лишь в ловушке, где лежит корка хлеба или сухой завиток сыра, и жить все время в страхе от того, что неизвестно что и как с тобой сделают те, кто расставил эти ловушки: то ли убьют, как крысу, то ли пожалеют и отнесут в какой-нибудь зоосад, где условия содержания лучше, чем в ловушке, то… лучше, наверное, выпрыгнуть из чрева на первом-втором месяце беременности, в виде кровавого ошметка, и на этом все закончить… И, может быть, начать все с начала, если перерождение возможно, как считают буддисты. Не знаю… Не знаю… Сам не в лучшем положении…
Мы оба замолчали. Один сидел в углу дивана, смотрел перед собой на рюмку на столе, о чем думал – неизвестно. Может быть, про то как будет объясняться с беременной женой, а они, эти беременные жены, очень нервными становятся – это я знаю по собственному опыту. А может быть, продумывал варианты, альтернативные переезду в Н-ск. Он же человек со связями, наверное, кто-то уже предложил еще какое-нибудь место в другое конторе. Я же стоял и смотрел на светлый квадрат окна. Стало почему-то грустно, даже тоскливо.
– Но, все-таки, что-то нужно делать. Вот так, как сейчас оставлять нельзя.
– Слышал я уже много раз это – «оставлять нельзя», «нужно что-то делать», – он попытался улыбнуться, но улыбка его больше напоминала оскал. – Это значит, что чем-то или кем-то придется пожертвовать. У нас все «действия» происходят с жертвами. Опять придется жертвовать. У нас вообще без жертв не получается. Любой эксперимент заканчивается жертвами, но не пожертвованием. Но и оставлять так тоже нельзя – здесь вы правы. И как развязать этот узел?
– Развязать не получится. Слишком все затянулось. Придется рубить.
– А кто рубить-то будет?
Я кивнул головой в сторону двери.
– Они.
– Хотите дать им пинок под зад, чтобы они за колья взялись? – ухмыльнулся он.
– Ну… За колья они вряд ли возьмутся… Слабоваты для таких подвигов, к тому же образ жизни, опять же образование, те же знакомые, что устроили их сюда, не позволят им опуститься до этого… – я стоял, засунув руки в карманы, смотрел себе под ноги. – А почему вы, Владимир Иванович, не можете представить себе такой вариант, что кто-то из них не вернется на службу в контору, а пойдет учиться дальше, откроет какое-нибудь свое дело… Телескопы, например, будет собирать или продавать… Отыщет каких-нибудь, похожих на него мечтателей, и начнут они наконец что-то делать. Почему вы такую возможность не рассматриваете?
Он бросил на меня быстрый взгляд и пожал плечами.
– Сомневаюсь я, что среди них кто-то такой остался. Они без подчинения хозяину своей жизни уже не представляют и мыслят исключительно понятиями «исполнить приказ», «выполнить поручение», «сделать все по правилам»…
– Еще «удовлетворить начальство», – хмыкнул я. – Просто вы сами давно уже перестали искать, пробовать, пытаться что-то сделать, даже перестали учиться. Вас вполне устраивает сложившаяся жизнь. Всякие эксперименты – это ненужное беспокойство, что-то новое может привести к непредсказуемым последствиям, за которые по головке вас не погладят. Верно?
В ответ ни звука.
– Ладно. Верно это или нет – не нам решать. Судьба этой конторы уже определена, судьба этих людей…, как говорится, в их собственных руках, – я вынул руку из кармана и посмотрел на часы. – К сожалению, мне надо идти, Владимир Иванович. Пора. Да и у вас дел много.
Он задумчиво кивнул головой, но с дивана не встал. Сидел, развалившись, вытянув ноги, прижимал к губам кончики пальцев, не моргая смотрел на носки своих ботинок.
– Идите. Я вас более не задерживаю.
Все-таки изрек он эту фразу, что «меня более не задерживает». Значит, не поедет он ни в какой Н-ск, здесь останется, как и все они. Я направился к двери, но на полпути остановился и, обернувшись, сказал:
– Да… вот еще что… Владимир Иванович, дорогой, как вы сами уже догадались – вы меня не знаете. Мы с вам хорошо поговорили, но вы меня не знаете. И нигде мою фамилию не упоминайте, пожалуйста. Так будет лучше для всех: и мне спокойнее, и для вас также.
В ответ ни слова.
– Вижу, договорились, – я пошел к двери. Все-таки последнее слово осталось за мной.
В приемной уже толпились какие-то люди. Я приоткрыл дверь и постарался проскользнуть незамеченным, но бдительная «хорошенькая головка», все же, заметила мое движение и сразу же обратилась к одному из тех, кто мечтал попасть на прием к директору.