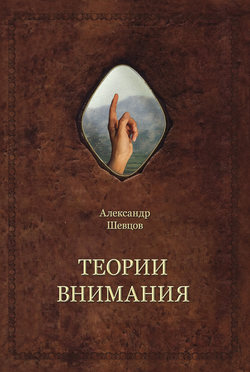Читать книгу Теории внимания - Александр Шевцов (Андреев) - Страница 6
Часть первая. Самое общее понятие о внимании
Глава 3. Немного о познании и созерцании
ОглавлениеМне представляется, что самым главным орудием познания является видение или созерцание. Под видением понимается мною нечто превосходящее зрение. Условно говоря, это зрение не телесное, а то самое, которое мы производим «внутренним оком». Вероятно, это видение души или чего-то за ней. Чтобы говорить о таких вещах определенно, необходимо проделать исследование человеческой способности познавать.
Я такого исследования не проделал и пока ограничиваюсь некими самыми общими штрихами, позволяющими наложить некие рамки или пределы на тот материал, который избрал своим предметом. Это рамки, определяющие мой предмет, – в данном случае, внимание, вширь.
Конечно, это весьма условное «вширь». Оно всего лишь позволяет мне хоть как-то собраться, отсекает лишние метания и удерживает даже не столько в рамках предмета, сколько в рамках того орудия, с помощью которого я собрался этот предмет исследовать. Условно говоря, я хочу внимание «рассмотреть», что бы это ни значило. И буду стараться его созерцать.
Тут уместно вспомнить, что теория, ставшая основным признаком науки, переводится с греческого именно как созерцание. Иными словами, чтобы родилась теория в научном смысле слова, необходимо, чтобы случилось подлинное созерцание, которое и будет впоследствии записано в виде некоего трактата, описывающего изучаемый предмет.
Иначе говоря, теория в науке – это запись видения или описание предмета, созданное благодаря его созерцанию.
При этом исходно предполагается, что действительно научная теория рождается не тогда, когда профессионал от науки пишет большую и обязательно скучную, поскольку непонятную, книгу. Теория должна прибавлять некое качество, и если вдуматься, то это качество познания. А точнее, это увеличение количества знания, которым обладает человечество.
Следовательно, действительная теория – это описание того нового, что открылось при созерцании. А значит, созерцание – не просто рассматривание предмета с помощью внутреннего взора. И внутренний взор может быть таким же тупым, как у барана при виде новых ворот. Это значит, что действительным созерцанием, то есть тем видением, которое рождает теорию, мы можем называть только такое созерцание, которое прибавляет знание.
Но где его взять?
Только из действительности. Иначе говоря, из того, что разглядываешь. Оно там, конечно, не хранится. Знание создается мною, а не предметом изучения. Но сам предмет можно рассматривать с обычных сторон, то есть со сторон, которые уже изучены и познаны. И тогда новое знание просто не может родиться, хоть все глаза прогляди. Это очевидность.
Неочевидно, почему такое разглядывание предмета нельзя считать созерцанием? Впрочем, считать или называть его созерцанием, наверное, можно. Кто же запретит?! Вопрос в том, чем оно отличается от того созерцания, которое приносит знания и становится теорией?
Очевидно, тем, что, глядя на уже известное, познанное, ты не разглядываешь действительность, а узнаешь ее! Иными словами, ты непроизвольно достаешь из сознания знания, которые хранятся в виде образов, и сквозь эти образы и рассматриваешь свой предмет. И если это произошло, то, что бы ты ни сказал, оно непроизвольно вторично, потому что включает в себя уже известные образы.
Рождается еще одно описание того же самого, возможно, высказанное иными словами. Но знание от этого не прибывает, а твое сочинение становится еще одним слоем культурных помех на пути к истине.
Похоже, новое открывается не тогда, когда мы применяем привычное разглядывание предмета любым взором, узнаваемое нами как его созерцание. А тогда, когда мы применяем это разглядывание к неведомым, не узнаваемым его сторонам. Иначе говоря, чтобы случилось созерцание, надо владеть как способностью разглядывать вещи, так и чутьем на неведомое.
Уже одна способность разглядывать может оказаться загадкой, поскольку мы привыкли глядеть глазами и считаем, что ими и разглядываем. Очевидно, это ошибка понимания, вызванная недостатком культуры самоосознавания. И мне кажется, что она из разряда тех, против которых когда-то выступал епископ Беркли.
Заявив, что нет мира «снаружи», что есть только мир «внутри» – в сущности, мир образов, который мы и рассматриваем, Беркли вовсе не отказывал миру в действительном существовании помимо человека. Он был не дурак, да и верующий человек, что значит, что для него снаружи было достаточно всего, включая Бога. Беркли лишь говорил, насколько это позволял ему его язык, о том, что мы не видим настоящего мира, а видим мы те образы этого мира, что живут в нашем сознании.
И означает это для меня то, что видение, происходящее за глазами и без глаз, гораздо важнее физического зрения. В том смысле важнее, что оно чаще всего занимает гораздо больший объем, чем восприятие всеми телесными органами чувств. Мы как бы глухи, слепы и немы, поскольку предпочитаем глядеть не на внешний мир, а в мир своих переживаний. И это испытывал каждый, когда, к примеру, гуляя по улице, вдруг обнаруживал, что в задумчивости не заметил, как оказался в совсем другой части города.
Мы все изрядно аутичны и умеем отключать те органы восприятия, которые непосредственно не нужны. Что называется, «тихо сам с собою я веду беседу», не замечая происходящего вокруг. Это, конечно, психологическое упрощение того, что хотел сказать Беркли, но зато это знакомо каждому.
Однако и это не все. Иногда нечто снаружи привлекает наше внимание и заставляет себя разглядывать. И мы определенно можем свидетельствовать про себя, что глядели не внутрь неких своих переживаний, а разглядывали нечто с помощью глаз. Но вот вопрос: с помощью глаз или глазами мы это разглядывали?
Иными словами, чувствуем ли мы при таком разглядывании, что внутренний взор никуда не исчезает, если глаза глядят, что он смотрит прямо сквозь тот поток восприятия, которым глаза снабжают сознание?
Иными словами, есть телесное зрение или его нет, внутренний взор сохраняется всегда. Он-то и может созерцать. А может и не созерцать.
Чтобы созерцать, как уже было сказано ранее, он, как и телесные глаза, однажды должен вырваться из плена переживаний и поглядеть не сквозь образы имеющихся знаний, а свободно, чисто. Чисто здесь означает без малейших примесей того, что уже имеется в памяти.
Вот если такое видение случается, тогда появляется возможность создать совершенно новый образ, который станет после этого твоим личным знанием. А если его перевести в запись, то может оказаться, что и все человечество посчитает его тем, что надо знать.
Может и не посчитать. К примеру, просто не рассмотрит сквозь твою запись. Или не разглядит ценность увиденного.
Следовательно, чтобы научиться созерцать, необходимо развить чувство новизны, то есть научиться видеть, что нечто, что сейчас тебе открылось, совершенно ново и не имеет образов в твоем сознании.
Новизна пугает. Людям свойственно от нее закрываться. Потому мы и накапливаем облака образов, которые, как нам кажется, объясняют устройство мира, в котором мы живем. Страх перед новизной – это проявление большого страха жить. А накопление знаний о мире – воплощение задачи выжить.
Выживание очень важно для человека. Особенно для человека, лишенного бессмертия, поскольку у него отобрали душу. Однако естественное развитие человеческого существа показывает, что выживание действительно важно лишь до того срока, пока ты не почувствовал, что тело твое развилось достаточно, чтобы ты мог решать главные задачи своей жизни. В сущности, главные задачи того, что называется воплощением у людей, которые еще имеют души.
И мы все помним те примеры из истории, когда люди свободно жертвуют телами, если перед ними встает вопрос чести. Или жертвуют здоровьем, если этого требует творчество. Это простое бытовое подтверждение того, что мы все прекрасно чувствуем свои главные задачи, которые никак не телесны. Эти задачи приносят с собой души, а тела ими рассматриваются лишь как орудия, необходимые для воплощения на Земле.
Поэтому в рамках прикладной психологии приходится признать, что выживание важно лишь условно и временно. Оно не покрывает всей жизни. Часть воплощения мы живем так, что могли бы пожертвовать телом ради главного. Но часто забываем об этом главном и потому влачим существование, в сущности, уже не сражаясь за выживание, но и не умирая, пока не израсходовали запас сил.
Если в такой период жизни главная задача вспомнится, человек сможет вершить чудеса. Но жизнь устроена так, что мы должны побеждать не только внешние сложности, но и внутреннее препятствие – нашу склонность терять осознавание и присыпать с открытыми глазами. Это и есть то, о чем говорил Беркли, если упрощать.
Мы боимся жить и потому погружаем себя в облака образов, звавшихся у мазыков лопотью, которые держат нас в сноподобных состояниях и не дают видеть действительность. И нас это устраивает.
Однако однажды приходит время, когда потребность вырваться из этой ловушки становится так сильна, что ты начинаешь чувствовать вкус таких состояний, в которых тебе удается заметить непознанное. Даже если эти мгновения случаются нечасто, они становятся тем, ради чего ты живешь. И в них сладость, потому что они расширяют сознание.
Точнее, расширяют ту часть сознания, в которой ты свободен от лопоти и где есть ты, а не образы чужих знаний. Чтобы созерцание случалось, к таким состояниям надо развить вкус. И делать усилие, позволяющее вырваться за пределы того, что тебе уже ведомо.
Именно тогда приходит знание.
Но это личное знание. И перед тобой встает вопрос: оставить его лишь для себя или сохранить для всех? И если ты ученый, то, значит, однажды, в одной из неведомых и давно забытых жизней, ты принес торжественную клятву богу, который в Греции звался Аполлоном, а на Руси, кажется, Семарглом, что посвятишь свою жизнь охоте за знаниями ради лучшей жизни людей.
Лучшая жизнь – это вовсе не более сытая земная жизнь. Земная жизнь – это выживание. А лучшая начинается после нее, после того как выживание обеспечено. Тогда, когда решены все основные задачи, ты начинаешь жить по душе и ради души. Это и считалось лучшей жизнью.
Вот ради нее ты и клялся кому-то из богов однажды. Впрочем, это мог быть вовсе и не бог, а, к примеру, титан вроде Прометея или асура вроде Варуны…
Какая разница! Главное, что, если ты настоящий ученый, эта клятва живет в глубине твоей души. А душа твоя знает, кому ты приносил свою клятву и чего она стоит. Впрочем, чего она стоит, могу сказать и я.
Эта клятва стоит свободы! Ты не обретешь ее, пока не сделаешь то, что обещал. Русские сказки помнят такие клятвы, когда ты обещаешь служить какому-нибудь волшебнику долгие годы и служишь, как Геракл, пока не очистишь все авгиевы конюшни…
Как ни смешно, но то, что мы вышвыриваем наружу при этой чистке, – это те описания действительности, которые удалось добыть при созерцании.
Как ни обидно, но все, что выходит из-под моего пера, – это дерьмо…
Хотя бы потому, что оно уже превращено в знания, а значит, служит для того, чтобы замазывать чьи-то глаза и предоставлять им как можно больше возможностей для узнавания вместо созерцания.
Однако перст, указывающий на луну, тоже не луна. Но для имеющего вкус к неведомому он может послужить обрывом, с которого можно сорваться…