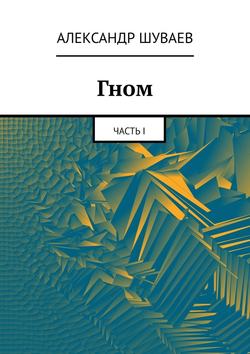Читать книгу Гном. Часть I - Александр Шуваев - Страница 3
Часть первая. Зимний планетарий*
*«Марс», «Уран», «Малый Сатурн», «Большой Сатурн», полу-мифический «Юпитер». Кодовые названия стратегических наступательных операций Красной Армии, проведенных или только запланированных к проведению зимой 42—43 годов.
Из интервью 1958 года
ОглавлениеР. Поверьте, я очень хорошо понимаю трудности описания вещей, которых собеседник не видел и не может себе представить. Но вот вы все-таки имеете учеников. Утверждаете даже, что некоторые пошли куда дальше вас во всех смыслах. Значит, – нашли способ и слова объяснить. Поэтому, все-таки: каким способом вы воспринимали вещи, которые в то время описывали только на языке математики и никак не могли представить себе?
А. Б. У меня вообще достаточно сложное отношение к математике. Далеко не всегда, но очень часто ей приходится играть роль костыля, подпорки там, где у человека не работает образное мышление. Всего-навсего по причине того, что явление лежит вне его чувственного опыта. Я приведу пример. Не из тех времен, из куда более поздних. Вот несколько лет тому назад была модной тема «добротных квантовых полостей». Это такая микрокоробка, в которой отдельный квант может, отражаясь от стенок, прыгать теоретически вечно. И пошли обсуждать, как придать стенкам «атомную гладкость»! И давай выдвигать методы, от которых у меня волосы вставали дыбом. А математика! А вычислений!!! Так вот разница в том, что для меня вопрос о «гладкости» не стоял с самого начала. Я-то знаю, что он не имеет смысла, и внутренняя поверхность такой полости будет «сложена» внешними оболочками атомов, которые более-менее можно представить в виде сферических. «Гладкий» на таком уровне обозначает «регулярный». Такой, что при данной длине волны кванта его каждый раз будет встречать одинаковый энергетический уровень. Поэтому я с самого начала делал полость, как глобулу, свернутую из такой нити, что получается сплошная оболочка. Дальнейшее было делом техники.
Р. Так просто?
А. Б. Пожалуй. Вот только из одинаковых шариков не всегда удается сложить оболочку, которая была бы сплошной для того фотона, который нужен. Этакие заковыки у физики с топологией на стыке. И чтобы при этом была стабильной. Поэтому состав «стенки» почти всегда имеет… гетерогенный атомный состав. Это несколько усложняет задачу. Характерные для комбинаторики объемы вычислений таковы, что любой ЭВМ хватит на миллиард лет непрерывной работы. Все зависит от тех способов, которыми сокращается тупой перебор вариантов. Причем запросто может выйти, что, получив перспективный результат, начинаешь его интерпретировать в реальные атомы, и вдруг видишь там гелий, неон, плутоний или вовсе калифорний… То-то бывает радости… В результате мы начали работу по топологически-обусловленной самосборке оболочек, как только узнали о существовании самой проблемы, а на другой стороне все еще продолжали дискуссии о гладкости… там технологи не так хорошо сопрягаются со специалистами по квантовой механике. Потом они пошли нашим путем: сами дотумкали, или разведка постаралась. Но и с этого момента, пока наши ближайшие преследователи разработали полости для пяти частот, мы довели двадцать две… Всего, таким образом, пятьдесят одну.
Р. Простите, а практическое значение…
А. Б. Это вы меня простите. Не подумал, что вы вовсе не обязательно должны быть в курсе. Речь идет об элементной базе для вычислительной техники. В частности – для запоминающих устройств. Кажется, есть перспектива сделать их универсальными, сведя к минимуму разницу между ОЗУ и ПЗУ.
Р. Вы не думайте, я уроки учил. Понимаю, что значат в наше время передовые позиции в вычислительной технике. Это значит быть впереди и во всем прочем, верно? Скажите, и это все только благодаря особенностям мышления вас… и ваших учеников?
А. Б. Это было близко к истине… и до недавнего времени. Нам теперь все чаще удается делать специализированные вычислительные устройства… для решения узких задач, понимаете? Где все эти особенности о-отличнейшим образом моделируются. Мы сокращаем и сокращаем перебор, движемся к знанию и результату все более коротким и прямым путем… Х-хэ, я и не подумал, что вырисовывается парадокс: я говорил о моем сдержанном отношении к математике, а на деле получается так, что мы просто делаем более подходящую математику. Основанную не на формальной логике, а на той, которой мы пользуемся на самом деле.
Р. «Мы» или «вы»?
А. Б. Безусловно, «мы». Я – носитель крайнего на данный момент, но далеко не предельного варианта именно что нормального мышления, получившегося в результате дикой случайности. Почти чистый образец, изучив который, люди лучше поняли, каким именно способом думают на самом деле.
Р. Но не до конца?
А. Б. Не до конца. Окончание этого процесса может привести к непредсказуемым последствиям. Совершенно непредсказуемым.
Р. Вы считаете себя первым?
А. Б. Не такой простой вопрос, как кажется. Сходным способом мышления обладал Эйнштейн, но сравнивать нас трудно. С одной стороны – он стартовал в новый способ мышления, будучи ученым-физиком, а я – полуграмотным рабочим-мальчишкой. С другой, – он самородок, а я – результат очень специфического обучения и еще более необычного практического опыта. А еще у меня с самого начала не было предрассудков «научного» круга. Мне и в голову не приходило задумываться об относительности массы или времени. Как вы не задумываетесь, на сколько именно сантиметров протянули руку, чтобы взять карандаш… Кстати, – потом тоже не думал. По крайней мере, на протяжении долгого времени. Он, надо сказать, даже не пробовал постулировать и формализовать свой способ думать. А у меня… У меня с этим тоже были большие затруднения, но меня поправили. Было, знаете ли, кому.
Прототип I: образца 34
– Берович, ты еврей?
– Н-не знаю. И сам деревенский, и родители из Телепневки, и деды с бабками. Крещенными считались, а так – не знаю, может и еврей… А почему вы спрашиваете?
– Да фамилия у тебя. И разговоры тоже самые такие… еврейские короче. Можешь починить «Рейнметалл» или нет? Да или нет?
– Так там, товарищ Серегин, патрубок лопнул. На гидравлике. Потому и поршень покоробило. Хорошо – остановил его Вавилов, а то и цилиндр бы того… Нету этих запчастей. Поставить – дело нехитрое, а вот запчастей нету. К фирмачам надо.
– Ты понимаешь, что без этого станка весь план летит, ты понимаешь, а? Это же прямое вредительство выходит! Кто из мастеров такие запчасти может?
– Н-не знаю, – Берович в сомнении покрутил головой на длинной, кодыкастой шее, – все-таки наверное нет. Сделать – сделают, но как работать будет, это хрен его знает… В поршне так точно нужного зеркала не наведут… Не было бы хуже, мало того, что запорем станок, так еще фирмачи пеню наложат, сопровождение бросят. За контрофакт.
Он произнес мудреное слово с видимым удовольствием, и это ввело завцеха товарища Серегина в еще большее раздражение. Некоторое время он исключительно грубо, но при этом скучно и однообразно, с бесконечными повторами ругался, – за чем Берович наблюдал с непонятным интересом, – а потом успокоился:
– А ты сам? Как-то там по-своему – можешь?
– Так ведь не положено, – с сомением протянул молодой наладчик, он же ремонтник, – говорю ж, – контрафакт…
– Слушай, Берович, ты что – еврей? Можешь или нет?!
– Ну, – промямлил тот, старательно глядя в сторону, – вообще-то могу…
– Так чего столько времени мозги засирал!? А?! Нет, ты все-таки еврей. Нормальные люди так себя не ведут.
– А за вредительство отвечать кто будет, если что?
– Да ты же и будешь, можешь не сомневаться.
– Да не, Валентин Трофимыч, работать-то оно будет… Только ведь и так просто могут донести.
– А ты помалкивай больше, помалкивай, – оно и не узнает никто…
А он – пошел к самодельному кристаллизатору собственной конструкции и, как обычно в последнее время, и все чаще, сделал. Он пока, по молодости лет, даже не догадывался, что стал на заводе своего рода палочкой выручалочкой. Не то, чтобы знаменитостью, но что-то в этом роде. Это в большей степени характерно для традиционного общества: существуют некие жизненные реалии, о которых все знают, но почти не говорят, поскольку не принято и противоречит официальной морали. Вот, говорят, на деревне непременно есть колдун, шлюха (как вариант – сестры-шлюхи, непременно дочери шлюхи-матери), вор и придурок. Все про них знают, а говорить не принято. А на заводе был Саня, тоже постепенно становился такого вот рода реалией. Поколдовав когда час, а когда сутки, он делал любые детали, причем хорошо и надежно. Детали шли взамен вышедших из строя, а еще на немудрящую технологическую оснастку, которая крепко помогала вытянуть план. Он это как-то сразу видел, что за чем соединить, да как за один проход сделать три операции.
А потом на заводе случился аврал. Худой, с раздвоенным подбородком дядька, очень похожий на какого-то немецкого черта, статую которого он видел на экскурсии в музей, метался по заводу, переворачивая все вверх тормашками. Ругался, грозил и пугал, полномочия у него и впрямь были такие, что напугаешься, но большого толку не было. Чем больше пугалось начальство, тем меньше соображало и тем меньше порядку было. Дядьку тоже можно было понять: сроки по двигателю летели, и если опытный экземпляр заявленного «М» не поспеет к испытаниям, то судьба его, скорее всего оказалась бы незавидной. Посадили бы – почти наверняка, но могли и расхлопать под горячую руку. Запросто. И дело-то поначалу показалось немудреным: есть краденый «француз», осталось слизать так, чтобы подошло к родным осинам и нельзя было бы придраться, – но не тут-то было. Базы были наперечет, нагрузка страшная, выбирать не приходилось, и вот на этой, конкретно на этом заводе, – ни черта не выходило. Аккуратные, изысканной формы детальки «француза» тут изготовить не могли. Когда пробовали, то получалось такое, что оставалось только бессильно материться.
Директор глядел на начальника цеха красными от недосыпания и хронического испуга глазами, молчал, а потом вдруг высказался:
– Валь, дай ты этому черту своего Санька под начало, а? Пусть только уебывает скорее, сил нет…
Он, похоже, не врал, и сил у него действительно не осталось. Иначе попросту приказал бы, как делал всегда. Не заржавело б.
На следующий день пришлый конструктор в первый раз получил то, что ему требовалось. Не придерешься. Так у них и шло некоторое время: Владимир Яковлевич (так звали дядьку) заказывал Сане Беровичу ту деталь, изготовление которой казалось ему самым узким местом в создании образца, и следом безотказно ее получал. Порочность этой схемы выявилась очень скоро: Саня был один, а всяких деталей требовалось много. Так что когда наступала пора соединять те детали, которые делал Берович с теми, которые изготавливали все прочие, Владимир Яковлевич опять начинал мычать от безнадежной злости и бессильно материться в равнодушное пространство. На этом заводе ему постоянно казалось, что он попал в бочку с клеем. Все получалось в несколько раз медленнее, чем могло бы. Он почти что пал духом. Настолько, что как-то раз дрожащим голосом проговорил:
– Хороший ты парень, Саня. И работаешь хорошо. Жаль только, на десять кусков тебя поделить никак не получится. А без этого никак.
– Почему?
– Да потому что ты, как ни крути, можешь сделать только один узел зараз. А все никак не сделаешь.
И вот тогда-то Саша Берович первый раз в жизни хмыкнул в разговоре со старшим.
– Почему? Сделаю. Над закладкой – да, покумекать придется подольше. А на само изготовление – так почти што никакой разницы, одна деталь, или, к примеру, пятьсот… Вот, к примеру, если с емкостью помогут, – так и сделаем. Никакой разницы.
Конструктор в очередной раз поставил руководство на уши, и с емкостью Сане помогли прямо на следующий день. Еще через два Владимир Яковлевич получил полный комплект деталей. Один к одному. Не в пределах допуска, а вообще без отступления от указанных размеров. С такой чистотой обработки, что к черному зеркалу поверхности страшно было прикоснуться. Двигатель можно было брать – и собирать. Конструктор осторожно вздохнул:
– Сань, ты чудо природы. Но человек ты дикий. Знаешь, как по-научному называют всякие такие моторы? Нет? Те-пло-вы-е двигатели. Ты знаешь, сколько жара вырабатывается на таком, к примеру, моторе? Нет? За один час – на банный день для всей заводской смены. Полностью. От того жара все расширяется, но металл – он тепло пропускает. А это ж у тебя не металл, ведь нет?
– Так крепче. И расплавить труднее.
– Говорю ж – дикий ты. Потому-то и материалы подбирают, и допуски под них. Понял?
– Понял, – кивнул Берович, что-то прикинув, – четыре емкости. И току, как на сварку, на всю ночь.
С током было худо. Так худо, что пришлось отключать даже рабочее общежитие. Соврали, что авария. Зато утром конструктор, отодвинув в сторону бездыханное тело Беровича, с сопением похватал кое-какие детали из новой партии и поволок их на стенд, только что смонтированный на заводе ценой невероятных ухищрений. На Саню, понятное дело, даже не обернулся, потому что было не до того. После этого пришлось делать заново только кое-какие мелочи, и мотор собрали. До положенного срока время даже еще осталось, и конструктор, обнаглев вконец, запросил у Беровича детали, которые, по его мнению, изготовить было и вовсе невозможно: нечто из разряда «нарисуем, будем жить». Получил. К этому времени конструктор и восемнадцатилетний рабочий достигли почти полного взаимопонимания, и на государственные испытания было представлено аж два варианта опытных двигателей. Из которых оба успешно отработали положенное количество времени. Однако же не обошлось без конфуза: второй вариант, тот, который с «наглыми» деталями, оказался по всем статьям лучше «француза»: целых восемьсот сорок сил против шестисот восьмидесяти у прототипа при втрое большем ресурсе.
Лев Шестаков отлично помнил, как произошло его первое знакомство с «косичкой». Это ему представили, как «Як – 1», но машинка отличалась от неплохо знакомого ему самолета уже на вид. Она даже с первого взгляда выглядела какой-то уж слишком аккуратной, настолько, что даже казалась меньше и тоньше привычного ему «Як – 1». И вызывала недоверие, как вызывает недоверие у простого советского человека все, что кажется ему слишком изящным. Наверное, – капризна, как дорогая курва, требует деликатного отношения и вообще… слишком нежная. А военпред, перегнавший машину сюда, положил ему на плечо бугристую лапу и сообщил, что: «Это – надо попробовать самому».
Он – попробовал. И согласился, дурак, что, во-первых, попробовать стоит, и, во-вторых, пробовать надо непременно самому. Потому как чего такого, на самом деле, мог знать военпред? Да, двигатель на самом деле возносил ее вверх, как кленовую летучку, как пух одуванчика. Да, скорость почти на семьдесят километров выше. Куда охотнее слушается руля и на двадцать минут дольше держится в воздухе на одной заправке. Это военпред оценить мог. А вот то, что нарядная лаковая обшивка пробивается пулей 7,62 только под прямым углом, почти в упор, он знал? А то, что, будучи пробитым, материал этот не рвется, не разрушается, не «ведется», и подбитая машина, превращенная буквально в дуршлаг, не разваливается в воздухе, если ее только откровенно не взорвать? Вряд ли. Кроме того, материал планера не деформировался, не плавился и не горел, и поэтому там ничего, никогда не заклинивало, а чтобы прострелить блок цилиндров, требовалась, как минимум, пушка. Радовало также то, что прозрачный материал «фонаря» оказался существенно прочнее обшивки, но военпред, понятно, вряд ли догадывался и об этом. Откуда? Это стало ясно потом, когда пилоты полка вдруг стали замечать, что немцы – не такие уж неуязвимые, непостижимые, непредсказуемые, почти мистические существа, какими казались сначала, когда резали сталинских соколов, как хотели, а их самих сбивали только случайно, сдуру, не понимая, как это получилось. Когда выжило несколько «ворон», уже угодивших под внезапную атаку, а фашисты обнаружили, что категорически не выдерживают «плотного» группового боя и имеют шансы только во внезапных атаках. Новички теперь успевали оглядеться и начали кое-когда попадать, «мессеры», дымя, спешили восвояси, а «юнкерсы» сбрасывали бомбы где попало, теряли строй, а иной раз и падали. Тогда начальство странным образом не догадывалось, что машины одного типа могут оказаться существенно разными машинами, и «косички» давали кому попало. Впрочем, довольно скоро эта практика прекратилась вроде бы как сама собой, «косички» явочным порядком оказались у ведущих асов, затем – у «стариков», сумевших пережить три-четыре боя. А потом был создан их полк, и «косички» впервые сказали свое веское слово в этой войне.
Под Демянском сложился своего рода кровавый пат, необыкновенно тяжелый для обоих сторон, когда ни Красная Армия не могла пробить оборону немцев, окончательно задушив 2-й корпус, ни у вермахта не получалось восстановить полноценное сообщение корпуса с главными силами. Почти месяц войска рвали жилы в бесплодных атаках, а потом Василевский понял, где находится истинный ключ позиции, и был создан, собран по всему фронту их полк – и посажен в полном составе на «косички» «Як – 7С». Надо заметить, что командир высокого уровня становится полководцем, стратегом, как правило, именно так, как бы одним скачком: именно в тот момент, когда в мешанине сил, донесений, символов на картах прозревает некое место или обстоятельство, воздействие на которое решает исход всей баталии. Разумеется, без врожденных способностей, подготовки и боевого опыта этого не бывает, хотя и был случай, когда это состоялось в первом же сложном сражении*, но сам по себе переход неизменно оставляет впечатление именно скачка. Он необратим. После этого командир начинает понимать, что именно и с какой целью следует предпринять для того, чтобы с наименьшими усилиями и потерями остановить, или завести в тупик, или разгромить и уничтожить врага. А окружающие, вне зависимости от положения и званий, как-то проникаются, начинают считать человека лидером, лицом, заслужившим и имеющим право принимать решения.
Дело в том, что, когда кольцо окружения 20 февраля окончательно сомкнулось, снабжение группировки осуществляла, хоть и с крайним напряжением сил, транспортная авиация. Чтобы прикрывать драгоценные транспортники, была выделена специальная истребительная эскадрилья. Вот над ее-то аэродромом и обозначился впервые вновь созданный полк. Проштурмовали, сбросили несколько десятков мелких бомб, уничтожив и повредив десятка два машин, одного сожгли, когда он только начал выруливать на взлетную полосу, двоих с наслаждением, сверху со встречных курсов, свалили сразу после взлета, не дав разогнаться и набрать высоту. Разумеется, это было далеко от нокаута, и разгром базы был далеко не таким сокрушительным, как им показалось сверху, но полк не потерял своих, не привез ни единой «дырки», – и, все-таки, качество прикрытия удалось снизить довольно заметно. Следующие две недели были сплошным кошмаром, три-четыре вылета в сутки стали рядовым событием, но полк вцепился в транспортники врага с доселе небывалым для сталинских соколов упорством, не давая себя всерьез отвлечь от главного. Немцы теряли по три-четыре транспортника в день. Еще столько же драгоценных «Ju – 52» приходилось после возвращения всерьез ремонтировать, доставалось и истребительному прикрытию. Они не знали, что немцев буквально приводит в отчаяние феноменальная живучесть «косичек». Пока еще опыт и умение их асов позволяли компенсировать выдающиеся скоростные и маневренные качества этих машин, но то, что в них стреляешь-стреляешь, а они – как заколдованные, продолжают летать и драться, угнетало необыкновенно.
Постепенно, но и не очень медленно, поток грузов, переправляемых по воздуху, обмелел в несколько раз, грозя пересохнуть совсем, окруженные войска неотвратимо теряли и подвижность, и огневую мощь. Командование 16-й армии добилось-таки от Гитлера разрешения на прорыв, но оно к этому времени сильно запаздало. Во время обороны и последующего прорыва корпус потерял больше двух третей личного состава и практически все тяжелое вооружение. По сути дела, его пришлось формировать заново, а генерала Василевского то его внезапное прозрение вознесло в ряды штабной элиты. Вполне заслуженно занесло, потому что теперь он стал стратегом и оператором по-настоящему.
Бойцов сводного полка срочно требовали по месту постоянной службы, оно и понятно, без каждого из них было плохо, а без двух-трех так и вообще зарез, но тут как раз подвернулось еще одно совершенно определенное дело, которое нужно было не выполнять, пусть даже героически и не щадя своей жизни, а просто-напросто конкретно выполнить. Это было сделано, и после этого полк оформили на постоянной основе, дав гвардейский статус и почетное название «Демянский».
* У Наполеона под Тулоном.
Во время, которое не обозначало ничего, и не было связано ни с чем, в восемь часов ноябрьского утра на опушке леса полыхнуло, взвыло оглушительно и устрашающе. Редкую цепочку массивных машин, расположенных в семистах-восьмистах метрах друг от друга, язык не поднимался назвать позицией. Машины боевого обеспечения находились сейчас позади, замаскированными в лесу. Зато там, на юге, полыхнуло сразу вдоль всей линии горизонта, темной, зубчатой, еле видной. Следом ее затянула сплошная пелена дыма, пыли, пара ли, – кто там разберет? Туда-то, в непроницаемую для глаз, медленно оседающую завесу испорошенного, распыленного, неидентифицируемого вещества, стремглав нырнули юркие машины штурмовых групп саперов. По окрестным лесам залязгало, заревело, между редких деревьев показались первые машины танковых частей, издалека донесся глухой, пульсирующий рев артподготовки, а спереди, там, где исчезли штурмовые группы, несколько раз резко, раскатисто ахнуло. Расчеты установок смотали провода, сняли машины со стопоров и двинулись вслед за передовыми танковыми ротами. Мир за пеленой тучи, которая, оседая, еще продолжала двигаться навстречу рванувшимся в атаку частям, был страшен. Обугленные, лишенные хвои и ветвей деревья, изломанные, расщепленные деревья, мертвые окопы с редкими трупами на передовых позициях, опрокинутые орудия на закрытых позициях артиллерии. Необозримые черные проплешины лишенной снега, спекшейся земли, похожей на шлак, парили, как горячие ключи по зиме, затягиваясь густым туманом. Черные скопления изуродованной, дымящейся техники. Вот отсюда, с примерно обозначенных позиций, без знакомых ориентиров, установки снова заняли огневые позиции, развернулись, и дали второй залп прежде, чем уйти за следующей группой танков. Судя по тому, что было слышно с юга, боя практически не было. Очевидно, начальство хорошо накрутило хвост командирам атакующих частей, потому что они рвались вперед, оставив обычную осторожность и стремясь только продвинуться как можно дальше туда, на юго-запад, пока не началось. Смертную полосу, по утверждению некоторых устланную трупами в три слоя, преодолели с какой-то бредовой, волшебной легкостью, почти не понеся потерь.
– К исходу 22 ноября на западном фасе выступа войска Калининского фронта обошли Великие Луки с юга и обозначили поворот общим направлением на Смоленск. С рассветом 23 ноября передовые танковые части с десантом на броне в сопровождении штурмовых групп общей численностью до батальона, на штатном транспорте далеко оторвались от главных сил и не были своевременно обнаружены разведкой противника, возможно, в связи с невысокой численностью, и столкнулись с передовыми частями сорок первого танкового корпуса немцев, движущимися в походных колоннах. Командир бригады принял решение на начало встречного боя с целью приостановки продвижения противника, тем временем отдельный дивизион реактивных установок произвел два залпа по колонне противника. После этого, в исполнение приказа командования фронтом, дивизиону было приказано направляться в армейский тыл. Танковые части завершили разгром колонны исходной численностью до моторизованного полка, потеряв до половины исходной численности и продолжили движение. Последнее сообщение о том, что вступили в бой с танковыми частями противника, пробуют оседлать просеку и закрепиться, но имеют слишком мало противотанковых средств. К этому моменту к месту боя начали подходить основные силы 3-го танкового корпуса, постепенно вступая во встречный бой.
– Опять по частям!
– Так точно. Положительным моментом тут является только то, что немецкие резервы тоже вступают в бой постепенно, с марша, не успевая полностью развернуться в боевые порядки и в неоптимальной конфигурации. Танкисты, помимо боевых частей, постоянно встречают колонны тыловиков и мотопехоту без развернутых противотанковых средств. Сейчас 41-й танковый корпус немцов пятится на юго-восток, он задержал продвижение наступающих войск, но уже понес неприемлемые потери и в ближайшее время не сможет быть использован для контрудара во фланг наступающим частям Калининского фронта. Согласно имеющимся разведданным, немецкое командование спешно перебрасывает к месту прорыва резервы. Командование фронта предполагает последующий удар нанести еще западнее параллельно сложившейся линии фронта, перенеся таким образом направление главного удара в обход завязавшихся боев, продвинуться дальше на юг и втянуть во встречное сражение большую часть резервов, направляемых к Волге.
– Скажите, товарищ Жуков, ви не преэдполагаете проведение операций на окружение и на вашем, центральном участке фронта?
– Никак нет. Имеющиеся силы и средства не позволяют проводить здесь крупных фронтальных операций на окружение, в силу хотя бы лесисто-болотистого характера местности и неравноценности имеющихся в составе фронта соединений. В то же время конфигурация фронта и расположение сил противника не позволяет отрезать их от основной группировки… Только это, может быть, и к лучшему.
– Объясните.
– Намечается сразу несколько тактических мотивов. Во-первых – захват и пересечение железных и шоссейных дорог в условиях лесисто-болотистой местности без попыток создания прочного кольца окружения. Вместо того, чтобы истреблять окруженных, заставлять их форсированно выводить войска с угрожаемых позиций при недостаточном снабжении. Это, конечно, гораздо меньший уровень безвозвратных потерь живой силы, но в условиях зимы обозначает катастрофические потери в технике и тяжелом вооружении, а также значительную убыль отставшими, обмороженными и больными.
Сидевший здесь же с опущенной головой Клим Ворошилов приподнял голову, искоса поглядев на докладчика. Впервые за несколько лет он, неожиданно для себя, ясно и отчетливо понял, о чем идет речь и что именно это может значить. Понимание это было сродни чему-то вроде мрачного вдохновения.
– Во-вторых, – прорывы на узком фронте сравнительно небольших по численности подвижных сил, преимущественно для создания угрозы и уничтожения в равной степени выдвигаемых противником резервов и отступающих на марше. Бить не окопавшихся окруженцев, а колонны на марше, сделать их первоочередной целью. Это предъявляет меньшие требования к взаимодействию и координации. Можно ожидать, что на какое-то время это сделает наши действия менее предсказуемыми для противника.
– А если гитлеровцы разгадают основную цель наступления на центральном участке?
– Товарищ Сталин, а мы пока и не задаем им никаких загадок. Мы их бьем честно, бесхитростно, и на полном серьезе. Они могут отвести войска из Ржевско-Вязьменского выступа, поняв, что цена такой угрозы Москве может быть слишком велика. Но вот отдать сейчас Смоленск, когда под Сталинградом начались события, требующие оперативного реагирования, они не могут. Это обозначало бы полное разрушение системы снабжение и в центре, и на юге. Угрозу окружения всей группы армий «Север». Это обозначало бы практически мгновенную катастрофу. У нас на это не хватит сил и средств, но они-то этого не знают и поэтому перебросят сюда резервы. Так что деблокировать Сталинград им будет нечем. Дополнительным обстоятельством может послужить возможная дезориентация противника, успешный на данный момент прорыв на центральном участке фронта, там, где они и ожидали удара, не позволит оценить серьезность происходящего на Волге.
– Нет ли здесь нэдооценки противника? Весной и летом нам дорого обошлась самоуверенность… некоторых командиров.
– Так точно. Но, в сложившейся ситуации, переоценка противника является ничуть не менее опасной. Лихой стиль ведения боевых действий, продемонстрированный немцами, на самом деле не от хорошей жизни. Он основан на том, что противника вынуждают делать ошибки, причем ошибки грубые, и это правильно. Недостаток в том, что все планы основываются на том, что ошибки непременно будут допущены. Если этого не происходит, чудеса кончаются. Поневоле приходится воевать правильно.
– Объясните.
– Это когда тот, кто сильнее, получает возможность поставить противника в безвыходное положение. А тот, кто слабее, неизбежно проигрывает. Правильно воевать – это рассчитывать на худший вариант, исходя из известного. На то, что враг не сделает ошибки. Но нельзя приписывать врагу всеведения и непогрешимости, и бояться появления войск там, где им взяться неоткуда. Иначе лучше забыть о проведении глубоких наступательных операций.
– И какой же худший вариант на вашем участке фронта?
– Помимо тех резервов, которые готовили заранее, немцы перебросят дополнительные. Остановят наступление ударом во фланг, примерно вот так, – он показал направление на карте, – прорвутся и вступят во встречный бой с пехотой общевойсковых армий. Растреплют пехоту, но мы максимально насытим части противотанковыми средствами, так что при этом и от их ударных моторизованных частей мало что останется. Часть наших войск будет окружена в лесах, но на плотное окружение сил у них не хватит. Потому что им будет не до того, чтобы добивать окруженцев. В это время с востока войска Западного фронта, скорее всего, все-таки захватят Вязьму. Отсечь практически всю группу армий «Центр» у нас не хватит сил. Мы просто не успеем в условиях заболоченного леса зимой. Нанесем удар в общем направлении на Смоленск, по сходящимся направлениям. Достижение полного успеха в виде захвата Смоленска считаю вряд ли возможным. Это развитие событий на центральном участке фронта является наиболее вероятным, товарищ Верховный Главнокомандующий.
Восьмой день в заснеженных лесах, в которых громада танкового корпуса утонула, но не так, как тонут в море или в болоте, а так, как ребенок тонет в одежке, скроенной на великана, растворилась, как горстка соли в бочке воды. Бойцы иззябли, а уж устали так, как люди в мирное время не устают. Бойцы третьей роты генераторного батальона вроде бы и не воевали, им не приходилось стрелять, разве что кое-когда поначалу, сдуру, но устали они ничуть не меньше остальных. Каждую минуту, когда их не мотало на ухабах, безжалостно колотя о стылый металл, они рубили лес. Валили лесины, обрезали и обрубали сучья, разделывали стволы, – в общем, делали то же, что и в лагере, и ничуть не меньше, и ничуть не легче. Отличия начинались потом, когда лесины, сучья, кустарник, все вперемешку, загружали в барабан, который все это добро с глухим, каким-то подземным гулом переводил на щепу. Два, между прочим, кубометра. Как откроешь потом – так шибало древесным духом, который вздымался оттуда вместе с клубами мельчайшей пыли, что и не продохнуть, тошнило с непривычки. Потом это все нужно было перегрузить в ненасытную утробу генератора. Все два куба. Потом, пока зелье варится, нужно успеть заготовить следующие два кубометра дров и перевести их в щепу. Перелить горючку в цистерну, – но на это, слава богу, есть насос. Еще одно отличие, на которое человек без лагерного опыта не обратит внимания. Отличные мотопилы, которые заправлять той же горючкой. Не тупятся, не ломаются, не клинят. Даже звук особый, глухой, и непонятно, – как они это сделали? И руки греют. Без цифр, без марки, без названия, только клеймо несмываемым, нестираемым черным лаком, не то цепочка, не то два жгута переплетены между собой. Он знал, что это такое. Все фронтовики знали.
Прототип II: образца 35 года.
После испытаний Владимир Яковлевич оказался, что называется, «на коне», и на коне этом он совершенно явно для опытного глаза уезжал в счастливую жизнь, где пайки, транспорт и распределители с приставкой «спец», но его явно грызли какие-то сомнения, и поэтому он, уединившись с Саней, устроил ему «отвальную». Берович кушал исправно, но оказался непьющим, а вот конструктор, приняв на грудь больше, чем собирался поначалу, впал в тоску. Причины ее были, в общем, довольно далеки от сентиментальности.
– Эх, Саня, – говорил он, пригорюнившись, – избавился я, пока что, от срока, да вот только не знаю, надолго ли… По всему выходит – оттянул только свою законную отсидку. Ты меня понимаешь? Вроде как вот он, двигатель, – а на самом деле нет его, понимаешь? Обман один. – И, закручинившись вконец, добавил. – А сам я, выходит, жулик.
– Почему, дядя Володя?
– А потому, Саня, что его в серию запускать. А детали делать не на чем и некому. Не напасешься, если так вот, поштучно вылизывать.
Берович понимал, что конструктор черств и эгоистичен, что персона его интересует инженера только постольку, поскольку тот дорожит своей шкурой, но и сам не испытывал к нему какой-то особой личной преданности. То, что он вот так раскис, напившись, коробило и, мягко говоря, не прибавляло уважения к государственному человеку. Поэтому, не обращая внимания на излияния собеседника, он спросил его о том, что интересовало лично его.
– Как вы говорили, наука эта называется? Которая про жар и про моторы?
– Термодинамика?
– Во-во, – он несколько раз повторил мудреное слово про себя, запоминая, – а то никак вспомнить не мог…
Он и вообще был большим охотником до мудреных, иностранных слов. В глазах конструктора промелькнул некий намек на любопытство.
– А к чему тебе?
– Так, – Саня пожал плечами, – интересно. У вас книжки про это нет, почитать?
– Да есть-то есть, только тут видишь, какая заковыка: я в понедельник уезжаю. Доделаю дела, оформлю, прослежу за погрузкой, документами, – и до свидания. Пора. Да и надоело, признаться. А подарить, – прости, брат, – не могу. С литературой в наше время…
Саня облизал враз пересохшие губы:
– Я успею… Я… я постараюсь успеть
Надо сказать, конструктор был весьма склонен к экспериментам. И к экспериментам вообще, и к экспериментам над живыми людьми в частности. В плане материала, понятное дело, был предпочтителен женский пол, но это не было обязательным условием. Поэтому он, вроде бы как с сомнением, протянул:
– Ну-у, разве что так…
Утром в понедельник, Саня, как и обещал, вернул ему устрашающей толщины том. Мало того, что материал был по определению объемным. Это было переводное издание с немецкого, написанное типичным немецким профессором с типично немецкой дотошностью в типичном немецком тяжеловесном стиле с предложениями бесконечной длины. Глядя в его красные с трехсуточного недосыпа глаза, конструктор поинтересовался:
– Ну? Понял что-нибудь?
– Понял, – охрипшим голосом ответил Берович и откашлялся, – только… А!
– Чего?
Ему и впрямь было любопытно, что именно понял в чудовищном тексте этот полуграмотный пацан за два с половиной дня и три ночи, – и получил соответственно:
– Там не все. Не хватает самого главного.
– Слушай, Саня, – неприятным голосом проговорил Макульский, – тебе никто не говорил, что ты есть страшный нахал, а? Наглость – это ничего, это даже неплохо. Вот только в этом случае это еще и выглядит смешно. Там половина текста сплошной математики, через которую мне приходится продираться, как через бурелом, а ты и понятия не можешь иметь, но судить берешься. Нет ничего смешнее и противнее недоучки, который берется критиковать спеца на основе своих куцых мыслишек. Вот вам говорят, что вы соль земли, и все вам по плечу, включая термодинамику за двое суток, и это, конечно, правда, – вот только не вся правда полностью.
– Он там повторяет десять раз одно и то же, поотдельности, хотя на самом деле это варианты одного и того же. Всей математики его я не понял, врать не буду, но во многих случаях она и вовсе ни к чему. Ни капли не помогает докопаться до сути и сделать какие-нибудь выводы. Я не о науке, я о том, что книга написана хреново. Бестолково и как это? В общем, если это учебник, то плохо годится для того, чтобы научить.
– Но ты-то – понял?
– Говорю же – не все. Математика эта дурацкая… запомнить – запомнил, а чтобы понять – так не. Не все.
– Ну тут уж, брат, ничего не поделаешь. Без математики нет термодинамики, математику самоучкой не освоить, а без нее двигатель не сделаешь.
Ну, как раз в том, что математику он при желании освоит, Берович особо не сомневался. Поняв на примере немцевой писанины, к чему она нужна, он понял заодно, что дело это не из самых сложных, не бог весть что, потому как легко и свободно ложится на Инструкцию. Куда более важной и интересной была прохладная мысль, возникшая непонятно откуда: а ведь молодое дарование из рабочего класса, да еще из самой, можно сказать, середки, этакий самородок – это, пожалуй, то, что нужно. И не важно, что фигура эта, можно сказать, мифическая. Главное, что в миф этот верят. К тому же верить в него и модно, и полезно для здоровья. Под этим соусом можно пролезть ку-уда угодно.
Мысль была совершенно правильной. Непонятно и неправильно было то, что она у него появилась. Он был достаточно умен, чтобы понимать: чужая мысль, слишком молод для таких мыслей. Для них недостаточно никакого природного ума, нужен жизненный опыт при хорошем учителе этой жизни. А главное – для кого (или для чего) соус? Он ведь и на самом деле такой, верно ведь? Сам по себе, какой есть, никем другим не является и быть не может. Впрочем, себя обманывать не стоило. Всякие такие мысли начали появляться после того, как дядька передал ему Похоронку. Как раз перед тем, как за ним пришли. Похоронка была не столь уж велика и содержала само по себе Кое-Что, – и Инструкцию. Это было первое из мудреных слов, которыми он так увлекся впоследствии. Дядя строго-настрого наказал ему не лезть, и уж, тем более, никому не показывать и не рассказывать. Теперь, памятуя дядю, он ясно видел, что дядя-таки «не лазил». Иначе вел бы себя по-другому, сам был бы другим, да и, может быть, не сгинул бы так… нелепо? Покорно? Скорее всего вообще не сгинул бы.
Слава богу, что Кое-Что было совершенно невозможно достать, не прочитав Инструкцию. Иначе неизвестно, чем бы оно кончилось. Да, а в те поры он читать, мягко говоря, не любил, считая делом бесполезным и праздным, и читал чуть ли не по слогам, а вот, однако же, – полюбопытствовал. Не очень толстая пачка листов, исписанных от руки явно тремя-четырьмя разными людьми с разным почерком, да, кроме того, немножко отпечатанных на машинке, вкривь и вкось, с многочисленными помарками, забитыми то «х», то «ж». Следующий заголовок, после слова «Инструкции», с библейской простотой гласил: «Крипты» Георга Кантора. Неопубликованные лекции.»
Теперь-то Сане было понятно с чем был связан наследственный дядин запрет: не иначе, как чудом, можно объяснить, что полуграмотный Саня не выкинул скучные бумажки, не истратил их на цигарки или вовсе на подтирку. Также следовало ожидать, что следом он попробует расковырять диковинную коробку, а когда не получится, выкинет ее в выгребную яму. А если получится… А если б получилось, об этом даже не хотелось и думать, что по-настоящему могло бы произойти тогда, когда он, шестнадцатилетний дурак…
Ну не могли ни дядя, ни тот, чей наказ он унаследовал, ожидать, что кто-то вроде Сани не только сунет свой нос в старую бумагу, но и заинтересуется! Они дожидались лучших времен, когда в семье снова появится крепко образованный человек. Они не ведали, что творят, и потеряли, как минимум, лет двадцать пять дорогого времени. Да какого там «дорогого». Драгоценнейшего. Потому что, чтобы Похоронка сработала, на самом деле достаточно было решимости обучить парня грамоте, да, пожалуй, ремня – для начала. Остальное «инструкция» сделала бы сама. Слова «Крипт» на самом деле засасывали, как болото. Текст был устроен так, что многие куски понимались каждый раз по-новому, но при этом каждый раз правильно. А потом, накрепко отпечатавшись в голове, начали как-то расти, как-то умудряясь высасывать полезную для себя пищу из окружающей Саню невзрачной жизни. Все мысли были его, собственными, но при этом он узнавал: это оттуда, это не от прежней науки батьки, мамки, дядьки, старших братьев, фабричной школы и всех незыблемых, несмотря на все революции, обстоятельств рабочей слободы. Пока еще различал, понимая смутно, что придет пора, может быть, не так уж скоро, когда различия не будет, когда два таких разных по природе куска его натуры сольются в единое целое, так, что и швов будет не сыскать. Но пока было… интересно, необычно выслушивать вроде бы как подсказки – но только от самого себя. Ладно, теперь он узнал о термодинамике, понял, о чем это, ладно, убедился, даже признал, со скрипом и нехотя, что положенная к ней математика все-таки нужна, полезна для дела, хотя и не так, и не тем способом, как думают некоторые. Возникла у него тогда, в самом начале, нужда в химии – освоил, что нужно, и есть у него теперь в голове химия по-своему. Надо будет, будет математика по-своему… Только вот по его, Саниному разумению, вовсе не следует вычислять все, что и так видно. При этом он вовсе не задумывался о том, что видно-то может быть – только ему. А далеко не всем. Следствием того, первого воспитания, во многом оставшегося родо-племенным по сути, было то, что ему и в голову не приходило придавать своей персоне какое-то особое значение. Неотъемлемая черта истинного варвара, того, кто строит цивилизации, но не является их продуктом.