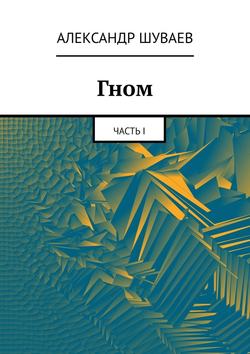Читать книгу Гном. Часть I - Александр Шуваев - Страница 4
Часть первая. Зимний планетарий*
*«Марс», «Уран», «Малый Сатурн», «Большой Сатурн», полу-мифический «Юпитер». Кодовые названия стратегических наступательных операций Красной Армии, проведенных или только запланированных к проведению зимой 42—43 годов.
De profundis
ОглавлениеНельзя сказать, чтобы это напрямую относилось к Инструкции. Так, обычный совет. Закрывать глаза, пока не войдет в привычку. Тогда – да, кладешь руки на Коробку, закрываешь глаза, и начинаешь видеть. Не так видеть, как помнишь какую-нибудь вещь, а так, как будто ее кто-то нарисовал. Вроде бы и сам, но не вполне: картинка вовсе не всегда менялась так, как ему хотелось, проявляла норов, упрямилась. Чем сильнее Саня пытался переупрямить ее, расположить не так, а этак, разглядеть не с этого боку, а с другого, тем хуже выходило. Он открывал глаза оттого, что скулы начинало нестерпимо ломить от напряжения, и тут же все пропадало, и он снова видел свои руки, лежащие на диковинной коробке с Кое-Чем. В пору было плюнуть, но игра затягивала, и он снова брал в руки проклятую штуковину, закрывал глаза и вспоминал Инструкцию.
Чуть-чуть, только самую малость попривыкнув, обратил внимание, что и руки свои чувствует как-то чудно. Как будто провалились неизвестно-куда, не в силах нащупать ничего привычного, да к тому же стали не то безмерно длинными, не то, наоборот, исчезающе малыми. И только из-за окончательной мизерности вещей, к которым он пробует их протянуть, кажутся такими громоздкими и неуклюжими.
Такими неуклюжими, что все ломали и рушили при самом осторожном движении. И вздымали невесомой пылью, если движение было не таким осторожным. Так что он пока, от греха, старался не шевелить ими вообще, – и ничего страшного, потому что, повиснув неведомо – где, они и не затекали, и не уставали вовсе. Не с чего было.
Первый, самый малый сдвиг пришел, – а он заметил, запомнил, и примотал обстоятельства этого момента туго-натуго к стержню «крипт», – когда он, со злости, решил не напрягаться. Глядеть, куда глаза глядят, и довольствоваться теми картинками, которые при этом получаются. Не гнуть, как медведь – дугу, а запоминать, как что ложится при каком повороте и из какого начального положения.
Примерно на третий день он нашел себе такой отступ, на котором застрял долго. Только глядя, и при этом ничего не делая. Вот если в этом месте бесконечного ряда, то штучки были все одинаковые, как пуговицы, меленькие, неподвижные и скучные, потому что менялись редко и одинаково. На один, край – на два, манера. А вот если взять чуть в сторону и, – поближе, что ли? – картина менялась. Тут детальки были куда как разнообразнее и интереснее. На разный манер выворачивались наизнанку. Соединялись в цепочки. Смыкались в колечки. Получалось даже так, что «сцеплялись», как звенья цепочки, пара таких колечек. Одинаковых или разных. Собирались в прихотливую паутину, или даже строились в «башни» или «корзинки», – было не совсем похоже, но других сравнений у Сани тогда не было.
А еще они портились. Ломались, или как-то «пачкались» превращаясь во что-то совсем другое. Тогда, помнится, впервые промелькнула у него смутная мысль, что мусор, – это просто-напросто то, чего ты не ждешь в настоящий момент. Это как к обеду, – да полено вместо ложки. А вещь, ненужная СОВСЕМ, вообще не может испортиться. Он даже на время вернулся в начало, к простеньким деталькам, чтобы глянуть на них по-другому, и с доселе неиспытанным восторгом убедился, что УГАДАЛ: некоторые из «простеньких» тоже отлично умели строиться в ажурные «башенки». Глаз привык, и теперь без ошибки видел, какие из них пожестче, а какие… не мягче даже, а как-то посвободнее. Но даже и тут кое-где одинаковые детальки можно было сцепить на разный манер. Хотя и не всегда. Позже, когда ему пришлось учить геометрию, она очень легко и плотно легла на те впечатления от самых первых дней общения с Похоронкой. Легла, добавив к инструкции самую малость: в основном по части того, как все это – облечь в слова, чтобы было понятно другим. Правда, учителя с ума сходили от своеобразия его трактовок, но потом – ничего. Привыкли.
Одним из главных правил было то, что не все встречалось одинаково часто. Что-то – бросалось в глаза, а что-то – приходилось высматривать. Что-то происходило постоянно, а чего-то приходилось ждать довольно долго. Глаз тут было явно недостаточно. И наступил момент, – столь же памятный, дающий такой же глубокий отпечаток, – когда к делу подключились руки. Здесь они давали возможность сделать редкое – частым, а почти невозможное – вполне возможным.
А еще – стало куда легче играть «отступом», делать картинки ближе или дальше, по желанию, хоть и было это вовсе непросто. После таких занятий руки у него ломит так, как будто он в одиночку разгрузил вагон с цементом, и Саня этому вовсе не удивлялся.
Если приближать, – то правильная, четкая «деталька», становясь на взгляд крупнее, одновременно «расплывалась», теряя четкость очертаний, так что разглядеть больше деталей все равно не удавалось. И он не одним умом даже, а всем телом осознал, что тут ничего сделать не удастся. Если удалять, то рано или поздно он находил себя парящим над бескрайней горной страной с чудовищными пиками и бездонными провалами, да еще и смутной, будто дрожащей от непрекращающегося землетрясения. При этом из мира бесследно исчезала правильность и одинаковость, он неузнаваемо и радикально менялся.
Ни то, ни другое ничего не давало пока что ни уму, ни сердцу, и он довольно надолго застрял в приверженности к «золотой середине». Равно как и на этапе «Глаза и Руки» вообще, потому что неимоверных трудов требовало от него добиться, чтобы то и другое действовало одновременно и в согласии. Поначалу он постоянно ослаблял контроль либо над тем, либо над другим, – и все тут же разваливалось и шло прахом. Тот, кто в сравнительно зрелом возрасте осваивал вождение автомобиля либо, того хлеще, пилотаж небольшого летательного аппарата, поймут суть этих трудностей. Трудности, которые в возрасте нежном испытывают практически все, осваивая высокое искусство ползания либо пешего хождения, по своей природе и еще ближе, вот только вспомнить их куда сложнее.
В это время, в промежутках, он размышлял порой: как бы могло проявить себя «подключение» ног, – примерно так же и в той очередности, в которой это происходит у нормального, здорового младенца, но так ничего и не надумал. Это тоже получилось само собой, и еще более неожиданно, чем прежние его достижения. Он опять расслабился, забыв о необходимости жутких трудов по координации глаз с руками, – да и отошел от Золотой Середины так далеко, как никогда не отходил раньше. Младенец, научившись уверенно доставать до погремушки ручкой, впервые пополз.
…Это была шляпка гвоздя, вбитого в топчан, на котором пребывало его бренное тело. Он во всех подробностях разглядел его в темноте с закрытыми глазами и отлично узнал. Так он неожиданно для себя выяснил, что на протяжении вот уже почти двух месяцев разглядывал, как, на самом деле, устроена шляпка гвоздя. Не она одна, понятно, а еще многое, многое другое, – узнать бы еще, – что именно. Так появилась первая связь между «маленьким миром» и тем, в котором он жил уже шестнадцатый год.
Поначалу девчонки на заводе «косичку» рисовали просто мелом, украдкой и в укромных местах. Говорят, от Зойки Ерохиной пошло, но кто ж теперь скажет точно, так оно или не так? Кое-когда еще и письма на фронт запрятывали в укромных местах, письма были глупые, как новорожденные телки, но прятались с умом, чтобы, не дай бог, не помешали работе изделия. Наскоро нарисованную «косичку» довольно скоро заметили на фронте, – поскольку она действительно говорила о многом! – и стали обращать внимание на это обстоятельство. Изделия 63-го можно было отличить и так, но утверждать было нельзя: вдруг и остальные научились? Так что наличие «косички» в боевых частях начали отслеживать. Более того, – искали с азартом, устраивали что-то вроде соревнований по поискам, а найдя, звали к себе товарищей жестом, а потом молча тыкали пальцем, многозначительно улыбаясь: действительно получили Вещь! Как положено, таинственные картинки послужили поводом для множества баек, в том числе и чудовищно причудливых, и достаточно чудовищных. Но вот байки во время войны, на фронте, получив широкое распространение могут оказаться делом довольно серьезным. Во всяком случае, не могут не вызвать надлежащей реакции соответствующих органов. На то, что представляется сущей ерундой, может последовать достаточно жестокая реакция. Ключевое слово здесь, как ни странно, это самое «представляется». На самом деле ни одно масштабное явление не имеет и не может иметь ничтожной причины. Реакция была, можно сказать, бережная: запретить! Глупая, бесполезная блажь, которая, тем не менее, порождает кривотолки, должна быть запрещена.
…Из этого не вышло ровным счетом ничего. Хуже того, – если до официального запрещения «косичка» на готовых изделиях безукоризненного качества появлялась все-таки постольку-поскольку, то после него ее появление рисунка стало правилом без исключения. Какой там мел! Кое-когда – так и боразоновый лак по трафарету! Который не вот счистишь и алмазным абразивом. Начали следить, – а он появлялся, начали удалять, – а он появлялся во второй, в третий раз, запрятанный все изощренней. Одно время появилась тенденция делать клеймо все меньше и меньше, но длилось это недолго, поскольку, судя по всему, лишало затею смысла, потому что смыслом было: чтоб явственно видели! Без сомнений, не уворованное, свое, имеем право. На поиски и удаление начало тратиться заметное время. Военпреды, которым надо было срочно, сверхсрочно отправлять машины, начали посылать особистов на хрен, особисты – давили на военпредов. Поставили на это дело работников, но они явно саботировали, а в ответ на любые попытки надавить «включали дурака», надевая на физиономию выражение беспросветной сонной тупости. Кое-кого ловили, наказывали, но очень редко. Берович напрямую обратился к начальнику особого отдела, но тот развел руками:
– Сам понимаю, что хреновиной занимаемся, только и вы меня поймите: приказа-то этого – никто не отменял.
В ход была пущена тяжелая артиллерия, можно сказать, – РГК, Карина Сергеевна собственной персоной, но Берович вдруг с ужасом увидел, как покачнулись устои мира. Небо свернулось, как коврик для молитв, Земля потряслась до Ада и разверзлась, море вышло из берегов, а скалы отправились прогуляться: Карина не изъявила в ответ на обращение ни малейшего энтузиазма и взялась за дело без старания. Берович был настолько потрясен, что решил принять самые экстренные и по-настоящему экстраординарные меры. Он давно так не рисковал. Да что там – давно. Никогда в жизни. Достаточно сказать, что на очередную встречу с Вождем он отправился с маленьким подарком. В прямом смысле маленьким. Очень. И, выбрав удобный момент, положил его на стол.
– Вот, товарищ Сталин. Нам, наконец, удалось выполнить ваше пожелание…
– Что это, – Верховный Главнокомандующий скосился на крохотную детальку, как на гнусное насекомое, – какое пожелание? Что за ерунду вы мне тут порете?
– Как же? Вы говорили про рации, что тяжелые и плохие, и тех не хватает, потому что дорого…
Разговор такой – был, это факт, вождь вспомнил, как мельком высказал что-то такое.
– Ну, а это что?
– А это, – Саня достал и положил рядом с невзрачной деталькой о трех проволочных ногах довольно солидную электронную лампу с таинственной и сложной начинкой, – прибор, который заменяет вот эту, например, лампу. Понятно, во сколько раз можно уменьшить размер той же рации. Или, к примеру, – радара. Мы довольно скоро сможем устанавливать на самолетах радары лучше, чем самые лучшие из нынешних стационарных установок. И несравненно лучше, чем у немцев и у союзников.
Лампа – радовала взор и вызывала невольное уважение свое очевидной причудливой сложностью, явно намекавшей на чудеса науки, выглядела неизмеримо солиднее, нежели какая-то там штучка, похожая на придурковатую пуговицу. Но в данном случае он решил не поддаваться чувствам и только спросил:
– Неужели, товарищ Берович, заменяет совсем?
– Откровенно говоря, – не вполне, товарищ Сталин. У лампы характеристики лучше. Но вот она в сто раз больше по объему, и в пятьдесят раз тяжелее. А если ее, одну, заменить четырьмя-пятью такими приборами, надлежаще их соединив, то уже они обеспечат лучшее качество. Кроме того, это изделие не бьется и не выскакивает из гнезда. Оно неизмеримо надежнее, требует в десятки раз меньше электричества и позволяет дублировать каждый контур, а прибор все равно будет меньше и легче, чем на лампах.
Сталин молчал, наклонив голову несколько вбок, а потом медленно сказал:
– Интересно. Только ви нэ тарапитэсь. Проведите тщательные сравнительные испытания.
А вот так подставляться не следует. Даже если ты Вождь и Учитель. Что-что, а запустить полномасштабную серию под соусом испытаний Саня умел. Уж этому-то он научился! Если и был в чем профессионалом, так в этом. Он вздохнул, набираясь смелости, и, наконец, приступил.
– Товарищ Сталин, я ведь здесь не только от себя. Я здесь как представитель коллектива.
– В чем еще дело?
– Коллектив просит утвердить за ним право на особое клеймо для выпускаемой продукции. – Саня развел руками. – Людям нужны такие вот игрушки. Полку – знамя, а мастерам – клеймо.
– Боевое знамя, – Сталин уперся ему в лицо тяжелым взглядом, – нэ игрушка. Передайте коллективу, – от моего имени, – что особое клеймо – большая честь, но и большая ответственность. Кстати – а почему именно «косичка»?
Если ему и удалось удивить Беровича, то, разве что, на какое-то мгновение. Было бы куда удивительнее, если бы вождь, так внимательно наблюдавший за комбинатом, ничего не знал бы об этом казусе. Так что он только чуть-чуть обозначил удивление, чтобы доставить собеседнику маленькое, невинное удовольствие.
– Я наводил справки, товарищ Сталин. Оказалось, – древний, еще языческий обычай, связанный с особым значением косы. Ее отрезали, выходя замуж, в первую брачную ночь. Положить отрезанную косу в могилу жениха или мужа значило обязательство не нарушать девства или, соответственно, вдовства. Отдать отрезанную косу жениху, уходящему в поход значило обещание ждать вопреки всему, до конца. Что-то в этом роде. Женский коллектив, сами понимаете.
– Знаете, что? Ми не будем разрешать. Ми просто перестанем искать и с пристрастием пресекать. Пусть думают, что это – по их воле, на свой страх и риск, от души, а нэ по приказу.
– Мне кажется, за качество можно будет больше не опасаться. Хотя… У нас и так с халтурщиками расправляются по-свойски. А потом, понятное дело, никто ничего не видел и не слышал.
«Косичка» здесь была и на грузовиках, и на «мельнице», и на цистернах. И уж, тем более, на самих генераторах. Ее не было на молчаливых, тощих работягах из ЗГС, появлявшихся и исчезавших, как призраки, на позициях готовящихся к рывку частей, но казалось, что «косичка» намертво отпечатана у них прямо на лбу. Они-то и установили на технике генераторных частей пулеметы, уже потом, когда оборона была прорвана и части ушли в глубокий прорыв. Как всегда, появились ниоткуда, и пропали почти без следа. «Почти» – потому что один работник находился при установках постоянно и с самого начала. Обслуживать таинственную начинку генераторов, брать пробы горючки, вытаскивать блоки, заменять на восстановленные, ставить на восстановление, менять фильтры, когда надо, не раньше, но и не позже, – это было, конечно, делом для настоящего специалиста, а не для вчерашних зэ-ка с незаконченным средним в лучшем случае. Специалист представлял собой малорослое, тщедушное существо, по самые глаза упакованное в ватные штаны, треух, клетчатый шарф, серые валенки непонятного размера и собственно ватник, доходивший существу до колен. Им всем было ни до чего все время формирования и подготовки, тем более потом, в ходе самой компании, но, тем не менее, к концу первых же суток знакомства даже до самых непонятливых дошло: специалист некоторым образом относится к женскому полу и пребывал в довольно-таки нежном возрасте. Валечка, как, не сговариваясь, назвали специалистку, оказалась на диво деловитой, серьезной, абсолютно добросовестной, исправной по части выполнения возложенных на нее обязанностей, но совершенно писклявый голос портил, – или исправлял? – впечатление: во всяком случае, топора и пилы ей в руки не давали категорически, даже тогда, когда «на щепу» становились все, в том числе товарищ Трофимов, который из СМЕРШ-а, и подчиненные ему автоматчики в числе пяти человек.
Если с самого начала взять с собой полные баки солярки и горючку по норме, то генераторная рота* увеличивала автономность полнокровной танковой бригады по горючему раза в полтора, – это если марш почти без остановок и бои, а боле ничего. Если случались остановки, оборона, закрепление плацдарма, то тогда и говорить нечего: успевали пополнить запас почти до полного без поставок из тыла. Как это бывает и всегда с появлением нового средства борьбы, тем более – такого серьезного, тут же начали появляться такие способы применения новой техники, которые и в голову не приходили создателям. Очень-очень быстро могучие транспортеры с двухсотпятидесятисильным дизелем в рейдах оказывались буквально обвешаны десантом, располагавшимся и на генераторах, и поверх цистерн, и на выпуклых крышках «мельниц», глухо гудевших на ходу. Генераторными частями насыщали передовые танковые группы, уходившие далеко вперед от основных сил, снабжаемых по преимуществу традиционным способом. После ряда очень неприятных инцедентов первых двух суток наступления на технике генераторных рот спешно начали устанавливать пулеметы, включая тяжелые. Последующий опыт показал, что это, помимо прочего, существенно повысило боевые возможности подвижных групп во встречных боях, когда они, размозжив в кровавые брызги передовое охранение, как волки, налетали вдруг на идущие маршем колонны немцев.
Капитан Иванов, кадровый командир, в армии с 39-го, до войны командовавший авторотой, улучив момент, сказал тихо, но твердо:
– Будет кто силком лезть, – расстреляю. Распалитесь, помнете, а то еще придушите сдуру, если начнет дергаться! Другой не дадут, а нам без нее делать нечего…
И товарищ Трофимов, который из СМЕРШ-а, тоже очень серьезно предупредил личный состав, пояснив, что специалист – не просто так, а секретный. Поэтому оберегать, а также контролировать его, как носителя секретной информации, равно как и ликвидировать при возникновении опасности попадания в плен, входит в его, Трофимова, прямые служебные обязанности.
Федька Чика, он же Чикмарев Федор Иванович, 1921 года рождения, до войны работал конюхом в колхозе, и сел в 39-м за хищение колхозного имущества, но имел явные задатки незаурядного юриста и казуистический склад ума. Было сказано про «силком». А вот насчет договорится по-хорошему никто ничего не говорил! Поэтому он улучил-таки подходящий момент в укромном месте и приступил к переговорам, слегка, чисто символически и вроде как в шутку притиснув ее у сосенки. Надо сказать, что при том количестве одежек, в которые она была упакована, это было не таким уж очевидным и технически простым мероприятием. Протеста не последовало, и он увлек ее на маскировочный чехол, брошенный поверх лапника. До того, что заменяло специалисту бюст, достать оказалось практически нереально, и поэтому он, взволнованно дыша, залез рукой к ней в штаны. Удивительно неудобно изогнувшись, рука эта нащупала мокренькую щелочку, плоскую, простенькую, без всяких архитектурных излишеств и окруженную довольно-таки скудной растительностью. Соблазняемая – ничего, только дрожала мелкой дрожью и дышала, чуть посвистывая носом, чаще обычного, а Чика вдруг со смущением почувствовал, что не слишком-то представляет, как будет развиваться дальнейшее. Чтобы как-то заполнить неловкую паузу в боевых действиях, он шепотом спросил:
– Хочешь?
– Хочу, – едва слышно пропищало на ухо, – только страшно. И знаешь, – голос ее был полон неподдельного отчаяния, – я ж немытая больше недели! Так что давай как-нибудь потом…
Вот так, порой, не начавшись, умирает любовь. «Потом» в данных условиях означало, примерно, то же, что и «при коммунизме», поскольку шансов уцелеть у них практически не было. А если бы и уцелели, то, по окончании операции, жизнь и война неизбежно должны были раскидать их в разные стороны. Но чудеса все-таки бывают, а «порой» не значит «всегда». Когда, спустя два месяца, часть отводили на переформирование, во время неизбежной неразберихи, они-таки выкроили время, и она, – без обману! – дала ему первому. Правда, на радостях, что осталась жива, не ему одному, но ему все-таки первому. Он и вообще был у нее первым мужчиной, потому что там, где она была прежде, мужчин хватало далеко-о не на всех. Интересно, что в этом современном аналоге женского монастыря даже онанизм был распространен далеко не так широко, как можно было бы ожидать. И нельзя сказать, чтобы новое занятие оказалось для нее таким уж приятным, ощущения были скорее необычными, нежели сладостными, но чувствовать, что все кругом хотят от тебя этого, было та-ак интересно! Так волновало!
Справедливости ради надо сказать, что ее мужчины и сами не говорили о ней дурно, и другим не давали, поскольку видели ее и за работой, и под пулями, а оттого знали ей истинную цену, понимали, насколько существенна была причина, по которой она дала себе волю, и признавали за ней право вести себя так, как ей захочется. Свой брат, заслужила.
* Генераторная рота, по штату 42 года, включала четыре генератора, шесть автоцистерн, четыре «мельницы», три крытых грузовика. Соответственно, двадцать два сменных водителя, одного техника-наладчика генераторной установки, шесть человек охраны из личного состава контрразведки, включая командира, и пятьдесят шесть рабочих. Как правило – из числа «специалистов» по лесоповалу двое совмещали обязанности санинструкторов, двое – кашеваров.
Прототип III: образца 36 года.
Конструктор, получив опытное производство на новеньком с иголочки, только что построенном заводе, как водится, невообразимо бестолковом, очень быстро почувствовал себя инвалидом. Как будто у него, дотоле вполне здорового, отпилили руку или ногу, а он, забываясь, продолжает рассчитывать на них, забыв, что теперь ловкие и эффективные движения не для него, и что это, скорее всего, навсегда. Что его удел отныне – медленно и неуклюже. Все указания шли через множество ненужных передаточных звеньев, каждое из которых замедляло сроки и хоть малость, но искажало, так что на выходе получалось и вовсе печально. Выходом было за всем следить самому, но это явно превосходило любые человеческие силы. Ему совершенно очевидно не хватало Сани Беровича, но признаться в этом он не мог бы даже самому себе. Только спустя несколько мучительных недель гибкое и изворотливое человеческое подсознание, наконец, подсказало ему выход. Привычка. Ну конечно. Ба, да как же это он раньше не подумал! Он просто-напросто привык к особенностям одного удобного порученца, можно сказать – посыльного «за все», но, по преимуществу, по части деталей. Поэтому он без тени сомнений вытребовал Беровича к себе. Было это не так уж очевидно, и не так просто, как хотелось бы, и начальство вовсе не жаждало Саню куда-то там отдавать. Скорее всего – с концами. Владимир Яковлевич почти в совершенстве постиг нелегкое и опасное искусство шантажировать начальство, и в конце концов добился-таки нужной меры взаимопонимания. И директор, который и тянул, и волынил, и «включал дурака», и пускался на рискованные трюки, был, в конце концов, поставлен перед ультиматумом, причем ему напомнили о революционной трудовой дисциплине и о том, что бывает с ее нарушителями. Сломавшись, директор немедленно начал убеждать себя, что так оно, в конце концов, и правильно. Понятное дело – убедил. Для него, для масштабов завода, отдельно взятый Саня Берович был, в конце концов, не так уж значим.
– Ты, Валентин Трофимович, меня не убеждай, не надо. Тут ни тебя не спросили, ни меня. Приказали, – и баста! Да и то сказать: парень как специально под опытное производство заточен… Может, человеком станет, а у тебя слесаря его водку пить научат, а более – ничего.
– Не пьет он.
– Тем более, – с характерной логичностью ответил директор, – не уживется, значит, с коллективом…
Попав на новое место и поселившись в общежитии, Саня, наученный горьким опытом, перестал высовываться с новыми материалами, делал, что скажут и, вроде бы, из чего скажут, а на то, что детали его работы почти не изнашиваются и никогда не ломаются, внимания, понятное дело, никто не обращал. Оставалось проследить, чтобы в соединении были только эти детали. С другими материалами он занимался сам, в свободное от работы время. Делал, смотрел, как греется, как расширяется при этом, как проводит тепло, и потихоньку прикидывал, каким образом это могло бы работать в том же двигателе. Получалось не очень. Начал прикидывать, что будет, если охлаждать, но и тем более запутался. Времени между тем и вообще перестало хватать, так что собственные экзерсисы он бросил. Нечто при этом отложилось, не без того, при этом, как у него бывало всегда, отложилось прочно, но в те поры не показалось ему чем-то важным.
Дело в том, что любая махинация, даже предпринятая бескорыстно и с самыми благими целями, отчасти напоминает наркотик: чем больше врешь, тем больше вранья требуется для того, чтобы прикрыть возросший объем вранья. В данном случае основой всего был тот непреложный факт, что для роскошного двигателя Владимира Яковлевича годились только те детали, которые по-своему, кустарно делал Саня. Остальные не годились никак, и то, что требовалось, в нужном количестве не мог сделать никто. Поэтому, пока шли варианты, Берович поспевал. Когда шла опытная партия «на слом», еще успевал кое-как. Когда пошла предсерийная партия, Саня то, что называется, «зашился». Разумеется, ему и в голову не пришло пожаловаться, что работы невпроворот: не то воспитание и не тот замес. Просто начал ночевать в цеху, отменил ночной сон, и однажды, когда глаза его ясно видели только впереди, а по бокам виделась завлекательная, радужная чушь, когда в ушах мерно плескалось море, которое он видел раз в жизни, а мысли, начавшись с самого простого дела норовили незаметно улететь в какие-то надоблачные дали, он чуть не угодил в приводные ремни древних станков единственного старого цеха, что оставался в новом заводе. Еле успели оттащить. Угодив в чьи-то руки, организм Сани сам по себе снял с него всякую ответственность и мягко обвис в этих руках, и не реагировал, как его ни трясли. Проснуться он смог не вот, а только часа через полтора, и то не сразу, а в несколько приемов, просыпаясь от криков знакомого ему голоса, успевая удивиться, сделать пару-тройку спасительных выводов и заснуть снова.
– Саня! Саня! Ты поднимайся давай, некогда спать… – У-у-у-у. – Ах, ты, гос-споди, да что же это…
Владимир Яковлевич буквально готов был плакать, потому что мерзавец Саня бессовестно спал, а без него как раз сегодня, – на самом деле каждый день, но об этом конструктор привычно не задумывался, – было никак нельзя. Грубо выдранный из мертвого, как от дурмана, сна, Берович не вот еще начал соображать, где он, кто он, что вокруг, и на каком он свете. Достоверно только, что именно в тот момент, в один из просоночных эпизодов, ему в голову пришла Великая Организационная Идея, имевшая самые, что ни на есть, серьезные и важные последствия. Если точнее, то идей было аж целых две. Во-первых, ему пришло в голову, что, когда человек не справляется один, ему может очень пригодиться подручный для дел не самых сложных, но требующих времени. Оригинально, не правда ли? Второй компонент идеи был куда как более революционным по сути и последствиям:
– Слышь, Владимир Яковлевич, – спросил он голосом, еще невнятным и сиплым со сна, – у тебя на примете какой-нибудь аккуратной девушки нет?
Конструктор, которому идея с подручным тоже как-то не приходила в голову, был настолько ошеломлен диким вопросом, что выпучился на Саню, как на привидение и отреагировал вполне здраво:
– Чев-во?!!
– Девушки, говорю, нет на примете? Аккуратистки. Такой, знаешь, у которой в тетрадке ни единой помарочки, почерк красивый и одни пятерки? Учебники обернуты, и на столе порядок не от мира сего?
Дело в том, что кандидатура, идеально соответствующая этим строгим требованиям, у него, как ни странно, была. Другое дело, что он искренне не понимал, о чем идет речь и сомневался, не бредит ли Саня спросонок.
– Зачем тебе?
– Отмерить. Взвесить. Смешать. Заложить. Проверить. При этом не ошибиться и не понебрежничать. Пока я другими делами занимаюсь. Понимаете, тут ума не надо, а у меня на эти все дела большая часть времени уходит.
Это… меняло дело. Более того, на самом деле решало даже не одну, а сразу несколько проблем. К Владимиру Яковлевичу явилась младшая сестра, школьная учительница, мужа которой, толстовца с идеями аж дореволюционной закваски, забрали с концами, а из дому – выгнали. Нельзя сказать, чтобы он был так уж счастлив этим обстоятельством, а уж о жене даже и говорить не хочется, но в те времена родством еще считались. Вот у сестры была дочка пятнадцати лет, как раз то, что надо. Тихая до бесшумности аккуратистка и чистюля, круглая отличница сразу после восьмилетки. Вот и пристроим заодно, чай не медаль, чтобы на шее-то висеть. Заодно – биография рабочая будет, не подкопаешься.
Результаты от привлечения к делу Карины превзошли все ожидания. Те рутинные операции, требовавшие, тем не менее, предельной точности и педантизма, и которые отнимали у него больше всего времени, она выполняла попросту лучше него. Меньше делала ошибок. А еще она очень многое делала гораздо, гораздо быстрее. В итоге такого разделения труда они теперь успевали сделать не в два, не в три, а как бы ни в четыре раза больше, и со временем этот показатель только рос. Он – придумывал и ладил оснастку под все большие разовые закладки, потихоньку увеличивал количество емкостей, размножал Кое-Что, исходя из многократно возросших потребностей, составлял рецептуры, – и мог больше ни о чем не беспокоиться. Некоторое время он размышлял на тему: не залезть ли ей под юбку? Но, по зрелом размышлении, решил воздержаться, поскольку девка весьма устраивала его как напарник, для дела, но была непонятной, не похожей на слободских, насквозь изученных, так что Саня не знал, чего ждать в ответ на его посягательства. Впоследствии такого рода расчетливость, умение не делать глупостей из пустого каприза, стало одним из основных его качеств, выделившим его из многих и многих. Кроме того, она не шибко ему понравилась, как девка. Худосочные малолетки были не в его вкусе, а в те времена, на дешевых харчах, да впроголодь, девушки созревали куда позже, чем в иные эпохи. Поэтому держал себя Саня с Кариной до крайности сдержано, даже сурово, а в разговорах с ней был предельно немногословен и говорил только по делу. Тут они сошлись, поскольку Карина Сергеевна, мягко говоря, тоже не была болтушкой
Сам того не замечая, он вел себя с подручной так же, как конструктор вел себя с ним, то есть как с вещью, но с некоторым различием: он отдавал ей должное, понимая, что полноценную замену этому оборудованию сыскать будет не так уж просто.
Предсерийная партия двигателей прошла эксплуатационные испытания, получив самую лестную оценку пилотов и техников на аэродромах. При этом тот факт, что моторы эти не ломались, по сути, никогда, опять-таки не заметил никто. В том же ряду психологических явлений лежит и тот факт, что, когда в ходе испытаний случайно избранных моторов партии на предельную длительность штатной работы ресурса определить так и не удалось, его нарисовали с потолка, записав в паспорт цифру в высшей степени достойную, но все-таки вероятную. А вовсе не то, что получилось на самом деле, когда испытания «при нормальной эксплуатации на максимальном режиме» пришлось остановить, поскольку был израсходован весь лимит горючего, отведенного на испытания: с поразительной простотой нравов выставили именно то время, за которое выработали горючее. К этому времени на Саню работали уже три девочки: одна – бывшая одноклассница Карины, Аня, другая из параллельного класса, и звали ее Катя. В результате такого, достаточно радикального расширения коллектива, у Сани возникла неприятная по его складу и ненужная проблема: как быстро обучить хороших, старательных, аккуратных, но совершенно не умеющих ничего девок? В те времена из Александра Ивановича был еще тот педагог: к тому, что он вовсе не понимал, какие именно трудности могут возникнуть у обучаемого, добавлялся еще и возраст, – ну не способен серьезный, ответственный двадцатилетний человек поучать тех, кто на два-три года моложе! Для этого нужна изрядная доля цинизма, а этого пока не было и в помине. Просто неоткуда взять. Потом он, понятно, научился учить, но это произошло много позднее, когда он осознал, что любая учеба тоже есть следование Инструкции, и если человеку, особенно нестарому, дать нужный кусочек ее, то дольше может пойти само собой.
Пока же он, не зная, как справиться с затруднениями, напряженно мыслил, и однажды спросонок у него промелькнул, вроде бы, намек на решение. В памяти его всплыл некий образ времен незабываемой поездки с отцом в Николаев. Он, как мог, объяснил руководству, какого рода специалист нужен ему позарез. Там смутились и даже усомнились, но Родине были нужны моторы, и, отметив где надо, идеологически неправильный запрос, извлекли из поселения в Южном Казахстане то, что требовалось. Яков Израилевич Саблер как раз и был тем потомственным, в четвертом поколении провизором, который был нужен Сане. С приходом этого улыбчивого старичка проблемы с обучением закладчиц ушли навсегда. Наряду со многими, многими другими. Безнадежный скептик, Яков Израилевич довольно быстро округлился после ссылки и, одновременно с этим, вполне восстановил столь присущее ему бесцеремонное благодушие манер.
Тем временем, Владимир Яковлевич, попав в элиту советских двигателистов (тогда было принято говорить попросту «в обойму» – довольно многозначительный термин, не так ли?), обладал теперь куда большими правами и перестал заморачиваться формальными ограничениями. Опытное производство исподволь стало «Опытно-Поточным» (в просторечии «опытно-пыточным», что бы ни значило это загадочное название. Берович стандартизировал производство теперь уже оснастки своей выдумки, убедил начальство раскассировать по другим производствам ставшие ненужными станки, пронумеровал и упорядочил рецептуры, а номенклатуру довел до полной. Когда перестало хватать электричества, просто сделал новый генератор, очень хороший, потому что на сердечники пошло не простое железо. Припомнив прошлые штудии и уточнив в новых занятиях с Кое-Чем, он узнал, какое именно. И, в общем, не ошибся. И еще – подходящее генератору горючее из деревянного «швырка», которого на стройке хватало.