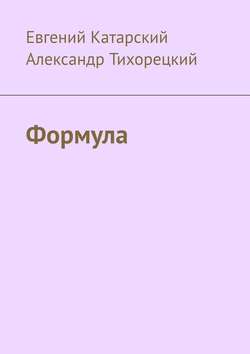Читать книгу Формула - Александр Тихорецкий - Страница 4
II
ОглавлениеБельский видел себя одиноко стоящим на какой-то незнакомой станции метро. Тишина, безлюдье. Из громадных люстр под высоченными сводами струится холодный свет, тускло мерцает кафель на стенах, гигантские колонны громоздятся, нависают. Что-то должно произойти, что-то важное и значительное. Сердце дрогнуло, сжалось, взгляд заметался — зачем, почему он здесь?
Неожиданно, беззвучно вынырнули из обоих тоннелей поезда, остановились в полнейшей тишине; сквозь прозрачность окон, сквозь всполохи электрического света были видны пустые вагоны, сиротливые сиденья, глянцевая симметричность поручней. Поезда замерли пугливыми стрекозами, готовые в любой момент рвануться с места: вот-вот иссякнет, закончится несчастное, обреченное, неразличимое на шкале времени мгновение, растает сиротливой льдинкой на безжалостном солнцепеке, и он останется здесь навсегда, прикованный трусостью к этому …своему капищу, к своему вечному перепутью…
Куда шагнуть? Как не прогадать?
Внезапно, так, что он даже не успел заметить этого, поезда тронулись, поползли, заскользили от перрона. Они уезжали, разгонялись все быстрее и быстрее, исчезая в тоннелях, постепенно сливаясь в одном стремительном, неумолимом движении, и Бельский заметался между ними. Он чувствовал, что вместе с поездами убегает что-то важное, неоспоримое, то, что мучительно, тревожно, безнадежно искал всю жизнь. И он закричал, замахал руками, пытаясь все остановить, вернуть обратно, но голос захлебнулся, утонул в гулкой громаде пространства.
Неудержимыми болидами летели мимо вагоны, увлекаемые могучей силой, и страшный водоворот закружил Бельского, закружил и выбросил прочь — жалкую, бессильную пушинку. В изнеможении опустился он на пол, спиной ощутив ледяную твердость колонны. Все пропало! Разгадка снова ускользнула от него! Он не знал, не мог вспомнить, что это за разгадка, почему так одиноко и неприютно сейчас, но боль, горечь, отчаяние сдавили сердце, громадная, неотвратимая круговерть навалилась, сковала волю, раздавила, разметала, уничтожила; несчастный, обманутый, измученный, он тихо заплакал, уронив голову в ладони, уткнувшись в колени…
Бельский осторожно отнял руки от лица, осмотрелся. Летний, яркий и солнечный день. Желтая полоска пляжа, ленивые блики солнца на воде, далекие очертания города… Он судорожно облизнул пересохшие губы. Где он? Сознание забилось, заметалось, вырвалось из вязкого плена, он увидел перед собой женщину, сидящую на песке, уютно поджавшую ноги. Кто она? Женщина что-то говорит, смотрит на него, словно ждет чего-то; вот она зачерпывает песок в ладонь, медленно высыпает. Песок невесомо вьется рельефами ветерка, рассыпается янтарными ручейками, и Бельский замирает, пораженный внезапно открывшейся красотой, нечаянным, мимолетным очарованием. Хрупкая фигурка, изящное запястье, играющая тысячами блесток золотая дымка…
Внезапный порыв ветра метнулся в лицо, он инстинктивно закрылся руками; минуту назад сухой и воздушный, песок неожиданно стал липким и вязким, впился в кожу, волосы, глаза, заскрипел на зубах. Бельский отплевывался, крутил головой, пытаясь стряхнуть неожиданную напасть, но грубая, шершавая масса расползалась по телу, проникала, жгла, царапала внутренности. Кольцами, словно змеиное тело, боль пульсировала внутри. Поплыли перед глазами уродливые красно-желтые пятна, и отчаяние вновь захлестнуло его. Внезапная догадка блеснула ослепительной вспышкой: вода! вот — спасение! Окунуться в реку, долго, с наслаждением плыть, а потом лечь на спину и замереть так, покачиваясь на волнах, подставив лицо солнцу… Вода прохладная, ласковая, добрая… Она совсем рядом, плещется мелкой волной о берег, призывно манит… Бельский попытался встать, дотянуться до нее, но женщина на берегу заговорила что-то быстрое, что-то категоричное. Она запрещает ему! Ему! Возмущение сперло горло, захватило дыхание. Он снова попытался встать, на этот раз уже более решительно, но голос незнакомки проник в явь, будто преломившись, стал нежным и мягким.
— Что ты? Что ты, милый? Да успокойся же!
Где-то он уже слышал этот голос. Кто это? Боже, какая боль!..
— Пить… Вода… — хочется кричать, но с губ срываются только слабые, бессвязные звуки.
— Нельзя, Сережа… Потерпи… — отвечает удивительный голос и говорит в сторону: — Он очнулся, пить просит.
— Еще один противошоковый, — произносит другой голос, резкий, решительный. – Давай, быстрее…
Прикосновение холодных пальцев, вязкая муть вокруг. Чье-то жаркое дыхание на щеке, знакомые интонации.
— Ничего, любимый, все будет хорошо.
Это же Катя, его Катя! Значит, все-таки, доехали? А где же Мамаев? Коля? Боль тихо таяла, пятясь в прозрачную пустоту, и Бельский открыл глаза.
— Катя… — перед лицом появились глаза, огромные, вишневые, встревоженные; рука нащупала маленькую, крепкую ладонь.
— Я здесь, милый. Видишь, ты уже и заговорил. Все теперь будет хорошо…
— Катя…
— Что, Сережа? Говори, что ты хочешь? — огромные, влажные вишни тонко подрагивают под ресницами, на гладкий лоб легла морщина. Переживает. Бедная, бедная… Надо бы успокоить ее, пожалеть. Но как? Губы совсем перестали слушаться. Так много слов произнесено ими за жизнь, что сейчас они просто отказываются повиноваться. Неужели все? Нет, нет, черт возьми! Не расклеиваться! Что там у него за ранение? Это же не пятнадцатый век, в самом деле! Сейчас приедет врач и сделает что-нибудь. Укол, перевязку, операцию, в конце концов.
А как хорошо начинался этот день! Малиновый рассвет на полнеба, шальная, восторженно-юношеская бодрость, необыкновенное, пронзительное предчувствие счастья… Бледнеют проемы окон, смутный полумрак тает по углам крохотной комнатенки, краски зари ложатся на лицо спящей рядом девушки. Он видит ее локоны на подушке, ровную полоску зубов под чуть приоткрывшимися губами, он даже может расслышать ее дыхание. Это Катя. «Моя последняя удача, последний луч моей зари»… К черту иронию! Ведь он счастлив! Он должен быть счастлив! Любой на его месте был бы счастлив! И в самом деле! он вновь полон жизнью, той свежей, утренней силой, что способна подарить иллюзию молодости, хоть ненадолго вернуть ощущение простоты и ясности, легкости и поправимости. Так чего ж иронизировать? Впрочем, самоуничижение — наилюбимейшее занятие интеллигенции, видимо, даже на смертном одре. Снова! Какой, к черту, одр! — а ну-ка обратно! назад, в утро! Вот так, вот так — будто бы заново — те минуты, снова хочется петь, веселиться, шутить и смеяться, дарить радость, любовь…
Вот они пьют чай с Катей, Бельский подтрунивает над ее заспанным видом, то и дело пытается обнять, а она, смущенная, застенчивая, бросает на него испуганные, из-под ресниц взгляды.
— Ну, ты что? Совсем как ребенок, — она говорит важно, словно учитель ученику, и это еще больше веселит Бельского. Он притягивает ее к себе, целует в лицо, шею, укутанную толстым, колючим платком, и она, зардевшись, торопливо шепчет:
— Нет, ну, в самом деле! Ведь войдет сейчас кто-нибудь…
И вся она, солнечная, румяная, теплая, с темно-русой косой, уложенной в тяжелый венок на затылке, светится от счастья. Все это так неправдоподобно прекрасно, что не может быть правдой, явью, — Бельский чувствует, понимает это, и тут же оскорбленная, обожженная иллюзия гибнет; словно соскальзывая с невзятой высоты, он вновь возвращается в реальность. Здесь глаза Кати потускнели, голос прыгает, ломается, дрожит.
— Ну, что ты, миленький? Еще больно? Ты не переживай… Степан Петрович на телефоне, скорая вот-вот приедет…
Степан Петрович? Кто это? Это что же, так Мамаева зовут? А он и забыл совсем. Вот шляпа! Забыть имя командира! Какой же после этого он боец? Мысли снова возвращаются к случившемуся, но память, словно испугавшись, пятится назад, оттаскивая от роковой черты. Что ж, наверно, это правильно. Лучше пропустить, забыть, отрешиться. Лучше что-нибудь другое, мирное. Ага, вот так. Нащупать лазейку мимо боли, мимо зловещих кружев тревоги и страха. Еще одно усилие, еще один шажок — и вот уже опять утро, опять солнечный свет, и в комнату входит все тот же Мамаев, хмурый, замкнутый, сосредоточенный, с вечной печатью значительности и недовольства на лице, — в точности, как и положено начальству. И пусть война эта — не совсем война, и он — не совсем офицер, и Бельский — не совсем солдат, не может он позволить себе снова быть простым и доступным. Не имеет права. Никогда ему уже вернуться обратно, не стать парнем с рабочей окраины — таким, каким он был всего несколько месяцев назад. Трудягой, главой семейства, обремененным кучей забот, немного плутоватым, разбитным и не дураком выпить. Теперь все это забыто, поросло быльем, теперь все это — в прошлом. Сгинули, растворились в густом вареве времени прежние привычки, и уже никогда не растянутся его губы в лукавой ухмылке, и уже не хлопнешь его дружески по плечу, как бывало. Сейчас он — командир отделения, суровый и справедливый, умелый и грозный, и позывной у него соответствующий — «Мамай», и на плече у него автомат, а на поясе — «Стечкин» и граната.
Иногда Бельскому кажется, что вся эта дисциплина, субординация — неуклюжая экстраполяция детства, продолжение игры в войну, только мальчишки уже выросли, игрушечные пистолеты и автоматы сменились настоящими, а правила игры стали жестче, суровее. Теперь убитые не воскресают где-нибудь в сторонке, вызывая праведное возмущение противной стороны, теперь их хоронят, — будто прячут, отправляют куда-то далеко, в непонятные, обезличенные места, откуда они больше не возвращаются. И эти похороны, и все, что следует за ними — криз горя, мораторий на воспоминания, — будто часть ритуала-постановки, роли, сыгранные правдиво и натурально. Но все равно не верится в реальность происходящего, кажется, погибшие живы, вот-вот появятся, он вновь увидит их лица, услышит их голоса. И все мысли, рожденные этой новой, отрешенно-иллюзорной реальностью, слоятся, складываются в несмелую и неловкую надежду, во что-то наподобие бессознательного заигрывания с рассудком, балансирования на грани здравого смысла и фантазии. Вся жизнь, все слова и поступки представляются лишь долгим спектаклем, чем-то вроде вынужденного, затянувшегося кастинга; обстоятельства раздают людям их роли, и люди вживаются, играют, стараются. И чем лучше и искуснее они это делают, тем больше у них шансов быть успешными, заслужить любовь и уважение окружающих; в этой парадигме соответствие чужим ожиданиям и представлениям — кратчайший путь к гармонии с внешним миром.
И он, и Мамаев — не исключение, каждый получил и исполняет свою роль. Один — строгого начальника, второй — подчиненного; и они оба знают об этом, и все вокруг — тоже знают, и тоже играют и подыгрывают, и ничего здесь уже не поделаешь, — однажды приняв правила, мы уже не в силах отказаться, изменить что-либо.
И война внесла коррективы в эту конструкцию, выправила и отредактировала, подправила-подчистила; близость смерти наложила отпечаток, напрочь содрав шелуху лжи, максимально приблизив к психологической достоверности, — что-то вроде военно-полевой школы актерского мастерства, системы Станиславского. Здесь жили и умирали, любили и ненавидели, хвалили и проклинали, и все — по-настоящему, искренно, без ужимок и гримас; вся игра, любое притворство сводилось к легкой ретуши грубоватого равнодушия, к незатейливым формам нравственного камуфляжа — от хмурой и молчаливой суровости до разбитного, бедового веселья. И Бельский пронзительно, остро чувствовал свою чужеродность, несоответствие всему этому миру. Подчиненный, но чересчур раскован, вызывающе легкомыслен, заносчиво общителен; мастит и респектабелен, но нарочито беспечен, неуклюже циничен, искательно фамильярен. Все это, конечно же, камня на камне не оставляло от имиджа стареющего денди, этакого умудренного жизнью светского льва, сигнализировало о неуверенности в себе, о фальши и лицемерии. Как следствие — приговор, прочитанный им в глазах новоявленных соратников: еще один офисный Рэмбо, столичная штучка в поисках порции адреналина. Вслед за этим — вполне предсказуемые конвульсии самолюбия, злость, раздражение, даже презрение: да кто они такие, эти люди?! почему он должен прислушиваться, угождать, подстраиваться, пресмыкаться?! Но рябь недовольства быстро угасала, злость и раздражение выдыхались, оставляя за собой усталость и пустоту, душевную распутицу, новые всплески рефлексии: он – трус, слюнтяй, интеллигентная мразь и сволочь, такие как он умеют только предавать, отступать, сдаваться…
Он чувствовал себя безнадежным профаном, неудачником, стариком. Иногда казалось, что все ипостаси его лицемерия настолько явны и очевидны, настолько отвратительны и противоестественны, что только нежелание огласки, боязнь вынести грязь мешают окружающим вышвырнуть его вон. С раздражением вспоминал он школьное: «Слишком далеки они от народа…». Нет же, черт возьми! Нет! Это не про него! Он — плоть от плоти, в доску свой, он тоже когда-то терпел лишения, много и тяжело работал, голодал! Но все было тщетно. Ушли в небытие, растворились в дымке времени тени прошлого. Достаток, положение в обществе, сибаритство и пресыщенность аннулировали и лишения, и голодную юность, и годы титанического труда, оставив на память лишь воспоминания, ностальгию, — горстку пепла на дне позолоченной урны.
С горьким сарказмом вспоминал Бельский свое казавшееся ему триумфальным появление здесь. Налегке, в лакированных туфлях и шикарном костюме от известного кутюрье, — прямо из-за стола столичного ресторана, где его застало решение «сходить» на войну. Жалкий фигляр! Скоморох! Возомнил себя Гарибальди и лордом Байроном в одном лице! Кому здесь нужны его кривляния, кого он хотел здесь удивить? Здесь, где люди каждый день борются за право жить, где голод и горе — не эфемерные понятия, где смерть проста и естественна, как глоток воздуха. И все попытки представить свои выходки как трогательные причуды великовозрастного ребенка (еще одна лазейка пронырливого лицемерия), за версту отдавали штампованно-жеманным слюнтяйством, махровым идеализмом; его и самого воротило от себя, а что говорить о Мамаеве и остальных?
Роман с Катей был закономерным продолжением событийного ряда, совместившего его царственно-чувственный эгоизм с прозаической действительностью. При других обстоятельствах Бельский, наверное, даже и не задумался над этим, но атмосфера искренности, инерция солидарности и единства подарили что-то вроде третьего глаза, периферийно-постороннего зрения. Словно со стороны он увидел себя — вальяжного, победительного, самодовольного, — этакого заправского соблазнителя, поразился собственной вульгарности и ничтожности. Будто отражения кривого зеркала, все эти словечки и гримасы, витиевато-франтоватые мемы флирта, еще вчера привычно-естественные и банально-шаблонные, выглядели сейчас аляповатыми, слащавыми гнусностями, пошлыми и отвратительными ужимками.
Что же это было? Маневр судьбы или очередной трофей привычного, отлажено-равнодушного инстинкта обольщения? Непонятное и необъяснимое (вот оно, прозрение! да-да, свет истины, конечно!) нахлынуло, навалилось рефлексией, робостью, смущением; он хотел было прекратить отношения, но неожиданно, впервые за все время пребывания здесь, почувствовал со стороны собратьев по оружию что-то вроде интереса к себе, потепления, дружелюбного, снисходительного понимания. Нет, на первый взгляд все оставалось, как и прежде, обращались с ним корректно, предупредительно, предельно вежливо. Его все так же охраняли и оберегали: всячески ограждали от рисков, даже самых минимальных, ни под каким видом не брали в бой, отделываясь туманными, дежурными отговорками. Иногда за ровными, взвешенными словами, дежурными любезностями ему слышалась некая робость, даже опаска (эзотерическая реминисценция? эхо социальной субординации?), и он сам робел, заливался смущением, словно девушка; он все так же чувствовал себя лишним и посторонним. Но уже что-то изменилось, стронулось, задышала крохотная, едва заметная отдушинка, и он недоумевал: что произошло? что пробило брешь? Матримониальное взяло верх над идеологическим? Эмоции победили рассудок?
И, все-таки, он был рад случившемуся. Принято считать, что легкость побед притупляет их остроту, однако, против ожидания, он не был разочарован. Восторг, упоение, с которыми Катя бросилась в омут любви, заставили на время оттаять, счастливый, польщенный потянулся он к этой наивной, простенькой девушке, сумевшей вернуть ему прошлое, былую, ни с чем несравнимую чистоту чувств. Это было не похоже на прежние романы, где страсть подменялась истеричностью, искренность — расчетливостью, а доброта — снисходительностью. И Катя, нежная, смешливая, застенчивая, совсем не была похожа на холодных и расчетливых женщин, с которыми сводила его судьба в последние годы. Впрочем, червь пресыщения уже успел как следует пораотать, первый порыв вскоре выдохся, и Бельский привычно соскользнул в знакомую плоскость эгоизма, беспечно и снисходительно позволил любить себя. Как должное, принимал он Катины жертвы, пренебрежение условностями, сознательный вызов общественному мнению.
Катя… Наверно, он был несправедлив с ней. Ну что ж, может быть, ранение — прямое следствие этого. Ведь именно благодаря ей получил он возможность отправиться на свое боевое крещение: не мог же Мамаев отказать ему в присутствии девушки. Да… Бельский вспомнил, как исчезло с лица того вечная озабоченность, появились смятение и растерянность. И вместо расплывчатых формулировок, вместо дежурного трепа и словоблудия, маскирующих отказ, — первое, неожиданное «да». Пусть неохотное, пусть сказанное через силу, но самое настоящее «да»!
Сквозь пелену забытья до него донеслись всхлипывания Кати, повторяющееся, как заклинание: «…все будет хорошо…». Да что она заладила одно и то же? Разговаривает с ним, как с ребенком! Впрочем, чего же он хотел? Все женщины одинаковы. И Катя – такая же, не лучше и не хуже остальных.
Бельский хорошо запомнил глаза Коли, когда тот смотрел на нее. Такие глаза трудно забыть. Любит ее Коля, сильно любит. Когда только успел? Что ж, теперь дорога открыта. Да и правильно все, правильно и логично. Коля — молодой, красивый, без шлейфа связей и дурных привычек. Его репутация безукоризненна, он чист как лист бумаги, извлеченный из только что распечатанной пачки. Врага они скоро победят, за такими, как он — будущее. И, правда, чем они с Катей не пара? Ведь ни для кого не секрет (наверняка и для нее — тоже), что пройдет немного времени, и уедет ее теперешний возлюбленный обратно, в свою сытую, благополучную Москву, вновь окунется в бурный водоворот столичной жизни. И нет в этой жизни места для нее, другие дела, другие расчеты правят там. А вся эта романтика — пустое, преходящее; не маленькая — должна понимать, что мужчине иногда нужно встряхнуться, развеяться, разогнать меланхолию. Побывать в горячей точке, повоевать за свободу, пролить немного крови — чем не развлечение? К тому же вполне вписывается в русло самого модного на сегодняшний момент патриотического тренда. А уж роман с поселянкой в этих условиях — хрестоматия, классика жанра. Да и разве мог Бельский повести себя в этой ситуации иначе? Он, дамский угодник и баловень судьбы, живая легенда, за которым вьется длиннейший шлейф скандальных интрижек? И она — не в накладе, — не каждой удается вот так сразу положить в копилку связь со знаменитостью. Это только повысит самооценку, добавит пикантности будущим романам. Так что, никто не в проигрыше. Никто.
Так бы и было, если бы не это глупое ранение. Эх, черт! Угораздило же его! В душе шевельнулась робкая надежда. А может, обойдется? Бельский постарался заглушить надежду, загнать обратно в зыбкую темноту, но бдительная тревога уже колыхнулась смутным отголоском. «Пушкину тоже казалось, что рана его — пустяшная, а как все вышло?» Бельский выругался про себя. Еще и Пушкина приплел! Все! Надо остановиться! И с каких это пор он стал подонком? Все, что пронеслось сейчас в голове — бред, чушь собачья! И о Кате, и о Коле, и о нем самом… Нет, надо возвращаться обратно, в реальность, а то черт знает до чего можно додуматься!
Мысли совсем спутались. Почему же в голову лезут одни гадости? Нет, это был какой-то провал, морок, беспамятство. Катя дарила ему свою любовь, пусть и недолго, была с ним; она — часть его души, его сердца. Зачем оскорблять чувства этой девочки? Пусть ей не достает светского шарма, пусть она не может изъясняться высоким слогом и не понимает ничего в его жизни. Его жизнь. Тоже мне, сокровище! Клубок интриг, подлостей, измен и злословия — ей это зачем? Ей, чистой, доброй, светлой? Она из другого мира, она не сможет жить во лжи и грязи. Бельский невольно поморщился: сквозь пелену забытья прокралась-просочилась гаденькая мысль. Так что? Все проходит? Нет, не так — Соломон был слишком самолюбив. Правильнее будет: у всех проходит. И у нее — тоже пройдет.
И снова — сравнение, противопоставление. И снова — некорректное. Она, они… Как можно сравнивать людей? Для того, чтобы это сделать, надо хотя бы научиться измерять их. А как? Как можно измерить человека? Вот он, Бельский, например, все жизнь этому посвятил, и что? Тысячи экспериментов, тонны сожженных реактивов, кипы исписанной бумаги, а на выходе — пшик, зеро… Нет, конечно, в активе — нашумевшие открытия, диссертации, научная школа, но все это — мелочь, чепуха, планктон. К самому важному, к тому, о чем мечтал с детства, он так и не приблизился. Человек, человек, как совокупность процессов, тождеств, смыслов, как свидетельство и символ бытия, так и остался для него загадкой. Как облечь его в форму строгой математической зависимости, как вычислить счастье, любовь, прощение и раскаяние? Да и подвластно ли это разуму? Да, черт возьми! Тысячу раз — да! Все, что окружает нас — может и должно быть сформулировано самым точным, самым бескомпромиссным языком — языком математики. Скоро уже сто лет, как Эйнштейн заключил Вселенную в свои уравнения, так что вечный стыд и позор на голову любого сомневающегося. А то, что у него, у Бельского, ничего не вышло… Ну, так что ж? Мало ли костей валяется у храма науки? Просто не хватило таланта. Так, кажется, в этом признаются? А как же надежда? умирает последней? Хороший вопрос… Надежда — топливо мечты, а любой ресурс когда-нибудь, да истощается. Закончился он и у него. Так бывает иногда. Горькая правда? Что ж, врачу тоже приходится делать больно, чтобы вылечить…
Вот, кстати, а где врач? Почему нет его до сих пор? Бельский прислушался к себе. Боль совсем стихла, такое ощущение, что и не было ее никогда. О ранении напоминала только неприятная сонливость и странное оцепенение во всем теле. Он попытался пошевелиться и тут же вновь увидел лицо Кати.
— Что, родненький? Больно? Потерпи, скоро пройдет. Домой пойдем, чай пить будем… – показалось, глаза ее смеются. — Я как раз зеленый припасла, с жасмином, как ты любишь…
Какой чай? Это что, бред, что ли? Прозрачной мутью заволокло все вокруг. Голос раскололся на многоголосие, разлетелся эхом; снова замелькали видения. Пляж, река, женщина… Женщина…
— Кто она?
— Кто, милый? Кто?
— Женщина… Она так славно улыбается…
— Господи! Он бредит, да? Где же скорая?! — гулкие шаги в коридоре, беготня, визг петель.
— Да обстрел там! Вся дорога разбита! И гвоздят – ни одной машины не пропускают!..
— Боже! Ну почему сегодня?!
Бельский видит сквозь прозрачное марево ладонь, прикрывшую лицо, выбившийся из-под платка локон, судорожно вздрагивающие плечи. Нет, надо уходить. Здесь – плохо, здесь — отчаяние. Лучше быть там, за зыбкой пеленой, затянувшей все вокруг — стоит только протянуть руку, коснуться, и она исчезнет, растает, как наваждение. А за ней должен открыться чудесный мир, мир, в котором нет смерти и печалей; там не плачут любимые и исполняются все мечты. Он уже давно ищет путь туда и вот, наконец, нашел. Там ждет его та загадочная женщина, нераскрытая тайна, отправная точка пути, пути в никуда. Почему в никуда? Да, потому что, он — самый настоящий неудачник… Да, вот такой богатый, знаменитый, вполне себе успешный и состоявшийся неудачник. Как же это получилось? Уж и не вспомнить теперь… Остались только полуслепые, бессвязные осколки, смутные образы, полузабытые, мерклые чувства; и мертва память, непроницаемы завесы забвения. А ведь это важно. Это очень важно, черт побери! Уже незачем обманывать себя, бессмысленно обманывать. Столько воды утекло, не пора ли признать собственное поражение? Но, в чем же, в чем его ошибка? А, может, и не было ее? Может, просто слишком высокую планку выбрал? Нет, Господь не пожалел для него таланта, корни — не в этом. Они — там, за вязкой паутиной дней, дел, забот, за круговертью будничной суеты. А, может быть, ранение — его последний шанс? За несколько минут отдать долги, расставить точки, понять то, что оставалось непонятым всю жизнь? Жизнь? Неужели? Нет, не может быть! Не может так поступить с ним судьба! Она всегда была милостива к нему, не к лицу ей подобные подлости. Ведь это верх издевательства — раскрыть тайну перед смертью! Да и глупости все это, совсем другой конец ждет его! Он еще поборется! Еще повоюет! Вот только как вернуться назад? Как отыскать ту самую нить, которая должна была привести к разгадке? Она до сих пор — там, оборванная, поникшая, забытая… Впрочем, кажется, сейчас задача эта вполне под силу; в этом странном, перевернутом мире ему почему-то подвластно все, даже время. Надо только немного постараться, напрячься, сконцентрировать память… Конечно, поздновато, но лучше поздно… Итак, отматываем немного назад, назад… Что у нас тут?
III.
Луч солнца ворвался в окно, широкой золотистой полосой разрезал облако пыли, повисшей в воздухе.
— А-а-пчхи! — тоненько чихнула Ирка Мальцева. Выражение лица в этот момент у нее было испуганное и немного растерянное, глаза — полузакрыты. Она вновь набрала полную грудь воздуха, плечи ее приподнялись. — А-а-пчхи!
– Будьте здоровы! — преувеличенно вежливо отозвался Бельский и на всякий случай посторонился. — Ну, так что? Ближе к телу.
Он присел на краешек парты, изобразил на лице вежливое ожидание. Ирка бросила на него взгляд, полный издевки.
— А то ты не понимаешь! Скоро все на «ЗиЛ» пойдем гайки крутить, и — привет каникулам!
— Ну, а я-то здесь при чем? — спокойствие Бельского быстро таяло. Что-то зловещее угадывалось в Иркиных словах, какой-то подвох, гадкий и подлый. Не зря притащила его в эту заброшенную аудиторию.
— Ой, девочки, я вас умоляю! — Ирка подошла к нему вплотную, ее темные, насмешливые глаза оказались совсем рядом. — Тебе-то, конечно, все равно — отличникам это не грозит! Ты же у нас — надежда науки, гордость факультета. А остальным как быть?
Бельский солнечно и беспечно улыбнулся, но на душе скребли кошки, смутное беспокойство росло с каждой минутой.
И дался ей этот «ЗиЛ»! Нет, работа там действительно — не подарок; по словам старшекурсников, в прошлом году испытавших на себе все прелести столичного гастарбайтерства, — удовольствие ниже среднего: обшарпанная общага где-то на окраине, подъем чуть ли не в пять утра, часа по три в день — только на дорогу. Но это же не повод назначать его виноватым и требовать неизвестно чего. Вот, кстати, чего?
Бельский изобразил на лице неподдельное изумление.
— Ну, а я, я чем могу помочь? — тревога сжалась, рванулась нетерпением: давай, говори уже!.
— Да хоть чем! — Ирка загадочно и как-то оценивающе смотрела на него. — Например, раздобыть мне бронь.
Бельский присвистнул.
— Мне кажется, ты переоцениваешь мои возможности. Господь Бог принимает в другом учреждении.
— А мне не нужен Бог. — недобрые нотки в Иркином голосе заставили отбросить всякое благодушие. — Будет достаточно и тебя. Слабо в лепешку расшибиться ради бывшей девушки?
– Ты что, предлагаешь мне сигануть с небоскреба?
Их взгляды встретились, ее — испытывающий, насмешливо-снисходительный и его — спокойный, выжидающий. Наконец, девушка не выдержала, заговорила, произнося слова медленно и внятно, и каждое слово камнем обрушивалось ему в душу:
— Нет, Белкин, мне этого не надо. Достаточно будет окрутить эту немочку, и дело с концом! Она группу набирает для олимпиады, и те, кого она туда выберет, уж точно ни на какие галеры не попадут. Уговори ее взять меня, и я от тебя отстану. — Бельский молчал, и Иркин тон стал другим, нагловато-вкрадчивым. — Тебе что, попросить трудно? Все равно, ведь у вас с ней шашни какие-то — все об этом только и говорят. От тебя и требуется всего-то — комплиментов наговорить, исполнить пару-тройку дамских прихотей… Когда это для тебя проблемой было? — лицо ее расплылось скабрезной гримасой.
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Бельский внимательно взглянул на Ирку, прислушался к себе. Странно, ни гнева, ни злости, ни даже раздражения, одна презрительная, брезгливая гадливость. Хотелось встать, уйти, бросив ей в лицо что-нибудь резкое, оскорбительное, но что-то смутное, какая-то догадка …одернула, остановила. Она темнит, недоговаривает, под маской хамства и наглости прячется что-то еще. Что-то еще более гнусное и предательское.
Хотя, что может быть гнуснее? Немочка – Маргарита Генриховна Шопенгауэр, преподавательница кибернетики; именно ее предлагалось ему уговорить (и словечко-то какое!) на компромисс с совестью, причем и тон, и подоплека предложения (да, какое к черту предложение! самый настоящий ультиматум!) не оставляли сомнений относительно предполагаемого способа убеждения. Впрочем, все было рассчитано верно: сделать это Марго (так за глаза звали Маргариту Генриховну все студенты) могла легко. Кибернетика — жертва авторитарных репрессий, символ светлого и прогрессивного, растоптанного злобными и невежественными тиранами; она же — горизонт надежды, далекая перспектива прекрасного демократического будущего, — наверно, как-то так рассуждал ректор института, со всем пылом перестроечного энтузиазма выдвинувший дисциплину Маргариты Генриховны на первый план в учебном процессе. Кто знает? Вполне возможно. Впрочем, знающие люди утверждали, что тому была совершенно иная причина, а именно — увлеченность ректора собственно обладательницей драгоценных знаний; злые языки поговаривали, что глава ВУЗа даже получил как-то раз оплеуху от предмета своей страсти (наверно, за попытку транспонирования демократии в отношения между полами), но чего только не скажут злопыхатели?..
Бельский очнулся, вздрогнул от прикосновения — Ирка положила ему руку на голову, преувеличенно ласково проговорила:
— Ну что ты как маленький, Белкин? Гадкая я, да? Подлая? Так жизнь вынуждает. Не все же такие умные, как ты. Некоторым приходиться изворачиваться. И потом, разве я много прошу? Ты ей — немного любви, она тебе — небольшое одолжение. Услуга за услугу – на этом весь мир держится…
Ирка многозначительно замолчала, прищурив глаза, улыбаясь краешком рта. Бельский вздохнул. Надо что-то отвечать. А что? Послать? Но ведь припрятана, припрятана какая-то дрянь у нее в рукаве, сто процентов — припрятана! И, судя по поведению, дрянь эта — мощная, пуленепробиваемая. И, наверняка, продумана до мелочей. А всему виной — его ветреность. Чертов сердцеед! Привык расставаться легко, без сцен и упреков, и от других ожидал того же. Собственно, так и было до сих пор: слабая улыбка сквозь слезы, пара-тройка дежурных фраз, поцелуй на прощанье. Взрослые люди, все всё понимают. И вот, угораздило связаться с юродивой! И самое обидное — ведь связался по глупости, из филантропии, поддавшись всплеску какой-то наивной чувственной щедрости. И все — его …великодушие, сочувствие ко всем угнетенным и обиженным. Атавизм патриотического воспитания, отголоски пионерского детства. Давно, очень давно нужно было понять, понять и вбить себе в голову, что сказки и мелодрамы не имеют ничего общего с реальной жизнью, что все эти попытки восстановления справедливости, исправления и оптимизации судьбы ничем хорошим не заканчиваются! И вот — результат! И можно сколько угодно посыпать голову пеплом, стеная и причитая — никто не поможет, сам во всем виноват. Да-да, кто же знал! Ах, бедная девочка! она отнеслась ко всему так серьезно! И встречались-то совсем недолго, и то, что было, даже романом не назовешь! И он, конечно, совсем не ожидал такого, он, вообще не был готов! А к чему был готов? Чего ожидал? Благодарности? Прощального ужина при свечах? Идиот! Ведь он отлично видел, понимал, понимал с самого начала, что она —